Сертаны. Война в Канудусе
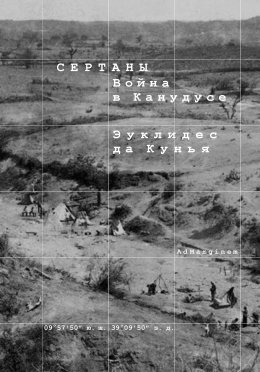
Издано при поддержке Посольства Бразилии в Москве, Фонда Национальной библиотеки Министерства культуры Бразилии и Института Гимараес Роза Министерства иностранных дел Бразилии.
Переводчик выражает благодарность Виктории Миловидовой, Наталье Вихревой и Анастасии Солоповой за поддержку и ценные наблюдения, а также редактору Ольге Окуневой за неоценимые советы и плодотворное сотрудничество.
Перевод
Владимира Култыгина под редакцией Ольги Окуневой
Предисловие
Ольга Окунева
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Предисловие
Книга, которую читатель держит в руках, является классикой бразильской литературы: в 2002 году отмечалось столетие ее выхода в свет. Однако не только по случаю юбилейных торжеств, но и без них произведение Эуклидеса да Куньи продолжает изучаться несколькими поколениями исследователей в рамках самых разных гуманитарных дисциплин, не говоря уже о всевозможных адаптациях для кино– и телеэкрана, театральных подмостков и фестивальных площадок. Научные исследования дополняются инициативами иного характера. Вот уже более двадцати лет два небольших городка в бразильской глубинке (Сан-Жозе-ду-Риу-Парду и Сан-Карлус, оба в штате Сан-Паулу), где в 1898–1901 и 1901–1903 годах в свободное от основной работы инженером время автор составлял и готовил к публикации первое и второе издания книги, ежегодно устраивается недельный фестиваль в честь Эуклидеса да Куньи и его главного сочинения; третий городок (Кантагалу, штат Рио-де-Жанейро) – в котором автор появился на свет – включился в череду таких коммеморативных мероприятий чуть позже, в 2009 году, когда широко отмечалось столетие смерти Эуклидеса да Куньи: там появился его музей, а общественности был представлен обширный научно-просветительский и культурный проект «Сто лет без Эуклидеса».
«Красивое имя – высокую честь» первой и главной книге Эуклидеса да Куньи и у современников, и у потомков обеспечили не столько ее художественные особенности, сколько грандиозность замысла: через рассказ о трагическом событии из совсем недавней истории Бразилии показать особенности формирования бразильской нации и шире – трагедию столкновения цивилизации и варварства. Энергия и страсть, с которыми этот замысел был воплощен, чувствуются и по сей день, даже если сейчас многое видится иначе (зато другое – через сто лет – оказывается созвучным новым временам).
Эуклидес да Кунья открыл само́й бразильской читающей публике мир бразильской же глубинки («серта́нов») с очень специфическим историко-культурным колоритом, показанным через призму масштабного вооруженного противоборства местного населения с правительственными силами. События этого гражданского конфликта (война в Канудусе, 1896–1897) были прекрасно известны современникам и не требовали объяснений. Чуть больше пояснений понадобится современному бразильскому читателю, однако общая канва и сейчас остается для него очевидной. Нам же, более чем сто двадцать лет спустя и на другом конце земного шара, придется подходить к книге издалека – подобно тому как нынешнему бразильцу, который начнет читать перевод «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого, непременно потребуется сделать такое же усилие, только уже на своем месте.
Продолжая цепь неожиданных аналогий с «Севастопольскими рассказами», заметим, что для нас сейчас это художественное произведение, хотя современники откликнулись именно на его публицистичность и называли очерки, составившие цикл, «статьями». Толстой в Севастополе был действующим военным (артиллеристом, командующим несколькими батарейными орудиями), и при этом его рассказы воспринимаются как яркая журналистская работа. Эуклидес да Кунья – по образованию военный инженер, но занимавшийся на тот момент журналистикой – опубликовал несколько эссе о новом этапе военной кампании, приковавшей к себе взоры всей Бразилии, и в числе прочего высказал ряд профессиональных соображений о наилучшей тактике в условиях весьма своеобразной местности. Эти его рассуждения вкупе с яркой полемической окраской статей привлекли внимание издателя крупной газеты: он предложил Эуклидесу да Кунье стать корреспондентом с места событий, и тот получил возможность сопоставить свои исходные представления с реальностью. Итог оказался неожиданным: Эуклидес да Кунья действительно отправлял в редакцию донесения с театра военных действий и вел свой собственный дневник, однако полученные впечатления настолько изменили его картину мира, что книга, возникшая по итогам кампании, получила совершенно иную направленность.
Толстой времен «Севастопольских рассказов» стремился передать точные приметы времени и детали быта солдат и офицеров, действуя в традициях так называемой натуральной школы. Эуклидес да Кунья полагает необходимым, помимо этого (а точнее сказать – прежде этого), представить своему читателю место действия: закрытый мир внутренних засушливых областей северо-востока Бразилии, породивший определенные человеческие типажи и своеобразный уклад жизни. Толстой уже позже, в «Войне и мире» (а в полной мере – в публицистических произведениях конца жизни), станет высказывать обобщающие суждения об истории, столкновении воль, роли личности, прогрессе, религии. Эуклидес да Кунья в своем стремлении объяснить читателю истинный характер совсем недавно закончившейся войны будет прибегать к достойным памфлета хлестким формулировкам уже сейчас, в своем первом произведении. Этот душевный жар и «крик протеста», говоря словами самого автора, заставит нас вспомнить Короленко времен Мултонского дела и дела Бейлиса; Чехова и его принципиальную решимость ехать на Сахалин, даже ценой подорванного здоровья; Достоевского и его впечатления от пребывания в Омском остроге. Идущий контрапунктом к памфлетным высказываниям лиризм и поэтичность бразильского автора в описании жестокой и прекрасной природы и сумевшего научиться жить в ее ритмах человека, быть может, напомнят нам о «Дерсу Узала» Арсеньева; этнографические зарисовки повседневных занятий жителей и их специфической религиозности – «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского, запечатлевшего скрытый от внешнего взгляда уклад заволжских старообрядцев.
Разумеется, весь подобный ряд «сравнений новых, сочетаний странных» есть лишь вольные ассоциации; их задача – развеять возможные сомнения русскоязычного читателя в том, что ему под силу будет проникнуть в мир сертанов – иссушенных яростным солнцем плоскогорий северо-востока Бразилии, что отделены от океанского побережья горными цепями. Эти края разительно отличаются от расхожих представлений о бразильских тропиках и амазонских джунглях – но ведь и Русский Север, европейское Нечерноземье, Уральские горы, Поволжский регион, предгорья Кавказа и южнорусские степи тоже оказываются за пределами стереотипов об одних лишь сибирских морозах…
«Сертаны» Эуклидеса да Куньи – произведение в высшей степени полифоничное и сочетающее в себе черты многих жанров. Оно начинается с весьма дотошного описания геологического строения, особенностей рельефа и сопряженных с ним климатических условий того края, где будет разворачиваться действие (но развернется оно еще не скоро). С тем же тщанием будут разобраны прочие физико-географические особенности, за которыми последует рассказ о специфичной флоре и фауне края. Впрочем, подобный научный ригоризм (автор настаивал на его важности для воплощения своего замысла) будет оттенен поэтическими зарисовками и описанием драматических контрастов в состоянии природы. Этот раздел под названием «Земля» занимает не менее четверти книги!
Второй раздел – «Человек» – все еще остается повествованием эрудита, над которым время от времени верх берет полемист: исторический очерк заселения края и особенностей формирования там смешанного населения будет подан в своеобразном ключе. Такими широкими мазками набрасывать картину исторического процесса формирования народов могли бы Костомаров и Ключевский (и их исторические работы, отличавшиеся художественно-публицистическим стилем, имели столь широкий общественный резонанс). В этом же разделе появляются те персонажи, которые пока что всесторонне описываются, но действовать будут позже: жители сертанов и бродячий проповедник Антониу Консельейру, которому суждено было в дальнейшем стать духовным лидером огромной общины верующих, оказавшихся в состоянии острого конфликта с государственными властями. Важно подчеркнуть, что все эти персонажи не являются вымышленными (в случае жителей сертанов речь идет о собирательных образах), хотя автор прибегает к литературным приемам для их характеристики.
Наконец, третий раздел – «Битва» – сводит воедино обстоятельства места и действия. Эуклидес да Кунья пишет о войне в Канудусе: ожесточенном противостоянии той самой общины последователей Консельейру и правительственных сил, посланных подавить то, что было сочтено мятежом против государства. История трех карательных походов, неожиданно оказавшихся провальными для экспедиционных войск, и четвертого похода – долгого, сложного и лишь с огромными трудностями выполнившего свою задачу – не является вымышленной, но подана так, что читатель с замиранием сердца следит за всеми перипетиями, а автор не забывает подогревать его нетерпение: обрывает повествование на самом драматичном месте или эффектной финальной фразой нагнетает напряжение. Некоторые фрагменты этого раздела отличаются настоящей кинематографичностью: последовательной сменой планов, показом действия с высоты птичьего полета, чередованием акцентов то на коллективном, то на индивидуальном действии. Здесь же, наряду с художественными описаниями и литературными композиционными решениями, встречаются и выдержки из официальных отчетов, и порой приводящая в отчаяние своей подробностью детализация войсковых маневров, похожая на пересказ топографической карты, и нелицеприятная критика автором стратегических и тактических решений руководства через призму именно военно-инженерного опыта (эти рассуждения оказываются вполне понятны и непрофессионалам, ведь автор подробно описал все вводные в первом разделе книги). Тут же мы находим и цитаты из полевого дневника Эуклидеса да Куньи, и воспоминания от первого лица.
Все это многообразие разнородных элементов могло бы породить эффект раздробленного и мозаичного повествования, но такого не происходит. С одной стороны, трехчастная композиция «земля – человек – борьба» обладает внутренней устойчивостью даже для читателя, незнакомого с мыслью французского историка XIX века Ипполита Тэна о принципиальной возможности упорядочить индивидуальные и неповторимые явления культуры того или иного исторического периода через выделение трех опорных пунктов: национальных особенностей (понимаемых в широком смысле), среды обитания и своеобразия конкретно-исторического момента. С другой стороны, все три части книги пронизывает мощно чувствующееся авторское начало. Оно в настойчивости, с которой автор стремится непременно обосновать свои рассуждения новейшими достижениями науки своего времени (хотя уже первые критики указывали на чрезмерность этих проявлений эрудиции, Эуклидес да Кунья настаивал на принципиальной важности «содружества науки и искусства» и не соглашался сокращать «научную» часть). Это же авторское начало раскрывается в лиризме панорамных зарисовок и сочувствии молчаливому тяжкому страданию – растения, животного, человека – от ужасающих засух, свойственных региону. Оно выражает себя в крике протеста против ничем не оправданной людской жестокости. И оно же – в шокирующих для современного человека суждениях о «сильной расе», пагубности смешения различных рас, движении истории, понимаемом в духе социал-дарвинизма как вытеснение низших рас высшими. Весь этот научный расизм, увы, оказался частью того огромного научного и промышленного прогресса, которым была отмечена последняя треть XIX столетия. Эуклидес да Кунья, погибший в 1909 году, не мог знать, к чему уже через несколько десятилетий приведет методичное и последовательное перенесение расовых теорий со страниц научных журналов на практику, но это знает нынешний его читатель. И этот современный читатель – очень хочется надеяться – проявит здравый смысл и рассудительность, оставляя высказывания автора в его эпохе. Сам Эуклидес да Кунья в схожих обстоятельствах приводил в качестве собственной установки судить явление его собственными мерками слова уже упомянутого выше И. Тэна о древнеримском историке Тите Ливии: «он ‹…› среди варваров хочет чувствовать как варвар; среди древних – как древние» (см. Вступительное замечание).
Впрочем, другое яркое проявление авторского начала уравновешивает эти полемические тезисы, подобно тому как техническая точность в характеристике рельефа сменяется у Эуклидеса да Куньи импрессионистской картиной утра в сертане или плывущих вдаль отзвуков колокольного звона в осажденном поселении, которое только что подверглось интенсивному обстрелу. Речь идет об игре противоречий и парадоксов, из выразительного приема ставшей подлинной несущей конструкцией всей книги. По тексту рассеяны противопоставления (и на макроуровне композиции, и внутри самых крошечных ремарок повествователя), вывод из которых – не тот, что напрашивается на первый взгляд. Такая игра противоречий отражает и внутреннюю эволюцию самого автора, изначально предполагавшего совсем иную тональность книги, и то «своеобразие текущего момента», на которое и стали реакцией «Сертаны».
Эуклидес да Кунья, родившийся в 1866 году в небогатой семье, с отроческих лет испытал на себе сильное влияние республиканских идей. Бразилия в тот момент оставалась империей – единственной монархией в Южной Америке. Все испаноязычные соседи Бразилии уже более полувека были республиками и свой период яростного разрыва с монархией как символом угнетения прошли на этапе войны за независимость от метрополии (Испании), когда с оружием в руках нужно было восстать против еще довольно мощной королевской административной системы. Бразильцам же удалось получить независимость от Португалии в 1822 году почти бескровно, а гарантом свободы стал император, представитель традиционной и консервативной европейской династии. Хотя уже через несколько лет в стране появились конституция, парламент и правовое основание для деятельности политических партий, император оставался неподотчетным законодательной власти, а период политической нестабильности 1830–1840-х годов, когда в Бразилии возникло несколько самопровозглашенных республик, заставил правящие элиты теснее сплотиться вокруг поначалу малолетнего, а затем и успевшего достичь совершеннолетия императорского сына (тот носил то же имя, но с иным порядковым номером). Император Педру II был весьма просвещенным монархом: покровительствовал искусствам, живо интересовался новинками науки и техники, выписывал соответствующие журналы, а в программе его посещений европейских стран (и среди них России, где он побывал в 1876 году) непременно значились академии наук, университеты и музеи. Однако заниматься насущными проблемами обширной империи – в диапазоне от вопроса с сохранявшимся в Бразилии рабством до изменения системы регионального представительства в парламенте в соответствии с новыми социально-экономическими реалиями – императору было не столь интересно. Разворачивавшиеся в стране процессы и события – бравурно начавшаяся, но потребовавшая значительных усилий для завершения Парагвайская война (1864–1870), связанный с ней финансовый кризис, изменение самосознания военного сословия, которое почувствовало в себе силы для политической деятельности, рост республиканских идей, движение за отмену рабства – всё это во многом оставляло Педру II безучастным. Даже закон об окончательной отмене рабства – важнейшее событие для судеб страны – был подписан не им, а его дочерью, принцессой Изабеллой.
Падение монархии и провозглашение республики 15 ноября 1889 года в этих условиях казались закономерными, но стремительность произошедшего в прямом смысле слова с вечера на утро всё равно поразила жителей крупных городов (в глубинке же смысл изменений остался и вовсе непонятым). К этому разительному несовпадению Эуклидес да Кунья – современник и пусть не участник, но хорошо знакомый с важными деятелями военного переворота – будет неоднократно возвращаться в книге. Для него, носителя республиканских идей, недавнего курсанта военной академии, отчисленного за демарш против императорского министра во время посещения тем учебного заведения, произошедшее казалось очевидной победой прогресса над отсталостью и залогом грядущего гармоничного развития страны. Однако непосредственное становление нового режима уже не в теории, а на практике заставило его усомниться в некоторых своих пылких мечтаниях, хотя и не омрачило сам по себе идеал Республики.
Подобно тому как, по словам поэта, «начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни», первые годы существования республики в Бразилии были отмечены несколькими крупными вооруженными движениями как на периферии страны, так и в самой столице (на тот момент ею являлся город Рио-де-Жанейро). Действия правительства, поначалу состоявшего исключительно из военных, то отличались непоследовательностью и сами провоцировали политический кризис (например, решение первого президента, маршала Деодору да Фонсека, распустить парламент в нарушение недавно принятой конституции), то, напротив, оказывались настолько жесткими, что соперничали в этом отношении с теми восстаниями, которые предполагалось усмирить (деятельность второго президента, «железного маршала» Флориану Пейшоту). Эуклидес да Кунья неоднократно упоминает события и отдельные обстоятельства тех лет, дает свои оценки одним деятелям (и воздерживается от этого в отношении других). Его бразильские читатели-современники прекрасно улавливали и намеки, и фигуры умолчания, а некоторые политические портреты, набросанные автором, оказались настолько соответствующими нерву времени, что в дальнейшем прочно укоренились в национальном сознании, и желающим уже в наше время изменить их оказывается нелегко.
Рисуемая Эуклидесом да Куньей атмосфера первых лет существования республики – с лихорадочным оживлением печати и широкой свободой самовыражения – отражает ту сферу интересов, которая притягивала самого автора. Он вдохновенно отдавался журналистской и публицистической деятельности (военная карьера, несмотря на восстановление в рядах курсантов военной академии после смены режима и получение соответствующего диплома, перестала его привлекать). Эуклидес да Кунья в такой степени разделял (а порой и сам подкреплял) господствующие умонастроения, что в 1896 году, когда стали распространяться известия о непонятном брожении на северо-востоке страны, расценил происходящее как «нашу Вандею», опубликовав две статьи с таким названием. В них он четко увязал сопротивление новому режиму в отдаленной бедной бразильской глубинке с повстанческим движением на западе Франции в годы Французской революции. Те Вандейские войны конца XVIII века действительно носили роялистский и религиозный характер; на фоне всеобщей экзальтации первых лет республики в Бразилии легко было усмотреть сходство отдельных внешних признаков, поскольку подробных сведений о природе «внезапного» брожения масс в засушливых и малодоступных регионах северо-востока страны не имелось. Подобно многим современникам, Эуклидес да Кунья поначалу разделял – и публично выразил в печати – то общее заблуждение, согласно которому за волнениями стояли некие могущественные монархические круги, снабжавшие восставших новейшим оружием и представлявшие смертельную опасность для еще не успевшей просуществовать и десятилетие республики.
Читатель сам увидит, как именно Эуклидес да Кунья опишет в дальнейшем эти умонастроения уже после собственного непосредственного контакта с реальностью во всем ее материальном воплощении. Как уже отмечалось выше, публикация двух статей с соображениями относительно начинавшейся войны привлекла к автору внимание издателя газеты «Эстаду ди Сан-Паулу», Эуклидес да Кунья стал ее корреспондентом и отправился к театру военных действий, а увиденное и пережитое значительно изменило его представление о «нашей Вандее». Хотя от подобной метафоры он не отказался, в книге она будет наполнена несколько иным содержанием. Зная эти обстоятельства, читатель увидит и другие отсылки к событиям Французской революции, а в некоторых публицистических отступлениях относительно символического измерения развернувшегося именно в Бразилии противостояния почувствует влияние того писателя, который предложил собственное художественное осмысление некоторых эпизодов Французской революции, – Виктора Гюго.
Читатель встретит на страницах книги и другие напоминания о событиях и деятелях всеобщей истории, от самопровозглашенных пророков первых веков христианства до европейских теоретиков и практиков фортификации и наступательных операций XVII–XIX веков. Он, быть может, удивится неожиданности сравнения чужаков из разных регионов Бразилии, заполонивших старейший во всей стране город Салвадор, с казаками на улицах Варшавы. Но разве не поразителен тот факт, что одну и ту же книгу английского физика Джона Тиндаля Эуклидес да Кунья с упоением цитирует при описаниях причудливого климата в сертанах – и ее же перелистывает в своем поместье Константин Левин (а до того, как известно из дневников, ее читал Толстой)? Станут ли неведомые сертаны чуть ближе и понятней от этого и других подобных мостиков между двумя мирами? Возникнет ли по итогам чтения – отвлекаясь от всей непривычной экзотики, переданной стилем, что до предела насыщен изобразительной и театральной риторикой, – сочувствие к жителям засушливых краев, мужественно сражавшимся и проигравшим в заведомо неравной схватке, в то время как противник, казалось бы, несет с собой светлые идеалы, вот только приобщает к ним силой штыков и пушечных ядер?
Еще несколько страниц – и читателю предстоит стать наблюдателем, что, углубившись на пятьдесят лиг от океанского побережья, «остави[т] позади себя прекраснейший контраст бескрайних равнин и суровых горных гряд». Он окажется на краю сертана – бедного и прекрасного, печального и грандиозного. Давайте же вместе с Эуклидесом да Куньей пересечем его из конца в конец.
Ольга Окунева
Вступительнное слово Родриго Баэна Соареса
Книга «Сертаны» Эуклидеса да Куньи, впервые опубликованная в 1902 году, повествует о событиях 1896–1897 годов, когда при Канудусе в глубинке штата Баия разгорелась кровавая война под предводительством Антониу Консельейру. В свое литературное повествование автор добавляет исторические описания, поскольку произведение создавалось на основе статей, написанных да Куньей в 1897 году в качестве корреспондента газеты «Эстаду ди Сан-Паулу» для освещения этого вооруженного конфликта.
Погружаясь в сложную социальную, политическую и географическую среду северо-восточной глубинки, Эуклидес да Кунья представляет всеобъемлющий и глубокий образ бразильской действительности. Для автора понимание сертана – это понимание самой Бразилии. Критическим взглядом и точным слогом он раскрывает всю сложность сертана, обнажая противоречия и социальную несправедливость того времени. Помимо отображения событий войны в Канудусе, автор стремится понять причины, лежащие в основе конфликта, а также его последствия для Бразилии.
Своей книгой Эуклидес да Кунья установил новый стандарт для бразильской литературы, как по сложности повествования, так и в части анализа антропологических реалий, положив начало предмодернизму (1902–1922), литературному периоду, ставшему переходным от бразильского символизма к модернизму.
Важность «Сертанов» для бразильской литературы сопоставима со значением «Войны и мира» Толстого для русской литературы. Как и Эуклидес да Кунья, Толстой был корреспондентом на войне, в данном случае Крымской, он размышлял и задавался вопросами не только о противоречиях человеческого противостояния, но и о социально-исторических предпосылках того вооруженного конфликта. Это страницы, которые рисуют портреты наших стран и определяют нашу литературу.
Я очень рад, что у российского читателя появилась возможность познакомиться с этим фундаментальным произведением бразильской литературы, и поздравляю переводчика Владимира Култыгина и редактора Ольгу Окуневу с прекрасной подготовкой русского издания текста, известного своей сложностью и специфичностью. Выражаю благодарность издательству Ad Marginem за интерес к публикации и Институту Гимараес Роза за оказанную поддержку.
Родриго Баэна Соарес,посол Бразилии в Российской Федерации
Вступительное замечание
Эту книгу мы писали во время редких привалов на долгом и утомительном пути. Изначально она была посвящена изложению истории Канудусской кампании, но теперь, ввиду задержки публикации по всем известным причинам, она потеряла всю свою своевременность.
Ввиду сего мы придали ей новый вид, сместив акцент с основной темы на другую.
Мы попытались оставить для будущих историков очень и очень бледное представление о наиболее примечательных сегодня чертах низших рас, обитающих в бразильских сертанах[1]. Подгоняет нас тот факт, что нестабильность разнообразнейших факторов и множества их сочетаний вкупе с историческими событиями и достойным жалости душевным состоянием таких рас может в скором времени привести их на грань исчезновения под напором всё растущих требований цивилизации и усиливающегося материального соперничества миграционных потоков, которые начинают глубоко проникать в наши земли.
Бесстрашный жагунсу, наивный рекрут-табареу и простак-кайпира вскоре станут типажами на грани исчезновения или вовсе вымрут.
Они – первые плоды разнообразных кровосмешений, от которых могла бы взять начало новая великая раса. Но им недоставало покоя, равновесия: его не допускает скорость, с которой развиваются в нашем веке народы. Сегодня они в числе отстающих; завтра они совсем вымрут.
Цивилизация проникнет в сертаны, ведомая той непреодолимой «движущей силой Истории», которую превосходящий Гоббса* гений Гумпловича* разглядел в неизбежном сокрушении слабых рас сильными.
Поэтому значение Канудусской кампании состоит в том, что она стала первой атакой в битве, которой суждено быть долгой. Не уменьшает этого значения и то, что эту атаку провели мы, сыновья той же самой земли; ведь, не имея ни определенной этнической принадлежности, ни единых национальных традиций, паразитируя на берегу Атлантического океана на созданных в Европе принципах цивилизации, вооруженные немецкой промышленностью – мы сыграли свою необычайную роль бессознательных наемников. Во многом неизведанная земля едва-едва соединяет нас с этими необычайными соотечественниками; а разделяет нас историческая веха – время.
Та кампания напоминает возвращение в прошлое.
Она была преступлением – в совершенно полном смысле этого слова.
Осудим его.
И, поскольку того требует прямота нашего духа, отдадим должное удивительно ясному представлению Тэна* о честном рассказчике, который смотрит на Историю так, как должно на нее смотреть: «Оттого что он любит только абсолютно истинное, его раздражает полуистина – она то же, что полуложь; его раздражают авторы, которые хотя и не изменяют ни хронологии, ни генеалогии, но превратно изображают чувства и нравы; которые сохраняют лишь очертания событий и совершенно изменяют их окраску; которые списывают факты и искажают смысл; он же среди варваров хочет чувствовать как варвар; среди древних – как древние»[2].
Земля
Глава I
Введение
Центральное плоскогорье Бразилии спускается на южное побережье строгими, высокими и обрывистыми склонами. Оно величаво возвышается над морем; а от Риу-Гранди до Минас-Жерайса оно делится на сравнительно небольшие плато, стоящие вровень с приморскими горными цепями. Но к северу его высота постепенно снижается, и на восточное побережье оно опадает ярусами, или многочисленными террасами, которые отнимают у него былое величие, а его само отталкивают значительно дальше на материк.
Таким образом, человек, огибающий его, направляясь к северу, наблюдает примечательные изменения рельефа: поначалу непрерывная черта высоких гор, утесами нависающая над береговой линией; затем, на участке побережья между Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту, неровный береговой рельеф из изломанных горных хребтов, усеянных острыми зубьями, и подточенный бухтами, и разрываемый заливами, и дробящийся на острова, и рассыпающийся голыми рифами, словно следы давнего сражения, которое ведут между собою море и земля; после, за 15-й параллелью, все неровности рельефа сглаживаются: горные хребты округляются, становятся плавнее контуры их уклонов, разбитых теперь на холмы, чьи склоны едва виднеются на расширившемся горизонте; и вот, наконец, посреди береговой линии штата Баия взор, свободный от горных шор, которые ограничивали перед этим поле зрения, привольно устремляется к западу, ныряя в просторы бескрайней земли, что неспешно раскрывается в далекой ряби плоскогорий…
Подобный географический облик – краткое изложение морфогении* огромного континентального массива.
Это доказывает более углубленное рассмотрение разреза по любому меридиану в районе бассейна реки Сан-Франсиску.
Действительно, видно, что три различные геогностические* формации неопределенного возраста сменяют друг друга или чередуются в непохожих стратификациях, так что форма различных черт земного лика определяется исключительным доминированием одних или сочетанием всех трех.
Сначала появляются могучие гранито-гнейсовые* массы, которые уже на крайнем юге закручиваются в огромный амфитеатр, открываясь великолепными пейзажами, которые в такое восхищение и восторг приводят неопытный взгляд чужака. До са́мого конца (до побережья Сан-Паулу) они идут вдоль моря непрерывной горной цепью, не расходясь по сторонам, словно огромная стена, подпирающая осадочные континентальные формации. Земля смотрит на океан с высоты своих утесов; тому, кто поднимется на них, словно на рампу великолепно убранной сцены, простятся все описательные преувеличения – от гонгоризма* Роши Питы* до гениальной экстравагантности Бокля*; согласно таким описаниям, это уникальный край, где находится самая впечатляющая мастерская природы.
И правда, ни одна другая область не является столь же пригодной для существования и процветания жизни с трех точек зрения: астрономической, топографической и геологической.
Перейдя горы и оказавшись в сверкающей зоне тропиков, мы увидим уходящие на запад и на север широкие плато, чьи горизонтальные слои глинистого песчаника, испещренные выходами на поверхность известняков, или цепи вулканических скал объясняют и несравненное изобилие, и широкие плоские равнины. Земля притягивает человека, и он бессилен ей сопротивляться, она сама толкает его к стремительным рекам, которые – от Игуасу до Тьете́ – сплетаются в оригинальнейшую гидрографическую сеть, бегут от побережья к сертанам*, как будто, рождаясь в морях, они несут его вечную энергию к далеким богатым лесам. Их полноводные русла легко прорезают эти слои и дарят землям за Парано́й широкие, бескрайние волнистые равнины.
А вот к северу природа уже другая.
Она обретает грубые очертания жестких плит обнаженного гнейса*; а уклон плоскогорий ломает террасы Мантике́йры, чтобы впустить в себя Параибу, или взрывается холмами, которые, указав на высокие вершины, возглавляемые Итатиа́йей, ведут высокогорный ландшафт побережья в глубину Минас-Жерайса. Но по мере продвижения в глубину этого штата всё заметнее, несмотря на многочисленные горные хребты, становится то, что к северу они медленно спускаются. Как на высоких плоскогорьях Сан-Паулу и Параны, все реки свидетельствуют об этом неуловимом стремлении: их русла начинают извиваться, пока они, рассерженные, пытаются преодолеть бесконечные трудности гор. Риу-Гранди живою волной пробивает себе путь через Серра-да-Кана́стру; и, ведомые меридианом, открываются впереди глубокие эрозионные долины Риу-дас-Ве́льяса и Сан-Франсиску. В то же время, стоит нам перейти возвышенности, что идут от Барбасе́ны к Оуру-Прету, как примитивные формации пропадают даже на крупных холмах, скрытые под сложным слоем метаморфических сланцев с богатыми вкраплениями – как часто бывает в легендарных золотоносных краях.
Структурные изменения порождают еще более внушительные картины, чем на берегу моря. Это всё продолжение горного края. Природа скал, наблюдаемая у подножия кварцитовых холмов или в нагромождениях итаколумита на горных вершинах, оживляет все элементы рельефа, начиная с массивов, что тянутся от Оуру-Бранку к Сабара́, до края алмазных приисков, расширяясь к северо-востоку на плоскогорьях, идущих вровень с вершинами горного хребта Эспиньясу; тот, несмотря на говорящее название[3], данное ему Эшвеге*, почти неотличим среди величественных вершин. Оттуда к востоку катятся, прыгая водопадами или подскакивая на порогах, все реки от Жекитиньо́ньи до Риу-До́си – они несутся к нижним ярусам плоскогорья, что прижались к горному хребту Айморе́с; там направляют успокоившиеся воды к западу те из них, что спешат к бассейну реки Сан-Франсиску. В ее долине, за лежащими к югу любопытными, испещренными озерами известняковыми формациями Риу-дас-Вельяса, где полно воронок и подземных рек, где открываются пещеры доисторического человека Лунна*, выделяются другие переходы в поверхностном строении почвы.
Действительно, предыдущие слои, которые, как мы видим, покрывают гранитные скалы, исчезают под другим, более современным, толстым песчаниковым слоем.
Новый геологический горизонт являет нам свои оригинальные и любопытные черты. Он пока мало изучен; ему свойственно значительное орографическое* значение, так как владычествующие на юге горные цепи доходят сюда погребенными под мощными недавними слоями. Рельеф тем не менее всё еще приподнят, он расстилается широкими равнинами или набухает ложными денудационными* горами, склоны которых круты, но хребет плосок и горизонтален – лишь на востоке виднеются вершины далеких прибрежных отрогов.
Таким образом, налицо тенденция к уплощению.
Ибо в этом сочетании континентальной возвышенности и низменности архейских формаций горная область постепенно, без резких скачков переходит к широкой зоне северных плоскогорий.
Касающийся окраин Баии хребет Гран-Мого́л – первый пример этих великолепных плоскогорий, которые своим подражанием горным цепям вводят в заблуждение невнимательных географов; и его соседи, Серра-ду-Кабра́л, что поближе, и Мата-да-Ко́рда, что тянется к Гойясу, имеют точно такое же строение. Бороздящие их полости, вызванные эрозией, представляют собою выразительные геологические разрезы. Начиная от основания, они показывают те же породы, которые, как мы видели, сменяют друг друга на долгом пути к поверхности: внизу гранитные высыпания, громоздящиеся на дне долин редкими холмиками; посередине более молодые наклонные сланцы; а сверху на них давят или окружают их в моноклинальных длинах простыни песчаника, которые здесь царят, позволяя метеорологическим факторам ваять из своей податливой поверхности самые причудливые фигуры. Лишенные вершин крупные горные хребты – всего лишь высокие равнины, широкие плато, внезапно прерванные резкими обрывами: это бурный климат наотмашь бьет своим резцом подвижную, пористую землю. Многие века тому назад сюда устремились мощные потоки; сначала они работали как дренажные каналы, постепенно эти каналы превратились в глубокие лощины, а лощины – в каньоны, и так появились наклонные долины, над которыми нависли крутые склоны и скалистые обрывы. Их вид отвечает степени стойкости перемалываемых стихией материалов: здесь упрямо встают над ровной поверхностью последние фрагменты погребенных пород, разворачиваясь высокими утесами, – древние «бразильские Гималаи», непрерывно рассыпающиеся на протяжении веков; впереди более капризные неровные шеренги и круги колоссальных менгиров*, напоминающих расположением громадных, взваленных друг на друга булыжников цепи разрушенных стен циклопических колизеев в руинах или видом величаво нависающих над равнинами уклонов – обломки сводчатых арок, остатки чудовищного купола древней горной цепи…
А в некоторых точках они исчезают совершенно.
Тогда тянутся бескрайние равнины. Взбираясь на сотни метров по приподнимающим их уклонам, которые делают их похожими на подвешенные плато, встречаются друг с другом обширные территории, окруженные бесконечными морями. Это прекрасный край полей на волнистых плато – огромные горные равнины, где живет простой народ скотоводов…
Давайте же пересечем его из конца в конец.
Дальше, начиная с Монти-Алту, эти естественные формации разделяются: прямо к северу песчаниковая порода идет до песчаного плато Асуруа́ вместе с известняком, оживляющим берег большой реки, привязывая его к линии изрезанных холмов – выразительный пример этому мы видим в фантастическом профиле Бон-Жезус-да-Ла́пы. А к северо-востоку, благодаря сильному понижению (поскольку Серра-Жера́л проходит там щитом перед пассатами, которые конденсируются и выпадают ливнями, что несут потоп), восстают, вновь обнажившись, древние формации.
Горы выходят из-под земли.
Вновь уже в Баии появляются рельефы, свойственные краю алмазных россыпей – точно такие же, как и в Минасе, как будто это их разделение или, скорее, продолжение, поскольку всё та же формация, наконец процарапав песчаниковое одеяло, вырастает теми же неровными горными очертаниями столбов Серра-да-Тро́мбы или, к северу, покрывается сыпью гуронских сланцев параллельной горной цепи Синкора́.
Однако, начиная отсюда, ось Серра-Жерала становится прерывистой. Хребет рассыпается. Горная цепь ощетинивается контрфорсами и зубьями, откуда на восток уходят истоки реки Парагуасу, и лабиринт изломанных гор – невысоких, но бесчисленных – вторгается на равнины, покрывает их все. Меняется топографический характер местности, который теперь отражает бессильную тысячелетнюю борьбу стихий, бьющихся меж разрушенных гор; и плоскогорья, прежде опускавшиеся плавно и постепенно, теперь устремляются вниз скачками. Открывает их Сан-Франсиску, что живо вьется к востоку, указывая собою общее преображение земли.
Здесь она более низкая и неровная.
Она опускается к низшим ярусам посреди беспорядочно разбросанных холмов. Последний отрог основной горной цепи – Итиу́бы – дает ей еще несколько неуверенных ответвлений, смыкаясь на севере с Фурной, Кока́йсом и Синкора. На миг она возвышается, чтобы сразу начать клониться во всех направлениях: к северу четырехсоткилометровой равниной вдоль реки Собради́нью; к югу рассеянными осколками, докатывающимися до Мо́нти-Са́нту; и к востоку, ныряя под плато Жеремоа́бу, чтобы проявить себя величественным водопадом Па́улу-Афо́нсу[4].
И наблюдатель, который, пройдя по этому пути, оставил позади себя прекраснейший контраст бескрайних равнин и суровых горных гряд, замирает в изумлении…
Вход в сертан
Он находится на северном возвышении континентального массива.
С одной стороны в двух секторах его ограничивает полукругом река Сан-Франсиску; с другой – изгибается к юго-востоку петляющая река Итапикуру́-Асу́. Вдоль медианы, почти параллельно бегущей между ними, виднеется так же явно стремящееся к атлантическому побережью русло другой реки – Ваза-Баррис, которую индейцы тапуйя* называли Ирапира́нгой; участок ее течения от Жеремоабу к верховьям – мечта картографа. В самом деле: на поразительном наклонном участке, где к морю или к водопаду Паулу-Афонсу спускаются изрезанные оврагами рампы плоскогорья, нет условий для нормальной гидрографической сети. Там потоки иссякают хаотическим образом, что придает этому уголку Баии ее исключительный дикий облик.
Terra ignota[5]
Нужно понимать, что до сих пор у нас имеется чрезвычайно мало точных и детальных сведений об этом огромном участке земли, размерами почти равном Голландии (9º11´–10º20´ широты и 4º–3º долготы). Лучшие из наших карт дают скудную информацию, и описываемая область представляет собой белое пятно – Terra ignota, куда устремляется непостоянная река и где заплутала тень горной цепи.
Ибо те поселенцы, что продвинулись дальше всего, в южной части интересующего нас края переправились через Итапикуру́, осели в миниатюрных поселениях – таких как Масакара́, Ку́мби или Бон-Консе́лью, на фоне которых пришедший в упадок Монти-Санту кажется большим городом; на юго-востоке преодолели хребет Итиуба и разошлись у его подножия по поселкам на берегу пересыхающих ручьев, окружив себя редкими скотоводческими фазендами, сходящимися к безвестной деревушке – Уауа́; а на севере и востоке остановились на берегах Сан-Франсиску, от Капин-Гро́ссу до Са́нту-Анто́ниу-да-Гло́рии.
Только на последнем направлении имеется старинный городок – Жеремоабу, памятник самого далекого проникновения в эти края, которые оставались за пределами движения волн переселенцев, шедших вглубь континента с побережья Баии.
Те волны, что доходили досюда в поисках короткого пути, откатывались, не оставляя никаких следов.
Никто здесь не задерживался – потому что не мог. Чу́дной территории менее чем в сорока лигах от старой метрополии[6] было суждено полное забвение на всём протяжении нашей четырехсотлетней истории[7]. Ибо, когда бандейранты* с юга оказывались на ее краю и взирали на нее потом со склонов Итиубы, чтобы устремиться в сторону Пернамбуку и Пиауи, а потом и Мараньяна, экспедиции с востока отступали перед неприступной преградой – водопадом Паулу-Афонсу – к Парагуасу́ и другим рекам к югу, чтобы там найти более легкий путь. Эти земли остались непроницаемыми, недоступными, непознанными.
Дело в том, что даже тех путников, что шли по последнему, кратчайшему маршруту, приводил в изумление необычный облик полной неожиданностей земли.
Оставив побережье и устремившись прямиком на запад, они через несколько лиг теряли запал, присущий отважным «энтра́дам»*, а мираж изобильного края исчезал. Начиная от Камассари́, древние формации покрываются скудными пятнами третичного периода, чередующимися с маленькими меловыми бассейнами, осыпанными песком Алагои́ньяса, которые еле скрепляют на востоке известняковые высыпания Иньямбупи. Окружающая растительность меняется, как будто под кальку копируя эти геологические изменения. Леса редеют или оскудевают, чтобы наконец, осыпав горные хребты последними редкими деревьями, совсем исчезнуть; но и эти леса, встречающиеся на пути всё реже и реже, сбиваются в кучки или спасаются на возвышенностях посреди голых полей, где характерная флора – гибкие кустарники вперемешку с алыми бромелиями – занимает собою обширные территории, не желая уступать мощной растительности Пожу́ки на плодородной почве разрушенных слоев мелового периода.
Начиная отсюда, вновь проявляются бесплодные третичные породы, покрывая собою более древние участки, которые всё еще превалируют в центральной части Серриньи. Холмы Ло́песа и Лаже́ду гордо возвышаются бесформенными пирамидами из округлых и гладких валунов; и далее возвышенности, огибающие с обеих сторон подножия Серра-да-Сауди и Итиубы вплоть до Вила-Нова-да-Раиньи и Жуазе́йру, имеют те же самые очертания потрескавшихся склонов, обнажающих изломанный горный скелет.
Возникает впечатление, что мы обходим неприветливый обрыв высокого плоскогорья.
Действительно, мы идем по дороге трехвековой давности, исторической тропе, по которой суровые покорители сертана шли вглубь континента.
Дорога осталась какой была.
И цивилизация позже не изменила ее, проложив вдоль следов, оставленных бандейрантом, рельсы железной дороги.
Ибо дорога из Баии к Жуазейру в сто лиг длиною, от которой к западу и к югу отходят бесчисленные ответвления, никогда не имела достойной альтернативы к востоку и к северу.
Поселенцы, шедшие по ней к Пиауи, Пернамбуку, Мараньяну и Пара, разделялись соответственно своей цели в Серринье. И продолжая путь к Жуазейру, и сворачивая направо по королевской дороге к Бон-Конселью, которая с XVII века приводила их к Санту-Антониу-да-Глории и к Пернамбуку, и те и другие неизменно обходили стороной неуютные и пустынные земли, избавляя себя от мучительного путешествия.
Таким образом, две эти дороги, пересекающие Сан-Франсиску в отдаленных друг от друга пунктах – в Жуазейру и в Санту-Антониу-да-Глории, с тех времен являлись границами пустыни.
На пути к Монти-Санту
Тем не менее путник, который решится пересечь ее, отправившись из Кеймадаса к северо-востоку, поначалу не будет удивлен. Петляющая Итапикуру питает состоящий из многолетников растительный покров, а скалистые овраги Жакуриси укрыты небольшими рощами. Песчаная почва и плоский рельеф дают возможность беспечного и быстрого продвижения. По обе стороны дороги расстилаются невысокие плоскогорья. Камни, выходящие на поверхность горизонтальными плитами, не двигают почву, царапая легкое одеяло покрывающих ее песков.
Однако затем пейзаж постепенно становится всё более засушливым.
Выйдя из узкой полосы идущих вдоль последней реки серраду*, мы попадаем в зону «агре́сти»* или, как говорят местные жители, в самый жар: нас встречают кустики, едва стоящие на окаменевшей земле в окружении скудной растительности, над которой одиноко вырастают жесткие гиганты-цереусы*, делая ландшафт похожим на окраину пустыни. Так, медленно и внушительно, перед нами предстает облик этого негостеприимного сертана…
Поднимемся на любую возвышенность – и увидим его или различим вдалеке, на печальном фоне монотонного горизонта, покрытого неизменным обожженно-бурым пятном каатинги*, – и никаких более оттенков…
По дороге еще встречаются более плодородные места, и на тех отрезках, где имело место разрушение гранита, приводящее к появлению песчаниковых пятен, видны зеленые кроны оурикури*, стоящие на берегах ипуэйр*, – краткие исключения из всеобщей сухости. Такие мертвые озера, согласно образной этимологии наших коренных народов, говорят путешественнику о необходимости сделать остановку. Как колодцы и «калде́йры», где земля проваливается, они – единственные места передышки на полном тягот пути. Это настоящие оазисы, но вместе с тем они нередко имеют мрачный вид: прячутся в низменностях между голых холмов, охраняемые грустными и голыми цереусами, точно призраками деревьев; или в лощинах между плато, заметно выделяясь на пыльно-бурой земле зелено-черной пленкой одноклеточных водорослей.
Некоторые из них свидетельствуют об усилиях сыновей сертана. Их окружают, словно плотины, сухие кладки топорных стен, которые напоминают древний памятник. Как правило, они – общее достояние тех, кто преодолевает тяготы свирепого климата, – были созданы в далеком прошлом. Их построили люди, что впервые отважились углубиться в эти края. И они стоят нерушимо, так как житель сертанов, даже идя налегке, всегда имеет с собой камень, чтобы укрепить хрупкую постройку.
Но стоит покинуть эти места – несовершенную копию римских акведуков, останки которых еще стоят в Тунисе, – и мы идем по иссушенным землям. И как бы быстро ни шел путник, особенно по отрезкам, где друг друга сменяют невысокие гряды одинаковой формы и одинакового расположения, ему будет казаться, что он стоит на месте. Перед ним предстают одни и те же картины, один и тот же неизменный горизонт, отдаляющийся по мере продвижения. Изредка, как, например, в маленьком поселке Кансанса́н, встречаются крупные участки плодородной земли, покрытые зеленой растительностью.
Тут и там разбросаны бедные жилища; некоторые из них заброшены, так как их оставили из-за засухи; другие представляют собой руины; все они своим жалким видом усугубляют меланхолию пейзажа…
Однако вблизи Киринкинкуа́ почва приходит в движение. Воздвигнутое там небольшое поселение уже возвышается на просторной гранитной поверхности, а если посмотреть на север, мы различим совершенно другую область – вздымающуюся долинами и горными хребтами, чьи зубья уходят далеко-далеко. Впереди встает дыбом хребет Монти-Санту, полная противоположность округлым очертаниям, которые изобразил знаменитый Марциус*: могучая вершина из бело-голубоватого кварцита возвышается над массой гнейса, образующей поверхность почвы. Его огромный уклон, испещренный обнаженными воздушной эрозией линиями пород, напоминает монументальную куртину. Хребет венчает высокая вершина, застывшая в направлении 13-й параллели к северо-востоку прямо над городком, что притулился у его подножия. Она находится прямо посередине горизонта. Тогда можно заметить, что сглаженный к югу и востоку рельеф продолжает вздыматься неровностями к северу.
Поселение Калдейра́н, что в трех лигах впереди, стоит на краю этой метаморфической возвышенности; и, пройдя по ней и преодолев ее, мы, наконец, погружаемся в душный сертан…
Первые впечатления
Его вид впечатляет.
Там структурные данные почвы вкупе с сильнейшей жестокостью внешних факторов создают фантастический рельеф. Сезоны бурных наводнений, внезапно сменяющие в этом чрезмерном климатическом режиме затяжные периоды солнечного нагрева, издавна воздействовали на самые древние залежи последних гор и разрушали утесы, вымывая из них все жизненные силы (все кристаллические образования, все жесткие кварциты и известняки, которые встречаются теперь повсюду, еле прикрываемые скупой флорой) и создавая столь истерзанный облик пейзажа.
Ибо то, о чем они говорят – сбитою землею, почти обнаженными холмами, судорогами сухих русел эфемерных рек, узкими ущельями и конвульсиями бедной иссушенной флоры, – есть в некотором роде мученичество земли, которую жестоко избивают изменчивые стихии, перебирающие все климатические вариации. С одной стороны, летом крайняя сухость воздуха заставляет голые скалы в одно мгновение отдать весь накопленный за день жар, вызывая внезапные скачки температуры; отсюда и беспрестанные расширения и сжатия, что разрывают их по линии наименьшего сопротивления. С другой стороны, дожди, которые без предупреждения кладут конец знойным циклам засух, ускоряют эти медленные реакции.
Воздействующие на землю силы вгрызаются в ее внутренности и поверхность, непрерывно разрушая их, пока с неумолимой регулярностью чередуются два единственных здесь времени года.
Обжигающим летом они раздирают ее; бурною зимою подтачивают. От идущего исподволь расшатывания молекула за молекулой они переходят к могучей динамике бурь. Они соединяются, дополняют друг друга. И в зависимости от того, какая из этих сил превалирует – а может быть, они обе действуют одновременно, – меняется облик природы. Те же россыпи гнейса, имеющие причудливую, почти геометрическую форму обтесанных камней и возникающие тут и там в огромном количестве, так что порой кажется, что посреди пустыни стоят руины величественных замков, – встречаются с беспорядочно разбросанными валунами, что едва держатся на узком основании, накренившись, готовые упасть и покатиться, словно качающиеся каменные ящики или гигантские обрушенные дольмены*; а далее они исчезают под нагромождением каменных плит, являя собою прекрасный пример «каменных морей», столь свойственных местам, где царят экстремальные климатические условия. По подножиям сгрудившихся вокруг холмов – что представляют собой останки старых изъеденных плато – рассыпаются то ровными линиями, словно путь схода древних ледников, то как попало широкие полосы булыжников и разбитых плит, свидетельствуя о такой же самой жестокости. Грани обломков, где в кварце еще видны вкрапления кристаллов полевого шпата, вновь свидетельствуют об этом физическом и механическом воздействии, которое, поставив себе на службу химические действующие вещества, что работают в зависимости от нормальных метеорологических условий, разрушает скалы, не трогая их основополагающего строения.
Таким образом, на каждом шагу, повсюду мы видим наглядные черты крайней грубости. Ее отчасти сглаживают расположившиеся в низменностях равнины, чаши древних озер, от которых сегодня остались заболоченные ипуэйры – точный признак пастушьего жилища. Но и их пересекают, словно открытые гробы, русла, как правило, сухих ручьев, наполняющихся водой только в короткий сезон дождей. Большинство из них перегорожено запрудами из тяжелых валунов, между которыми, если нет внезапного паводка, течет тоненькая струйка воды; они – точное повторение уэдов* на краю Сахары. Как правило, края этих оврагов открывают слой темно-синих тальковых сланцев, полированная поверхность которых отражает солнечный свет металлическим блеском, – а над ними находятся покрывающие обширные площади менее стойкие слои красной глины с вкраплениями кварцевых жил, что вторгаются в ее границы. Эти последние образования, может быть относящиеся к силуру, по мере продвижения на северо-восток начинают покрывать собою все остальные, обретая более правильные контуры. Они проясняют генезис невысоких плоскогорий, которые расстилаются, покрытые стойкими манговыми деревьями, до Жеремоабу.
Однако к северу слои становятся всё более наклонными. Одна за другой идут голые горки с крутыми утесами, падающие в прорезываемые периодическими ливнями лощины; а на их вершинах видны те же лезвия кварцевых вкраплений, обнаженных разрушением сланцевой породы.
В жестоком свете сертанов эти жесткие холмы ослепительно-изумительно сверкают, распространяя горячие лучи.
Однако постоянная эрозия нарушает цепочку таких слоев, которые к тому же в других местах исчезают под известняковыми формациями. Но общий вид почти не меняется. Руиноподобный облик хорошо сочетается с другими элементами рельефа. А на отрезках, где эти формации расстилаются по земле, беззащитные перед едкой кислотностью проливных дождей, они изрешечены круглыми впадинами и глубокими расселинами – маленькими, но многочисленными, с острыми краями, усеянными жесткими камешками и рогульками, что не дают по ним идти.
Таким образом, по какой тропе мы ни пойдем, везде нас ждут невысокие, но крутые возвышенности, по которым петляют дороги, когда не идут лига за лигой вдоль пустых русел иссякших ручьев. И даже у неопытного наблюдателя, который оставил за собою, к югу, величественные виды, променяв их на страдальческую картину этой мучимой природы, возникает настойчивое впечатление, что он идет по вдруг обнажившемуся дну высохшего моря, которое еще хранит след бурных волн и водоворотов…
Мечта геолога
Это внушительное сравнение.
Оно вполне в духе несколько романтического натуралиста[8], воображающего, что в третичном периоде здесь долгое время бушевали волны и спорили меж собою течения.
Ибо, несмотря на нехватку данных, позволивших бы сделать такое ретроспективное пророчество – по остроумному выражению Гексли*, – чтобы обрисовать вид этой области в отдаленные эпохи, все доступные нам составляющие подкрепляют подобное смелое предположение.
В его пользу также свидетельствуют: странное обнажение земли; примечательные линии расколотых пород, рассыпанных по склонам гор; плоскогорья, кончающиеся высоким уклоном, напоминающим отвесные уступы на морском побережье; и, до некоторой степени, останки фауны плиоцена, благодаря которым лощины превращаются в огромные кладбища мастодонтов, усеянные осколками скелетов, как будто жизнь здесь подверглась внезапному и смертоносному действию бурной энергии какого-то катаклизма.
Есть и непосредственные данные, которые говорят об этом. Исследования Фредерика Хартта*, действительно, показали явное наличие меловых залежей неподалеку от Паулу-Афонсу; а поскольку составляющие их ископаемые останки идентичны найденным в Перу и в Мексике, а также современны обнаруженным в Панаме Агассисом*, все эти данные ведут к одному выводу: на пограничье обеих Америк существовал океан, соединявший Атлантический с Тихим. Этот океан покрывал большую часть северных бразильских штатов, омывая высшие террасы столовых гор, где богатые осадочные породы свидетельствуют о еще более древней эре – среднем палеозое.
Итак, самые высокие вершины наших гор возвышались над большими островами, указывая на север, в бескрайнее одиночество вод…
Не было Анд: Амазонка, огромный канал между нагорьями Гвианы и континентом, делил их на острова. К югу вырастал массив Гойяса – древнейший в мире, согласно выводам Гербера, массив Минас-Жерайса и часть плоскогорья Сан-Паулу, где в неутомимых трудах сверкал вулкан Калдас; это было ядро будущего континента…
Ибо всё в мире медленно вырастало: гранитные массы возвышались к северу, заставляя общий массив земли неспешно вращаться вокруг оси, которая, по предположению Эмманюэля Лиэ*, располагалась между нагорьями Барбасены и Боливией. Одновременно с началом третичного периода чудесным образом восстают Анды; из вод вырастают новые земли: амазонский канал с одной стороны упирается в стену, превращаясь в самую крупную реку; растут рассеянные архипелаги и сплетаются перешейками, и сливаются; округляются укрупняющиеся очертания береговых линий; и медленно складывается Америка.
Тогда земли крайнего севера Баии, до этого представлявшие собой разделенные водою кварцитовые островки Монти-Санту и атоллы Итиубы, принялись неустанно расти. В этом неспешном возвышении, пока самые высокие покинувшие море участки полнились озерами, вся средняя часть уклона оставалась под водой. Ее огибало мощное течение, о котором сегодня напоминают очертания нашей береговой линии. Оставшаяся часть страны уже успела сформироваться на юге, а течение всё било этот уклон, и точило его, и дробило, относя к западу все вымытые материалы, – оно ваяло этот уголок Баии, пока тот, наконец, не вышел на поверхность, следуя общему движению земли, словно бесформенная куча разрушенных гор.
Тогда там установился пустынный климат, резко противоречащий географическим условиям: сертан раскинулся на уклоне, где ничто не напоминает классические пустыни с плоскими низменностями.
Считается, что этот регион только готовится к Жизни: лишайник еще нападает на камень, оплодотворяя землю. И, упрямо сражаясь с бичующим ее климатом, обладающая редкостной стойкостью флора плетет там свою сеть корней, частично препятствуя вымыванию из почвы всех растворенных элементов – понемногу накапливая их по мере завоевания пустынных мест, чьи очертания она смягчает, – не препятствуя тем не менее безжалостному летнему зною и диким зимним водам опустошать ее.
С этим и связано болезненное впечатление, охватывающее нас по мере перехода через этот неизведанный участок сертана – почти пустыню, – независимо от того, прижимаемся мы к складкам голых гор или монотонно шагаем по обширным пустошам…
Глава II
Взгляд с вершины Монти-Санту
Если смотреть с высоты хребта Монти-Санту на расстилающийся на пятнадцать лиг регион, можно разглядеть, как на рельефной карте, ее орографические характеристики. Мы увидим, что горные цепи, вместо того чтобы уходить на восток между руслами Ваза-Барриса и Итапикуру, являясь их водоразделом, – продолжают свой путь к северу.
Это показывают хребты Серра-Гра́нди и Атана́зиу, которые, поначалу отдельно друг от друга, бегут первый на северо-запад, а второй на север, чтобы соединиться в хребте Акару, откуда сочатся пересыхающие источники Бендего́ и его сезонных притоков. Вместе они примыкают к горе Караи́бас и к хребту Серра-ду-Ло́пес, чтобы вновь набухнуть массивом Камба́йю, от которого отходят маленькие гряды Кошомонго́ и Калумби, а к северо-западу – башни высот Кайпа́на. Вслед за ними гряда Аракати, устремляясь на северо-запад, к утесам Жеремоабу, продолжает прерывистое движение в том же направлении, а после того как в Кокоробо ее прорезает река Ваза-Баррис, поворачивает на запад, разделившись на продолжающие ее Канабра́ву и По́су-ди-Симу. Итак, все эти горы рисуют эллиптическую кривую, с юга закрытую холмом Фаве́ла*, в окружении широкой волнистой равнины, где было возведено поселение Канудус, – чтобы к северу снова опасть и распасться на высокие плато у берегов Сан-Франсиску.
Таким образом, восходя к северу, в направлении точимого Парнаибой нагорья, эта цепь плоскогорий как будто встряхивается, сотрясая весь бассейн Сан-Франсиску ниже слияния с Патамуте́ – всю эту сеть бесчисленных потоков, которые и приблизительно подсчитать не получится, – заставляя Ваза-Баррис принять извилистый вид, от которого он избавится у Жеремоабу, когда повернет к побережью.
Это река без отходящих притоков. Она не отвечает земному наклону. Впадающие в нее маленькие притоки, Бендего и Караибас, катят воды (когда они есть) по своим кое-как вырытым руслам, игнорируя рисунок рельефа. Они эфемерны – существуют только в сезон дождей. Скорее, это дренажные каналы, случайно открытые паводками, – или быстрые потоки, которые, находясь в окружении ближайших элементов рельефа, нередко забывают об общих орографических правилах. Эти реки поднимаются. Они внезапно наполняются; выходят из берегов; русло их становится глубоким, и вода преодолевает препятствие в виде естественного уклона поверхности; несколько дней они текут к основной реке; и исчезают, вновь оборачиваясь извилистыми, каменистыми и сухими долинами.
Сам Ваза-Баррис, река без истоков, на дне которого зеленеет трава и пасутся стада, не петлял бы так, если бы постоянная водность непрерывно и долго выравнивала его. Его роль в качестве геологической силы огромна. Чаще всего он прерывист, разорван на стагнирующие запруды или сух; но приняв в себя пролитые небом дикие воды, он на несколько недель становится мутной и стремительной рекой, чтобы внезапно полностью вылиться, протечь – как говорит его португальское название[9], успешно сменившее старое индейское. Он – волна, падающая с вершин Итиубы, умножающая энергию потока в узких ущельях и стремительно несущаяся по оврагам и между гор к Жеремоабу.
Мы видели, как окружающая природа подражает брутальному климату, превращая ландшафт в сухую поверхность, лишенную богатства горных хребтов, столовых гор и плоскогорий, – делая из него нечто среднее, беспорядочную смесь из различных природных условий: равнины, которые при ближайшем рассмотрении оказываются грядой испещренных гротами горок; холмики, которые окружены настолько глубокими долинами, что кажутся высокими горами, находясь в нескольких десятках метров над поверхностью земли; нагорья, которые при переходе через них обнаруживают хаотические провалы острых ущелий. Нет больше красивого эффекта медленной денудации – изящных уступов, ровных горизонтов и широчайших полей, что придают природным картинам изумительное величие перспективы, в которых небо и земля сливаются в далекой и удивительной диффузии цветов…
Между тем неожиданное зрелище ожидает путника, который, пройдя по этой дороге, усыпанной обломками землетрясений, поднимается по взгорьям близ Канудуса.
С вершины Фавелы
Он восходит на вершину Фавелы. Обводит взглядом пространство, чтобы сразу охватить весь земной простор. И не видит ничего, что было бы ему знакомо. Перед ним – противоположность того, что он видел. Те же самые элементы рельефа, та же самая вздыбившаяся земля, одетая в лохмотья валунов и монотонных каатинг… Но сочетание этих неправильных, жестких черт: кривые морщины ущелий, узлы утесов, гроты перевалов – создает совершенно новый вид. Он почти понимает теперь, почему доверчивые жители сертанов с наивным воображением верили, что «там будет небо»…
Внизу впереди на той же неровной почве возвышался Канудус. Но при наблюдении с этой точки, через призму расстояния, которое сглаживает очертания и затупляет углы, все бесчисленные горки и скалы отходили на второй план, создавая иллюзию большой волнистой равнины.
А вокруг – величественный эллипс горных цепей…
На северо-востоке простой и мешковатый профиль Канабравы; чуть ближе и выше более неприступная Посу-ди-Сима; на востоке седловины и контрфорсы Кокоробо; на юге прямые гребни Кайпана; к западу убегают отроги Камбайю; а к северу беспокойная гряда Кайпана – все они соединяются, постепенно разворачиваясь громадной кривой.
Видя вдалеке, почти на том же уровне, эти заслоняющие горизонт величавые хребты, наблюдатель испытывает воодушевление, как будто бы он стоит на высоко поднятом плато, на несравненном па́рамо*, что лежит посреди гор.
Внизу, на морщинистой равнине, неразличимые маленькие петляющие ручейки…
Наблюдатель различает только один из них – Ваза-Баррис. Он переходит его извивающееся русло. И видит в одном из изгибов спрятавшуюся в холмах низменность шире прочих. Она вся усеяна бесчисленными крышами, огромным скопищем лачуг…
Глава III
Климат
Из таковых наблюдений следует, что необычайный характер тамошней местности определяется в равной степени геологическими и топографическими свойствами вкупе с прочими физическими факторами, причем из всех из них не представляется возможным выделить наиважнейший.
С одной стороны, топография испытывает сильное влияние заданных изначально условий; с другой, она же приводит к их дальнейшему усугублению; таким образом, они постоянно взаимно влияют друг на друга. Этот замкнутый круг вечного противостояния и определяет мезологическое* величие ландшафта. Всех его аспектов нам еще не под силу описать: слишком мало имеется наблюдений, и мы вынуждены собирать сведения по крохам.
Бывавшие в этой удаленной местности ученые мужи и первооткрыватели не рисковали еще задержаться здесь достаточно, чтобы составить ее описание. Марциус наведался сюда исследовать метеорит из Бендего́*; факт, известный европейским академиям с 1810 года благодаря стараниям Ф. Морнея* и Волластона*. Тем не менее, пробиваясь через дикую местность, названную им desertus australis[10], он едва обратил внимание на удивительную флору, которой дал тревожное латинское название sylva horrida[11]. Те, кто заходил сюда до него и после, спасались, измученные зноем, одними и теми же быстрыми путями бегства. Весьма вероятно, что подобный сертан, до сих пор избегаемый и неизведанный, останется таковым еще долгое время.
Изложим ниже скромные наблюдения. Наш путь через эту местность пришелся на начало жаркого лета, и по этой причине мы наблюдали ее в самую жестокую пору. Наши записки суть не более чем отдельные впечатления, и на их научную достоверность негативно повлияли условия наблюдений, не способствовавшие ясности мышления, которое и без того было сковано вызванными войной[12] эмоциями. Более того, показания единственных имевшихся у нас в распоряжении измерительных приборов, термометра и анероида[13], неспособны дать даже скромное представление о климате, который резко меняется при малейшем изменении ландшафта, из-за чего два пограничных района могут быть совершенно не похожи между собой. Например, климат в Монти-Санту, который выше Кеймадаса, казалось бы, должен (из-за своего промежуточного положения) проявлять характеристики климата двух мест, с которыми он граничит на севере, совершенно отличен от них. Близость горных массивов обеспечивает ему постоянство, как будто создавая посреди континента островок морского климата: тут незначительные колебания температуры, совершенно прозрачное и неизменно чистое небо, удивительно стабильная смена ветров – юго-восточный зимою и северо-восточный летом. Но эта местность невелика; путник покинет ее за сутки независимо от направления пути. Если он направится на север, там ожидает его разительная перемена: температура резко возрастает; синева неба становится плотнее; воздух наливается тяжестью; ветра дуют со всех направлений; а взгляду открываются бескрайние пустынные земли, тянущиеся до самого горизонта. При этом климат здесь крайне капризен: уже в октябре дают о себе знать сильнейшие перепады температуры – от 35º днем в тени до ночных холодов.
С началом лета такие «качели» лишь усиливаются. Одновременно растут и максимумы, и минимумы температур, пока, наконец, разгар засушливого сезона не станет мучительной чередой знойных дней и холодных ночей.
Обнаженная земля, на которой без устали сражаются между собой испаряющая и поглощающая функции составляющих ее материалов, одновременно и накапливает солнечный жар, и избавляется от него, успевая за сутки и накалиться, и заледенеть. Она поглощает ранящие ее лучи солнца, умножает их, и отражает, и искажает; вершины холмов и усеянные оврагами долины создают резонансную камеру, доводя до белого каления искорки песчаника; у самой поверхности земли воздух становится горячим маревом, в котором можно различить все цвета спектра; нестерпимо яркий день ослепляет безмолвную природу, неспособную поддержать жизнь в неподвижной, агонизирующей, утратившей всю листву флоре.
Внезапно, без закатной прелюдии, наступает ночь: тьма как будто одним скачком явилась сюда, перепрыгнув через узкую каемку заката. И весь зной растворяется в пространстве, температура стремительно, головокружительно падает…
Бывает и более бурный вариант. Северо-восточный ветер в вечернюю пору пригоняет пухлые кучевые облака, парящие над обжигающим песком. Солнце пропадает с неба, а ртутный столб стоит неподвижно или – что случается чаще – растет. Ночь наполняется огнем; земля излучает жар, подобно черному солнцу; тело болезненно ощущает невидимые искры; но все эти испарения возвращаются обратно, отраженные щитом туч. Давление падает, как перед бурей; в такие бесконечные ночи, когда весь извергнутый землею жар застывает над ее поверхностью, становится почти невыносимо дышать.
По объяснимой причине, таких ночей не бывает во время пароксизмов летней засухи, когда палящие дни сменяются холодными ночами, делая еще невыносимее жизнь бедных жителей сертана.
Подражая капризным силам, месящим землю, ветра здесь порывистые, непослушные, бунтующие. В те месяцы, в которые сила их нарастает, везде видны приметы того, что они дуют с северо-востока.
Затем ветра оставляют местность в покое на долгие месяцы; воцаряется тяжелый штиль, когда воздух неподвижным спудом давит на ослепительный покой раскаленных дней. В это время восходящие потоки горячего пара незаметно иссушают землю, лишая ее остатков влаги; пока продолжается эта печальная прелюдия засухи, уровень сухости атмосферы достигает необыкновенных показателей.
Необычайные гигрометры
Мы не измеряли ее классическим образом – ее показывали нам необычайные и удивительные гигрометры.
Однажды поздним сентябрем[14], спасаясь на окраине Канудуса от мерной канонады, состоявшей из отделенных промежутками глухих выстрелов, мы взошли на склон, с которого увидели амфитеатр холмов, неровными рядами спускавшихся к долине. Холмы были усеяны густозелеными скоплениями маленьких кустов ико́*, в листве которых то и дело виднелись пушистые яркие цветки; всё это придавало местности вид заброшенного старого сада. Среди них расположилось одинокое дерево – высокая киша́ба*, спутник скудной растительности.
Заходящее солнце раскатывало по земле свою длинную тень, в которой, раскинув руки и обратив лик в небеса, отдыхал солдат.
Его отдых… длился три месяца.
Он погиб 18 июля в бою. Разбитый приклад «манлихера», сбитые на бок ремень и фуражка, разодранная униформа свидетельствовали о том, что он пал в рукопашном сражении с сильным противником. Несомненно, он был повергнут на землю жестоким ударом, оставившим черную гематому на лбу. А когда через несколько дней пришли хоронить погибших, его никто не заметил. Поэтому он избежал братской могилы глубиною меньше локтя, куда бросали павших на поле битвы солдат, чтобы они в последний раз встали в строй. Судьба, забравшая его от домашнего очага, лишив того защиты, сделала ему последний подарок, освободив от непристойного лежания вповалку в отвратительной могиле; три месяца назад она оставила его на этом месте лежать с широко раскинутыми руками и лицом, обращенным в небеса – к горячему солнцу, к ясному месяцу, к мерцающим звездам…
Разложение не коснулось его. Он только увял. На его мумифицированном теле сохранились черты лица, так что, глядя на него, сложно было не видеть уставшего бойца, набирающегося сил от спокойного сна в тени благодатного дерева. Черви – наигнуснейшие преобразователи материи, что раскладывают ее на составляющие, – не нарушили целостности его тканей. Он возвращался в круговорот жизни, не подвергнувшись отвратительному разложению, он просто незаметно иссыхал. Вот он – прибор, беспристрастно, но наглядно демонстрирующий сухость здешнего климата.
Кони, погибшие в тот день, казались чучелами из музейной коллекции: удлиненная тонкая шея, усохшие ноги и жесткие кости на сморщившемся остове.
Один из них, на подходе к канудусскому лагерю, был особенно примечательным. Его седоком был смельчак, алфе́рес* Вандерлей; конь разделил судьбу со своим всадником. Но прежде чем погибнуть, уже раненный конь с предсмертным ржанием карабкался по крутому утесу, пока не застыл, зажатый между скалами. Он даже не успел пасть: его передние ноги прочно задержались на каменной плите… Так он и остался стоять – фантастическое животное, взбирающееся по скалистой лестнице и согнутое в последнем усилии донести парализованную ношу, совсем как живое, особенно под шквальными порывами северо-восточного ветра, который колышет длинную волнистую гриву…
Когда эти внезапные порывы соединялись с восходящими потоками воздуха, образуя бурные вихри и миниатюрные циклоны, еще сильнее ощущалась крайняя сухость обжигающего воздуха: каждая песчинка раскаленной и жесткой почвы излучала во все стороны жар земли, как натопленная печь.
Кроме этого, продолжительные затишья приносили с собою необычайные оптические обманы.
Если в палящий полдень, когда застывшая атмосфера обездвиживала всю природу, встать на вершине Фавелы и смотреть на далекие склоны, то земли не было видно.
Завороженный взгляд терялся в пелене неравно нагретых слоев воздуха, как будто на его пути стояла огромная глухая призма, и оторванные от земли горы казались парящими в воздухе. Тогда к северу от Канабравы, где раскинулась громадная гладь широких равнин, можно было увидеть головокружительное марево, необыкновенное движение далеких волн – удивительный мираж, иллюзию далекого, бескрайнего, расцвеченного радужными бликами моря, на которое падает, то отражаясь, то вновь возвращаясь, ослепительно яркий свет…
Глава IV
Засухи
Канудусский сертан – эталон физиографии сертанов нашего севера. В нем отражены все прочие сертаны с их основными усредненными показателями. Канудус – своего рода общий центр всех сертанов.
Действительно, из-за изгиба полуострова, увенчанного мысом Сан-Роки, соседями «через сертан» оказываются шесть штатов: Сержипи, Алагоас, Пернамбуку, Параиба, Сеара и Пиауи или соприкасаются с сертаном, или недалеко от него отстоят.
Таким образом, вполне естественно, что царящий в них климат проявляется в Канудусе с тою же силой, особенно в самом резком своем проявлении: одно его название уже приводит в священный ужас самых стойких местных жителей – «засуха».
Мы не будем пространно рассуждать об этом феномене – пусть над его происхождением ломают свои головы ученые мужи, перебирая бесчисленные сложные и трудноуловимые факторы. Тем не менее, приведем некоторые неумолимые данные, которые скажут об этом жестоком биче севера.
Действительно, циклы засухи – а со строго формальной точки зрения засуха циклична – следуют столь четкому ритму, что кажутся следствием некоего еще не открытого закона природы.
Впервые это обнаружил сенатор Томас Помпеу[15]. Он наглядно показал, что поры начала засухи в прошлом веке и в нынешнем[16] так удивительно совпадают друг с другом, что легкие расхождения говорят скорее о неточности наблюдений или об их искажении в устной традиции.
Так или иначе, простого наблюдения вполне хватит, чтобы разглядеть совпадение, частота повторений которого исключает любую случайность.
Возьмем лишь наиболее заметные кризисы: засухи XVIII века, 1710–1711, 1723–1727, 1736–1737, 1744–1745, 1777–1778 годов совпадают с засухами века текущего, 1808–1809, 1824–1825, 1835–1837, 1844–1845, 1877–1879.
Это неизменное повторение, будто перенесенное на кальку, подчеркивается также совпадением продолжительных спокойных периодов, хранящих землю от разрушения.
Действительно, если в прошлом веке крупнейший подобный промежуток наблюдался с 1745 по 1777 год, составив 32 года, в нашем веке повторился такой же период, причем, что особенно примечательно, с полным совпадением дат: 1845–1877.
При дальнейшем пристальном изучении этого явления мы обнаружим новые четкие данные, позволяющие приоткрыть завесу над загадкой природы. Таким образом, мы наблюдаем редко нарушаемый ритм прихода бедствия, причем интервалы почти всегда составляют девять или двенадцать лет; это дает возможность делать надежные прогнозы.
Тем не менее, несмотря на удивительную простоту непосредственных наблюдений, проблема, которую можно свести к несложной арифметической формуле, остается нерешенной.
Гипотезы о возникновении засухи
Впечатлившись столь редко прерываемой закономерностью, несколько насильно втиснутой им в период из одиннадцати лет, один натуралист, барон ди Капане́ма*, задумал искать ее далекий источник в сферах небесных, славящихся неизменностью своих циклов. В итоге он нашел полное соответствие земной засухе в регулярном появлении и исчезновении пятен на солнечной фотосфере.
Действительно, интенсивность этих точек, порою превосходящих размерами Землю, темнеющих в окружении ярких солнечных факелов и медленно движущихся в соответствии с вектором вращения Солнца, периодична, и от максимума до минимума интенсивности проходит от девяти до двенадцати лет. А поскольку гений Гершеля* открыл их значительную роль в дозировке посылаемого к Земле тепла, эта корреляция сразу подтверждается геометрическими и физическими данными, складывающимися в единый эффект.
Оставалось доказать, что минимальная интенсивность пятен – щитов, защищающих маленькую планету от излучения великой звезды, – совпадает с периодами засухи, тем самым уравняв периодичность первой и второй.
Это доказательство барону не удалось: несмотря на всю привлекательность его теории, даты летних пароксизмов на нашем севере редко совпадают с пароксизмами Солнца.
Такая неудача тем не менее говорит не о неверности подхода, вызванного столь явными обстоятельствами, но, скорее, об ограниченности выбранной цели. Ведь подобный вопрос со всей сложностью, присущей конкретным фактам, связан в основном с вторичными факторами, более близкими нам и более мощными; а они, будучи неразрывно связанными с природой почвы и ее географическим расположением, будут окончательно систематизированы лишь тогда, когда многочисленные наблюдения позволят определить ключевые факторы климата в зоне сертанов.
Как бы то ни было, тяжелый климат северных штатов есть результат воздействия неупорядоченных и изменчивых внешних сил, а на те влияют как пертурбации местного масштаба (связанные с конкретной местностью), так и более общие факторы, продиктованные географическими характеристиками. От этого зависят и воздушные потоки, делающие этот климат неравномерным и переменчивым.
Во многом – возможно, в основном – его определяет северо-восточный муссон, порожденный сильными аспирационными потоками внутренних плоскогорий, идущих вплоть до Мату-Гроссу, где, как известно, летом давление падает очень низко. Вызываемый ими могучий северо-восточный ветер с декабря по март[17] спускается сюда с северных склонов. Ландшафт особенно благоволит ему: голые вершины, над которыми он мчится, испаряют влагу, повышая его точку насыщения и лишая себя дождей. Возвышенности гонят его дальше, чтобы он нес всю воду, собранную по дороге от моря, в нетронутые глубины континента, к истокам великих рек.
Действительно, орографическое расположение сертанов, за редкими исключениями, благоприятствует такому маршруту. Горные цепи, выстроенные к северо-востоку, согласно превалирующему муссону, создают коридор и не препятствуют ветру, подставляя ему холмы, преграды, высоты, на которых он бы охладился и излил свою конденсировавшуюся влагу в дождях.
Итак, одна из причин засухи заключается в топографии.
Несчастным северным землям не хватает высокого горного хребта, который, идя наперерез этому ветру, производил бы эффект dynamic colding[18].
Такую гипотезу поясняет другое природное явление более высокого порядка.
Так, засуха всегда длится с 12 декабря по 19 марта, что давно известно каждому жителю сертана. Нет ни одного случая, чтобы засуха закончилась вне этого периода: если даты пройдены, она будет длиться весь год, вплоть до начала нового цикла. Памятуя же о том, что именно в такой временной интервал протяженная зона штилей, медленно перемещающаяся у экватора, оказывается в зените этих штатов, расширяясь до окраин Баии, не считать ли подобную зону идеальной горой, что расположена с востока на запад и на миг изменяет неблагоприятное орографическое расположение, препятствуя муссону и заставляя его остановиться, вобрать восходящие потоки влажного воздуха с последующим охлаждением и немедленным образованием конденсата и выпадением осадков, которые в это время потопом выливаются на сертаны?
Описанный феномен показывает нам, сколь далекие друг от друга факторы могут оказывать влияние на вопрос, который интересует нас по двум причинам: во-первых, из-за большой научной значимости, во-вторых, из-за его глубочайшего влияния на судьбу нашей обширной страны. Это обстоятельство отодвигает на второй план значение переоцененных на сегодняшний день пассатов; кроме того, оно косвенно подтверждается и интуицией самих жителей сертана, для которых северо-восточный ветер – они выразительно называют его ветром засухи – равнозначен жесточайшему бедствию.
Благоприятный период приходит внезапно.
За два-три года – например, 1877–1879, – пока солнце нещадно жарит обнаженные вершины, интенсивность его излучения неизбежно приводит к последствиям. Везде значительно падает атмосферное давление. Становится более четкой граница между восходящими потоками сухого воздуха и воздушными массами, идущими с побережья. Столкновение этих областей вызывает жестокие тайфуны, гром и молнии, весь небосвод мгновенно затягивает тучами, и вскоре над раскаленными пустынями проливаются неудержимые дожди.
Так заявляет о себе граница восходящих потоков, на которую наталкивается стремительный бег северо-восточного ветра.
Многочисленные свидетели утверждают, что первые дождевые струи с неба не успевают коснуться земли. Они испаряются в восходящих слоях горячего воздуха и возвращаются обратно в облака, чтобы там вновь превратиться в конденсат, пролиться на землю и снова вернуться; так происходит до первого контакта с почвой, которая еще не поддается увлажнению, отсылая капли обратно в небо с еще бо́льшей скоростью, как если бы вода попала на раскаленный металл; так продолжается еще какое-то время этот непрерывный и скорый обмен; только теперь, наконец, струи воды примутся стекать по камням, первые потоки потекут по склонам, заполняя овраги, образуя быстрые ручьи и беспорядочные бешеные реки – в их водах мелькают кроны вырванных с корнем деревьев, их волны угрожающе и могуче шумят, их перекаты стремительны и темны…
Если за внезапной атакой последуют обычные дожди, сертаны изменяются, оживают. Нередко дожди проходят быстро, с циклонами. Быстрый естественный водоотвод и испарение влаги, только-только украсившей землю, снова приводят сертан в заброшенный и иссушенный вид. А ветры, проходя через горячий воздух, удваивают силу испарения – и так постепенно, день за днем из земли уходит скудная влага, и неизменный цикл засух повторяется вновь…
Каатинги
Тогда идти по тропам сертана становится еще невыносимее, чем по голой степи.
В степи путешественник, по крайней мере, может утешаться видом широкого горизонта и бескрайних равнин.
А каатинга на него давит; застит ему глаза; ранит его и туманит; нанизывает его на острые камни и ошеломляет; отталкивает его колючими листьями, шипами, пиками веток; показывает ему на лиги и лиги вперед один и тот же печальный пейзаж: деревья без листьев, с иссушенными и изломанными ветвями, изогнутыми, согбенными, сухо указующими в пространство или судорожно хватающимися за землю. Агонизирующая флора напоминает пыточную камеру…
Хотя здесь отсутствуют унылые пустынные виды – кривые мимозы или колючий молочай на увядшей траве – и хотя вроде бы тут полно разнообразных растений, деревья, если смотреть на них в целом, кажутся представителями одного немногочисленного семейства, если не одного только вида; различаются между собой они только размером, вид имеют одинаково умирающий, ствол практически отсутствует, побеги топорщатся. Дело в том, что по вполне объяснимой причине – адаптация к неблагоприятным условиям – деревья, которые бывают так друг на друга не похожи в лесу, здесь следуют одной и той же неизменной моде. Они меняются и в своей неспешной метаморфозе стремятся к очень ограниченному количеству типов, наиболее способных к сопротивлению.
А отчаянное сопротивление здесь необходимо.
Борьба за жизнь, которая в лесах выглядит как упрямое стремление к свету, заставляющее опутанные гибкими и сильными лианами кустарники бежать от тени и вытягиваться вверх, чтобы заполучить больше солнечных лучей, здесь выглядит совершенно иначе, оригинальнее и внушительнее. Солнце – враг, которого нужно избежать, обмануть или покорить. В этих попытках умирающая флора, как мы покажем ниже, прячет свои стебли в землю. А земля и сама тверда, как камень, ее не только спалило солнце, но и иссушили атмосферные перепады, низшие пласты высосали из нее все соки. И, находясь между двух огней – между раскаленным воздухом и иссушенной землей, более стойкие представители флоры имеют здесь самый ненормальный облик, покрытый шрамами от этой тихой войны.
Бобовые, которые в иных местах вымахивают ввысь, тут напоминают карликов. При этом у них больше листьев – таким образом они расширяют область соприкосновения с воздухом, чтобы взять из него как можно больше нужных элементов. Стержневой корень у них почти не развит, чтобы не биться о каменную почву; вместо этого у них есть развитая сеть придаточных корешков, имеющих клубнеподобные уплотнения, где хранится сок. Листья у них меньше размером. Прочные, как резак, они надежно закреплены на оконечности ветки, чтобы уменьшить площадь испарения. Свои плоды, порою жесткие, как стробилы*, они покрывают защитным покровом. Когда стручок открывается вдоль идеального шва, плод выскакивает, как вытолкнутый стальной пружиной. Удивительный механизм распространения семян методом разбрасывания! И легкий аромат цветов[19] всех этих растений без единого исключения содержит в себе неуловимые вещества, которые холодными ночами обволакивают их невидимым чудесным покрывалом, спасая от перепадов температуры.
Так дерево защищается от жесткого климата.
Над сертанами поднимается марево сухого зноя; горячие ветры несут бесплодие; раскаленная почва каменеет и покрывается трещинами; в жаркой пустыне беснуется северо-восточный ветер; и каатинга покрывает землю колючими ветвями, словно вретищем… Но растение пребывает в спячке, оно живет, хотя его метаболизм замедлен, оно питается запасами, которое хранит в своих тайниках; и так оно переживает зной, чтобы преобразиться с приходом весенней погоды[20].
Некоторые растения, что живут на более благоприятных землях, научились еще лучше обманывать непогоду.
В капа́нах* – «лесных островках» – можно заметить скопления кустиков высотой около метра; такие же кустики встречаются поодиночке в зарослях травы. У них широкие и толстые, блестящие листья; они разбавляют общее уныние ноткой радостного цветения. Это карликовый кешью – типичный Аnacardium humilis засушливых холмов, который наши коренные народы называют кажу. Если эти странные растения подкопать, обнаружится их удивительно глубокая корневая система. Выкорчевать их не получится, как ни старайся. Чем глубже, тем корень прочнее. В какой-то момент он расходится на две ветви, чтобы после, под землей, соединиться в один прочный корень.
Но это не корни – это ветви. А маленькие кустики, то рассыпанные по траве, то собравшиеся в одну кучку, которая порою бывает весьма немаленькой, суть крона громадного дерева, ствол которого целиком находится под землей.
Таким образом растение как будто прячется от палящей жары, свирепого солнца, едких дождей, пыток ветра, скрываясь в земле, как в панцире, поднимая над ней только самые высокие побеги своей величественной кроны.
Не все растения умеют так; им приходится справляться по-своему.
Бромелия удерживает в своем околоцветнике воду из бурных потоков, несущихся по оврагам или водопадом спускающихся между сланцевых скал. В разгар лета куст бромелии – источник кристально чистой воды для мучимого жаждой крестьянина. Этому методу, идеально подходящему для бесплодных земель, подражают светло-зеленые кароа́* с высокими триумфальными цветами, гравата́* и дикие ананасы[21], образующие непроницаемую живую изгородь. Их гладкие и блестящие мечевидные листья, как у большинства растений сертана, конденсируют приносимую ветром ценную влагу, спасая растение от смертельной опасности, связанной с сильным испарением и истощением.
Есть и другие способы, отличные от описанных и связанные с использованием других приспособлений, но столь же эффективные.
Произрастающие повсюду нопале́и* и кактусы относятся, по Сент-Илеру*, к категории растительных источников. Это классические представители пустынной флоры, они обладают бо́льшей сопротивляемостью чем прочие растения, и когда вокруг них не остается ни одного дерева, они продолжают жить как ни в чем не бывало – а может быть, даже лучше. Они приспособились к варварским условиям; они ненавидят умеренный климат, в котором чахнут и засыхают. А раскаленная атмосфера как будто способствует круговороту живительного сока в их пухлых кладодиях*.
Фаве́лы*, пока еще не получившие научного названия[22], неизвестные ученым мужам, знакомые одним лишь местным жителям, вполне могут быть в будущем отнесены к роду Cauterium[23]. Их мохнатые листья – прекрасный инструмент конденсации, впитывания и защиты. С одной стороны, ночью температура их эпидермы* опускается ниже температуры окружающего воздуха, выжимая из его сухости скудную росу; с другой стороны, прикасающаяся к нему рука чувствует невыносимый жар.
Но не все виды достаточно хорошо вооружены, чтобы обеспечить себе победу над климатом. Такие растения выходят из положения интереснее всего: они объединяются в крепком объятии, становясь «социальными» растениями. Раз нельзя защищаться поодиночке, они создают единый строй, сливаются, действуют сообща. Так поступают все цезальпиниевые и все типичные представители флоры каатинги, что в совокупности составляют шестьдесят процентов ее растительности. так делают горный розмарин и сенна двуплодная, пустотелые кустарниковые гелиотропы с разноцветными и белыми колосками, которым суждено получить имя самого легендарного поселения этих мест[24]…
Гумбольдт* не включил их в перечень бразильских социальных растений; возможно, что в других климатических условиях они растут раздельно. Здесь они растут сообща. И в солидарности со своими корнями, в подземелье, в тесноте, они удерживают воду, удерживают рассыпающуюся землю, чтобы тяжелейшим усилием образовать рыхлую почву, в которой они будут рождать потомство, побеждая запутанной капиллярной сетью множества корешков ненасытное сосание почвы и песка. И они живут. Именно живут – их подвиг говорит о том, что их жизнь есть нечто бо́льшее, чем пассивное растительное существование…
Жуазейру
Таким же образом ведет себя и жуазе́йру*. Это растение редко расстается со своими ярко-зелеными листьями, умеющими устоять перед убийственными потоками света. Идут друг за другом жаркие месяцы и годы, иссушенная земля становится совершенно беспомощной. Но в эти жестокие времена, когда солнце печет невыносимо, а сильные ветры раздувают пожары, в которых сгорают сухие и ослабевшие ветви, пеплом осыпаясь на унылый пейзаж, жуазейру раскидывает свои сочные листья, цветет в любое время года, усеивая пустыню радостно-золотыми цветами, улыбаясь на фоне всеобщего бурого опустошения, подобно зеленому оазису.
А стихия всё пытается раздеть его догола. Уже давно высохли до дна все овраги и ямы, а затвердевшее русло ливневых ручейков обнажило сургучную печать старых бычьих следов. Сертан стал совершенно непригоден для жизни.
Тогда лишь тонкие молчаливые цере́усы горделиво взирают на мертвую природу, приподнимаясь на круглых стволах, разделенных на равновысокие многогранные колонны: идеальная симметрия громадных канделябров. А когда на пустынные края падает стремительный закат, они демонстрируют свои большие красные плоды, становясь в вечернем полумраке похожими на гигантские зажженные свечи, вертикально воткнутые прямо в холмы…
Вот она – причудливая флора самого разгара засушливого периода.
Мандакару́* (Сereus jaramacaru) достигают удивительной высоты. Они часто растут поодиночке, тут и там выглядывая над хаотической растительностью. Они горделиво взирают на чахнущую флору, необыкновенным ростом притягивая взгляд неопытного путника. Прямые, правильные стебли приносят отдых взгляду, измученному видом усталых, иссушенных ветвей и листьев. Но через какое-то время они становятся давящим наваждением, оставляя на всём отпечаток неизбывной тоски – вездесущие, неизменные, неразличимые между собой, равновысокие, равноудаленные друг от друга, равноупорядоченные по всей пустыне.
Перуанский цереус, или ши́ки-ши́ки (Сactus peruvianus[25]) меньше размером, а его тело разделено на усеянные колючками, извивающиеся по земле ветви, увенчанные белоснежными цветами. Эти растения любят сухой и жаркий климат, они главные обитатели обжигающих песчаных пустынь, их ложе – раскаленные солнцем гранитные плиты.
Их извечные соседи по этим местам, которых избегают даже орхидеи[26], – уродливые и чудовищные мелокактусы, называемые «головою монаха»[27]. Его толстые зеленые дольки, сшитые между собою глубокими швами, сходятся на макушке в единственный алый цветок. Необъяснимо их возникновение прямо на голых камнях; а видом, формой, размерами и расположением они поистине схожи с окровавленными отрезанными головами, разбросанными тут и там в трагическом беспорядке. Дело в том, что крошечная трещинка в скалистой породе открыла дорогу их длинным корням, которые капиллярным путем несут остатки влаги в подземную кладовую, куда не достанет страшное испарение.
Далее члены обширного семейства постепенно уменьшаются в размерах: вот скромные кипа́*, укрытые колючим щитом и прижимающиеся к земле, как травяной ковер; гибкие и юркие рипса́лисы, чьи ветви извиваются зеленой змеей; хрупкие и бледные эпифитные* кактусы, по стволу пальмы оурикури́ убегающие от негостеприимной почвы в спасительную тень кроны.
Куда ни посмотришь, повсюду новые и новые разновидности. Вот «адская пальматория» – опунция с миниатюрными ладонями, ощетинившаяся дьявольскими шипами, усеянная пасущимися на ней алыми жучками-кошенилями и бешено-яркими цветами, которые оттеняют торжественную тоску окружающего ландшафта…
Ничто другое не отвлекает путника, в ясный день пересекающего эти унылые места, где у деревьев нет ни листвы, ни цветов. Вся флора как будто опрокинулась и смешалась в нераздельную смесь. Вот она, катанду́ва[28] – «больной лес» на местном наречии, – что падает на жестокое ложе из шипов!
На какой ярус ни взобраться, куда ни направить взоры – везде, повсюду один и тот же унылый пейзаж, состоящий из агонизирующей, больной и бесформенной, истощенной растительности…
Вот что Марциус называл sylva oestu aphylla, sylva horrida[29]: голая пустота, зияющая на лоне тропической природы.
Тогда начинаешь понимать, как был прав в своем парадоксальном суждении Огюстен де Сент-Илер*: «Там вся меланхолия мировых зим непрерывно сосуществует с палящим солнцем и летним зноем!»
Безжалостный свет длинных дней пылает над неподвижною землей, не приводя ее в чувство. Мерцают, как льдины, рассыпанные по беспорядочно лежащим известняковым скалам вкрапления кварца; белесые тилла́ндсии раскачиваются на сухих кончиках ветвей застывших деревьев, как растерзанные хлопья снега; от всего этого спящая растительность напоминает ледяную пустыню…
Гроза
А мартовскими вечерами, когда ночь торопится прогнать закат, на небе впервые начинают живо переговариваться звезды.
Небо до самого горизонта затягивают черные горы туч.
Неспешно они поднимаются и пухнут, по их высокому брюху бродят огромные ленивые вихри; тем временем ветры носятся по равнинам, сотрясая деревья и склоняя их к земле.
Небосвод хмурится, и вот уже он мечет одну за одной стремительные молнии, рассекая острыми порезами черную ткань грозы. Не смолкает раскатистый громовой рык. На поверхность земли падают первые размеренные тяжелые капли, превращаясь в беспощадный потоп…
Возрождение флоры
И путник, возвращающийся обратно тем же путем, изумлен: куда же делась пустыня?
Плотный ковер из амари́ллисов* знаменует триумфальное возвращение тропической флоры.
Круглые мулунгу́* окружают сверкающие канавы; высокие караи́бы* и барау́ны* укрывают тенью берега полноводных ручьев; над зелеными тропами раскинули свои ветви могучие маризе́йру*; в уютных гротах расположились мелколистные киша́бы*, чьи плоды напоминают поделки из оникса; ико́* еще ярче, еще сочнее зеленеют на склонах, а над ними беспечно шелестят оурикури; весело перекатываются по всему пейзажу, поднимаясь из долин на холмы, с холмов спускаясь в долины, гривастые кусты горного розмарина*; амбура́ны* очищают богатой листвою воздух и наполняют его ароматом; а во всём этом всеобщем возрождении солирует невысокий, но грациозный момби́н*, чьи многочисленные ветви расходятся лучами по кругу в двух метрах над землей.
Момбин
Это священное дерево сертана, верный спутник кратких и быстротечных счастливых пастушеских часов и долгих горьких дней. Он – самый поразительный пример адаптации во всей местной флоре. Когда-то оно было высоким и могучим, но чередование летнего зноя и зимних гроз заставило его уменьшиться в размерах, чтобы выживать, бросая вызов длительным засухам, и существовать в неблагоприятную пору года, удерживая в себе жизненную энергию, что в изобилии копилась в корнях, пока была такая возможность.
Этими запасами оно делится с человеком. Если бы не момбин, бесплодный сертан, в котором даже карнау́бы* днем с огнем не сыщешь (в сертане по соседству со штатом Сеара они уже встречаются тут и там), был необитаем. Плоды момбина для несчастных обитателей этих мест – то же самое, что для населяющих льяносы гараунов* плоды маврикиевой пальмы*.
Момбин утоляет их голод и жажду. Он приветливо распахивает перед ними дружескую сень, а его сплетенные ветви как будто специально созданы, чтобы вешать удобный гамак. С наступлением счастливых времен он дает плоды, чей изысканный вкус как нельзя лучше подходит для приготовления традиционной умбуза́ды*.
Даже в дни, когда пастбища покрыты свежей травой, домашний скот любит лакомиться кисловатым соком его листьев. Тогда он выпрямляется, расправив круглую крону параллельно земле, щегольски подбоченясь, как будто с ним только что поработали лучшие садовники. Крона его тогда напоминает идеальную полусферу; до нее могут добраться только самые высокие быки. Момбин властвует над флорой сертана в счастливое время, подобно тому как меланхоличный цереус выделяется во время летних волн засухи.
Юрема
Юре́ма* – излюбленное растение местных жителей-кабоклу*. Они делают из нее бесценный упоительный напиток, восстанавливающий силы после долгих переходов, моментально снимая усталость. Мелкие листики юремы сплетаются в волшебное ограждение вокруг редких маризейру – таинственные деревья, предсказывающие дожди, долгожданные «зеленые времена» и «худую пору»[30], – защищая их, когда в разгар жестокой засухи на иссушенном стволе появляются капельки воды; зеленеют анжи́ку*; распускаются кусты жуа́, и цветут барауны, и аратику́ны украшают берега ручьев… Но среди этого великолепия и на вершинах, и на склонах холмов только момбины со своими расположившимися в листьях белоснежными цветами, переливающимися от бледно-зеленого до нежно-розового, более всего привлекают взгляд и составляют самый яркий акцент сияющего пейзажа.
Сертан становится раем
Сертан становится раем…
Тогда же возвращается к жизни и стойкая фауна каатинги. Мчатся по влажным склонам юркие пе́кари*-кайтиту́; степенно проходят по жнивам белобородые пе́кари-кейша́да, шумно работая челюстями; по высоким холмам несутся, подгоняя себя взмахами крыльев, стремительные нанду́*; в заболоченных низинах поют свои песни жалостливые кариа́мы* и звонкие лесные пастушки; к ним на водопой подходят тапиры*, на мгновение задерживая свой тяжелый бег напролом через деревья каатинги; и даже пумы, от которых шустрые моко́* устремляются в свои норки между скалами, радостно скачут по сочной луговой траве, прежде чем устроить засаду на неосторожных оленей или неопытных бычков…
Утро в сертане
Начинается череда необыкновенных рассветов, когда восходящее солнце оттеняет пурпур эритрин* и, увенчав амбураны* коралловой короной, делает еще выразительнее разноцветные фестончики бигноний*. В воздухе затрепетали, зашуршали быстрые крылья; полились удивительные ноты. Небо расчерчено маршрутами стай возвращающихся домой диких голубей, чуть ниже резвятся шумные попугаи-марита́ка… а среди всего этого великолепия счастливый и забывший о тяготах человек гонит перед собой сытое стадо, напевая любимую песню…
Так проходит день за днем.
Минует месяц, другой, шесть благодатных месяцев проходят друг за другом, и вот внезапно, незаметно, постепенно отрываются и опадают листья, и засуха снова ползет по мертвым ветвям деревьев…
Глава V
Географическая категория, о которой забыл Гегель
Пора резюмировать, обобщить эти скудные заметки.
Гегель выделил три основополагающие географические среды, в совокупности с другими факторами определяющие этнические различия между людьми. Это унылые степи или засушливые равнины; обильно орошаемые плодородные долины; наконец, побережья и острова.
Венесуэльские льяносы, саванны, простирающиеся в долине реки Миссисипи, широкие пампасы и великая пустыня Атакама, простирающаяся от самого подножия Анд, – громадная равнина с волнистыми дюнами – относятся строго к первой категории. Несмотря на долгое лето, бесконечный песок и непредсказуемые потопы, они не препятствуют жизни.
Но не привязывают человека к земле.
Их примитивная флора, состоящая из травянистых и осоковых растений, щедро зеленеющая в дождливые сезоны, поощряет к пастушеской жизни, к кочевому быту скотоводов, который проходит в постоянном разбивании и собирании шатров и бесконечной миграции в поисках благоприятных мест, которые то появляются, то вновь исчезают с первым засушливым дыханием лета.
Они не влекут к себе. Здесь взгляду предстает один и тот же монотонный и гнетущий вид, где нет разнообразия цветов. Это неподвижный океан, лишенный волн и пляжей.
Они оказывают такое же центробежное влияние, как пустыни; они отталкивают, разъединяют, рассеивают. Они неспособны сочетаться с человечеством, связав себя, как брачным обещанием, бороздой плуга. Они изолируют народы друг от друга, как горные цепи и моря, как монгольские степи, исхоженные вдоль и поперек шумными толпами кочующих татар.
Казалось бы, сертаны нашего севера тоже относятся к этой категории; и тем не менее они заслуживают отдельного места в перечне, составленном немецким мыслителем.
Проходя по ним летом, думаешь, что это прекрасный пример первой категории; проходя по ним зимой, относишь их уже ко второй.
Ужасающая бесплодность – и необыкновенное изобилие…
В разгар засухи это определенно пустыня. Но если засуха не доходит до той степени, когда становится необходимым горестное бегство, человек борется, как деревья, выживая за счет запасов, собранных в дни изобилия; в этой жестокой, безвестной и скрытой от глаз борьбе природа не оставляет одинокого человека, затерянного среди холмов. Она помогает ему даже в самые тяжелые дни, когда вода совсем ушла со дна всех ручьев.
С приходом дождей земля, как мы видели, преображается фантастическим образом, являя собою противоположность былому унынию. Сухие долины становятся реками. Некогда лысые холмики становятся зелеными островами. Растительность покрывается пышными цветами, и уже не видно острых скал в оврагах, а неровные камни и булыжники превращаются в аккуратные холмы, покрытые растительностью; они плавно переходят в высокие плоскогорья. Падает температура. Солнце перестает нещадно палить, и ненормальная сухость воздуха пропадает. В пейзаже появляются новые оттенки: прозрачный воздух являет взору более плавные линии, разнообразие форм и цветов.
Горизонт перестает давить на землю. Лишившись насыщенной пустынной синевы, небосвод становится выше, взирая на возрождение природы.
Сертан становится плодородной долиной, бескрайним садом, у которого нет хозяина.
А потом всё кончается. Возвращаются мучительные дни, воздух становится удушающим, почва каменеет, флора обнажается; а если лето идет за летом, не перемежаясь сезонами дождей, то наступает ужасающий спазм засухи.
Природа играет в противоречия. Исходя из них, мы должны добавить в список рассматриваемых категорий еще одну, самую интересную и выразительную – переходную между благодатными, плодородными долинами и засушливыми степями.
Оставим на потом значение этого фактора для формирования этнического разнообразия и рассмотрим его роль в землепользовании.
Природа не создает пустыни. Она борется с ними, они ей противны. Это необъяснимые лакуны в астрономических расчетах, указывающих на максимально благоприятные для жизни зоны[31]. Классические примеры, такие как Сахара – это общее название неплодородной области, простирающейся между Атлантическим и Индийским океанами, заходящей на территорию Египта и Сирии и охватывающей всевозможные виды ландшафта, от огромной африканской низменности до жаркого аравийского плато Неджд, доходящей до персидских песчаных беджабанов, – так нелогичны, что величайший из натуралистов счел, что своим появлением эта область обязана крупному катаклизму, извержению в глубинах Атлантического океана, которое должно было вызвать громадные волны, залившие Северную Африку, совершенно ее обнажив.
Это предположение Гумбольдта не более чем блестящая гипотеза; и тем не менее она крайне ценна.
Если вынести за скобки зону наиболее высоких температур, а климат каждого региона от крайнего севера до крайнего юга привести к средним значениям, у нас получится следующая картина: от необитаемых полюсов к экваториальной линии растительность развивается по восходящей. Под экватором находятся самые изобильные области, где былые кустарники сменяются высокими деревьями, а климат, представленный лишь двумя сезонами, в равной степени благоприятствует развитию простых организмов, непосредственно откликающихся на изменения среды. Астрономическая неизбежность в виде наклона эклиптики, из-за которого Земля оказалась в менее благоприятных биологических условиях, чем другие планеты, остается практически незаметной в местах, где в пределах одной-единственной горы представлены все климаты мира, идущие от ее подножия до самых вершин.
По ним же проходит, идеально разделяя полушария, линия термического экватора*. Это линия ломаная; сильнее всего ее искривление в тех местах, где нет условий для жизни; она идет от пустынь к лесам, от Сахары, толкающей ее на север, к изобильнейшей Индии, коснувшись прежде южной оконечности несчастной Аравии[32]; одним прямым росчерком проносится над Тихим океаном, минуя ожерелье пустынных и лишенных растительности островов, чтобы, медленно склоняясь к югу, достичь великой амазонской гилеи*.
От крайней засушливости к величайшему изобилию…
Морфология земной поверхности нарушает всеобщие законы разделения на климатические зоны. Но всегда, когда ландшафту не удается взять верх над климатом, природа приходит в действие. Внимательный наблюдатель заметит, как в глухой, но напряженной борьбе – ее последствия выходят за рамки исторических циклов, а сама она может ослабевать под действием разнонаправленных сил, но при этом оставаться упорной, непрекращающейся и поступательно развивающейся – Земля, как организм, преображается путем внутренних подвижек, независимо от стихий, бушующих на ее поверхности.
Таким образом, обширные низменности, такие как Австралия, обреченные оставаться бесплодными, отменяют собой, в определенном смысле, пустыни.
Сама по себе высокая температура порождает в них минимальное давление, привлекая дожди; а исцарапанные ветрами зыбучие пески, которые когда-то не давали даже самым скромным растениям пустить корни, постепенно приходят в неподвижность, пока трава скрепляет их пластырем своих корней; незаметное действие лишайников разлагает бесплодную почву и стерильные скалы, готовя место для своих еще слабых и уязвимых потомков; и, наконец, возникают покрытые скудной растительностью плато, льяносы и пампасы, саванны и самые древние степи Центральной Азии, отражая собою последовательность невероятных превращений.
Как создается пустыня
Пусть сертаны нашего севера не так уж бесплодны, но они являют собою уникальный пример регрессивной эволюции.
Мы только что нарисовали в своем воображении не вполне научную, но упрощенную картину, представив себе, как сертаны в своем современном геологическом виде поднимаются из глубин громадного моря третичного периода.
В этой шаткой гипотезе есть один достоверный факт: постоянные в своей сложности климатические условия и исключительно жизнестойкая флора вызваны здесь совокупностью обстоятельств.
Некоторые из них мы уже рассмотрели.
До сих пор мы забывали об одном важном геологическом факторе – человеке.
А ведь он нередко оказывает на землю разрушительное действие; на протяжении всей своей истории он особенно отличился в роли создателя пустынь.
Первый пример этому мы находим в разрушительном наследии наших индейцев.
Основным сельскохозяйственным орудием жителей первобытных лесов был огонь.
Срубали деревья острыми диоритовыми топорами; затем складывали высушенные ветви; терли друг о друга прутья кайсары, пока не подует ветер и не повалит черный дым. Потом обожженные дочерна кайсары расставляли вокруг участка, где когда-то рос могучий лес. На этом участке занимались земледелием. Процесс повторялся вновь и вновь, пока истощенный участок не приходил в негодность, становясь бесполезной отметиной, пятном на поверхности земли, заброшенной каапуэрой, вымершим лесом, как метко называет его язык тупи; этот участок более никогда не станет благодатным, поскольку – и это весьма примечательно – растения, занимающие впоследствии обожженную землю, всегда представляли собой низкие кустарники, совсем не похожие на изначальный лес. Индейцы углублялись, расчищали новые участки, снова вырубали лес, снова сжигали его, создавая всё новые и новые каапуэры, которые всё ширились и ширились, давая приют лишь хлипкой, согбенной растительности, неспособной совладать с внешней стихией, и по мере своей поступи усугубляя тяготы климата, который уже был их бичом. Поросшие кермесовым дубом и сорной травой, они являли собою болезненный и суровый вид неплодородных земель и яростные конвульсии белесой каатинги.
Потом пришли колонизаторы и переняли этот манер. Более того, они еще и усугубили положение, занявшись в центре страны, вдалеке от узкой полосы прибрежной растительности, исключительно скотоводством.
На заре XVII века в сертанах, насильственно и незаконно поделенных на многочисленные сесмарии*, были разбиты громаднейшие поля с совместными пастбищами, уходившие далеко на склоны холмов.
Разбивали их точно так же: открытым огнем, не ограниченным просеками и опушками, разносимым могучими порывами северо-восточного ветра. С этими разбойниками сотрудничали и жители сертана – алчность и злоба толкали их охотиться на лесных жителей[33] и выискивать золото. Поскольку великолепная флора не давала им достаточно обзора и делала их легкой добычей прячущихся в засаде индейцев-тапуйя* и ужасных пантер, они расправились с нею огнем, прорубив окно к горизонту, чтобы хорошенько разглядеть вдали, за очищенными просторами, далекие горы, к которым уверенной поступью направились бандейранты*.
Они изнасиловали землю; обесплодили ее промыванием песка и породы; ранили ее ударами мотыги; разъели ее плоть вновь открытыми дикими потоками; и, наконец, оставили ее навсегда бесплодной, покрасневшей от перемешанной глины, в которой не сможет расти самая неприхотливая травка, покрытой струпьями обширных, пустых и унылых приисков, напоминающих огромные мертвые, разрушенные города…
Подобные дикости происходили на всём протяжении нашей истории. Даже в середине текущего века: старожилы поселений, расположенных на берегу реки Сан-Франсиску, сообщают, что в 1830 году искатели, перебравшись на ее левый берег и собрав в кожаные мехи необходимые запасы воды, освещали и прокладывали себе путь с помощью того же самого страшного орудия – лесного пожара. Месяцами ночной мрак озарялся багровым маревом горящего леса.
Вообразите себе последствия подобного процесса, который неизменно повторяется веками…
Даже колониальное правительство обратило на него свое внимание. Начиная с 1713 года появлялись один за другим ограничительные декреты. А когда закончилась легендарная засуха 1791–1792 годов, «великая засуха», как до сих пор называют ее старожилы сертана, засуха, едва не уничтожившая весь север от Баии до Сеара, власти метрополии наконец сообразили, чем она была вызвана; тогда оно полностью воспретило вырубку лесов.
Власти долгое время переживали за леса. Это показывают королевские ордонансы – от 17 марта 1796 года, в котором говорится о назначении судьи по надзору за лесами, и от 11 июня 1799 года, в котором «воспрещаются беспорядочные и бездумные поступки жителей (Баии и Пернамбуку), железом и огнем изничтожившие драгоценные леса… имевшиеся некогда в огромном изобилии, а сегодня отстоящие друг от друга на большие расстояния».
Это бесценные упоминания о регионе, который мы столь скромно описали.
Есть и другие, не менее красноречивые.
Изучая старинные записи и маршруты исследователей северных сертанов – бесстрашных каатингейру[34], спутников пришедших с юга бандейрантов, – легко заметить постоянные упоминания негостеприимной местности, которую им пришлось пересечь в поисках «серебряных залежей», о которых мечтал Мелшиор Морейя*. Все они проходили через высокие холмы и почти все заходили на территорию Канудусского сертана, останавливаясь на ночлег в Монти-Санту – тогда еще Пикуараса́, как называли его тапуйя. В их рассказах упоминаются «холодные поля» (несомненно, они охлаждались ночью, когда голая земля испарила всю влагу), изрезывающие раскинувшуюся на многие лиги каатингу, где нет ни воды, ни сочной бромелии, а восполнить силы в тяжелом пути помогают только корни момбина и мандакару[35].
Как мы видим, уже в те времена растения, столь ценимые современными нашими жителями сертанов, были невероятно важны.
Ведь эта беда старинная. Став помощником природных стихий, северо-восточного ветра, вытягивания влаги из слоев почвы, зноя, эрозии, непредсказуемых гроз, человек стал неприглядной составляющей местного разрушительного климата. Не он его создал, но он изменил, усугубил его. У жестокой бури появился помощник – топор каатингейру; солнечный жар был усилен горячкой пожаров.
Да, можно сказать, человек создал пустыню. Но он еще может исправить прошлое и уничтожить ее. Эта задача тяжелая, но не невозможная: история знает пример успеха.
Как положить конец пустыне
Путник, идущий по высоким равнинам Туниса, лежащим между Беджой и Бизертой, поблизости от Сахары, видит у входа в долины останки древних римских построек, горделиво, как ни в чем не бывало, пересекающих капризные изгибы уэдов. Старая, местами разрушенная каменная кладка, тут и там покрытая шрамами от двадцативековой давности водных потоков, – это наследие великих колонизаторов напоминает, как разумны были их поступки и как варварски невежественны были пришедшие им на смену арабы.
Справившись с разрушением Карфагена, римляне принялись за несравнимо более тяжелую задачу – покорение могучей природы. Это – удивительный след их исторической поступи.
Они, несомненно, поняли, что главною причиной бесплодия этих земель было не отсутствие дождей, а неудачный рельеф местности. Они поправили его. Местный режим осадков, весьма обильных в определенные поры года, был не только бесполезен – он был вреден. Осадки падали на незащищенную землю, вымывая с корнем растения, едва успевшие закрепиться на каменистой почве; несколько недель стихия играла с пляшущими потоками, затапливавшими равнины; а потом влага исчезала, стекая по наклону к северу и к востоку в Средиземное море, еще сильнее обнажая почву после краткого оживления. Пустыня неуклонно наступала с юга, захватывая всё на своем пути, покоряя последние препятствия, с которыми не справился самум*.
Римляне заставили пустыню отступить. Они заковали потоки, перекрыли сильные течения, и жестокий климат, покоренный с большим упрямством, уступил и сдался, опутанный сетью плотин и запруд. Упорядочив систематические потопы, римляне добились того, чтобы вода задерживалась на земле на более длительное время. Запутанные клубки оврагов разделили плотины – стены долин, а уэды врезались в холмы, надежно удерживая в себе большие объемы влаги, которые ранее были бы безвозвратно потеряны, или переправляли ее через боковые каналы на нижние уровни, где она шла по многочисленным оросительным каналам и левадам, служившим увлажнению почвы. Таким образом, эта система плотин среди прочих своих свойств также помогала и общему орошению. Кроме того, все подобные многочисленные отдельные водоемы (в отличие от совмещенных в одной величественно-бесполезной запруде, какую мы видим в озере Кишада́*) представляли собой значительную площадь испарения, что наилучшим образом влияло на климат. В конце концов Тунис, где когда-то высадились лучшие сыновья финикийского народа, но затем захваченный торгашами и нумидийскими кочевниками, чьи кривые шатры белели над песками, как севшие на мель суда, превратился в классический пример древнего земледелия. Он был италийскою житницей и основным поставщиком зерна для римлян.
Сегодня им во многом подражают французы; однако нет более нужды в величественных и затратных постройках. Они находят наиболее подходящие уэды и запруживают их при помощи свай, на которых зиждятся стены из сухого камня и земли; по этим стенам во все стороны бегут акведуки, разнося воду по всей местности.
И дикие воды успокаиваются; прирученные, они теряют силу жестокого потопа и, смиренные, проходят через тысячи запоров и ответвлений. И исторические места, освободившиеся от апатичности инертного мусульманина, вновь обретают свой античный лик. Франция спасает остатки богатого наследия римской цивилизации после многовекового упадка.
Гипсометрическая карта* сертанов нашего севера показала бы, что и у нас возможна такая попытка с не менее надежным результатом.
Идея не нова. Уже достаточно давно ее предлагал на собраниях Политехнического института Рио-де-Жанейро советник Борепер-Роган*; его светлый ум, возможно, был вдохновлен вышеприведенным примером.
Она была единственной практически возможной и по-настоящему полезной идеей из всех, что обсуждали лучшие ученые того времени – от многоопытного Капанемы* до въедливого Андре Ребоусаса*.
А обсуждали тогда необычайные каменные цистерны, мириады артезианских колодцев, пронизывающих склоны холмов, колоссальные, безмерные хранилища запасов воды, громадные плотины, подобные искусственным морям, и, наконец, вершина инженерного мотовства на фоне проблемы исключительного значения – гигантские перегонные кубы для дистилляции вод Атлантического океана!..
Однако самое скромное предложение, опирающееся на элементарный пример, превосходит их все, поскольку оно не только практично, но и логичнее всех остальных.
Вековые муки земли
Из всех определяющих факторов засухи две силы сообща оказывают значительное влияние на структуру и состав почвы. Какими бы вескими ни были отдаленные сложные причины, о которых мы недавно вели речь, действие этих двух сил становится очевидным, если мы вспомним, что абсорбирующее и испаряющее свойства земли, наклон проходящих через нее пластов и резкость рельефа усугубляют летний зной и разрушительный эффект бурь. Таким образом, земля, из продолжительного нагрева попадающая в стремительные паводки, едва защищенная скудной растительностью, которую первый сжигает, а вторые вымывают, вынуждена постепенно становиться пустыней.
Заливая тлеющий пожар засухи и способствуя всеобщему возрождению, сильнейшие грозы готовят эти места к еще бо́льшим мучениям. Они нещадно раздевают землю, срывая с нее последние лохмотья, которые могли бы защитить ее от нового лета; они подчеркивают ее горестный вид, избивают и лишают изобилия, а исчезая, оставляют ее совсем обнаженной под жарким бичом солнца. Погодный режим представляет собой череду печальных событий, замкнутый круг катастроф[36].
Таким образом, единственный способ справиться с этим положением должен заключаться в исправлении естественных условий местности. Если отставить в стороны определяющие факторы сего бедствия, происходящие из неотвратимости астрономических и географических законов, повлиять на которые человек не в силах, оказываются возможными только такие изменения.
Процесс, который мы рассмотрели в этом кратком историческом экскурсе, столь прост, что технические подробности будут излишни.
Франция сегодня пошла тем самым путем, восстанавливая старинные сооружения.
Установка плотин в тщательно выбранных долинах с достаточною частотой и на всём протяжении сертана приведет к трем неизбежным последствиям: значительному смягчению сильнейшего осушения почвы и его печальных последствий; формированию на окраине сертана, благодаря оросительной сети, плодородных областей, пригодных для земледелия; и уравновешиванию нестабильного климата. Многочисленные небольшие плотины, равнораспределенные таким образом, чтобы создать обширную площадь испарения, естественным образом с ходом времени станут играть регулирующую и крайне важную роль внутреннего моря.
Бесполезно искать другое решение этого вопроса. Цистерны, артезианские колодцы и редкие или широкие озера наподобие Кишада́ имеют сугубо локальное значение. Их задача – смягчить одно из последствий засухи, коим является жажда; в северных сертанах стоит другая задача – бороться с пустыней и ослабить ее.
