Жизнь в режиме отладки 2
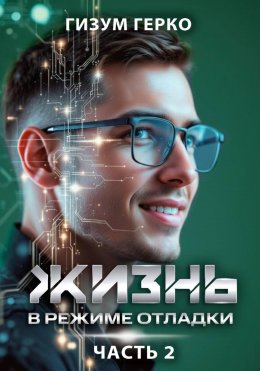
Глава 1: Новая нормальность
Солнечные блики, разбиваясь о мокрый после ночного дождя асфальт, дробились на тысячи ослепительных осколков.
Мир за окном такси был похож на полотно импрессиониста: размытые фигуры спешащих прохожих, акварельные пятна витрин, дрожащие отражения светофоров в лужах. Понедельник вгрызался в город, и тот нехотя подчинялся, втягиваясь в привычный недельный ритм.
Таксист, пожилой мужчина с лицом, на котором застыло выражение вселенской скорби, молчал всю дорогу. Из динамиков его старенькой машины лилась тихая, меланхоличная классика «Радио Эрмитаж». Идеальный саундтрек для поездки на работу, которая еще неделю назад казалась бы мне вершиной несбыточных мечтаний. Сегодня же это было просто… начало рабочей недели. Новой, совершенно невообразимой рабочей недели.
Прошлая пятница прошла как в тумане.
Я принял предложение Орлова, и он, не теряя времени, буквально за руку отвел меня сначала в отдел кадров, а потом в бухгалтерию. Я словно попал в совершенно иное крыло института, не то, где левитировали кристаллы и гудели загадочные установки, а в его бюрократическое сердце, которое, казалось, работало на перфокартах и счетах. Пыльные папки, женщины в строгих костюмах, с непроницаемыми лицами, запах старой бумаги и крепко заваренного чая. Я заполнял бесконечные анкеты, подписывал кипы бумаг, главной из которых был, конечно, документ о неразглашении государственной тайны толщиной с приличный детективный роман. Младший научный сотрудник Отдела Инженерной Психофизики и Интерфейсных Технологий, Сектор Интеллектуального Анализа и Прогнозирования. Официально. И каламбурно немного, учитывая, что попал я под крыло самого Орлова.
Потом были выходные.
Два дня, вырванные из этого еще нового для меня, безумного мира. Как и обещал, я поехал к родителям на дачу. Суббота и воскресенье прошли в привычной, успокаивающей рутине. Помогал отцу с починкой прохудившейся крыши сарая, копал с мамой грядки, вечером мы сидели на веранде, пили чай на травах и разговаривали о простом и понятном. О соседях, о планах посадок на следующий год, о новом сериале, который они начали смотреть. Я кивал, улыбался, рассказывал какие-то общие, безликие вещи о своей «новой, перспективной работе». Они были рады за меня, и эта их простая, искренняя радость смешивалась в моей душе с легкой горечью.
Я не мог рассказать им ничего. Не мог поделиться ни сотой долей того, что бурлило во мне, что переворачивало весь мой мир. Для них я получил хорошую должность в солидном государственном учреждении. Аналитик. Звучит респектабельно. Они и не догадывались, что мой анализ включает в себя корреляцию между лунными фазами и спонтанными проколами подпространства.
Все эти два дня мой телефон жил своей, отдельной жизнью.
Он тихо вибрировал в кармане, и я, под любым предлогом, отлучался, чтобы прочитать новое сообщение. От Алисы. Наша переписка превратилась в нечто странное и удивительное, в непрерывный диалог, который шел параллельно моей «нормальной» жизни. Мы больше не обсуждали «Гелиос» или «Странника».
Мы говорили обо всем на свете. О книгах, которые читали в детстве, о музыке, которую слушали, о фильмах, над которыми плакали. Она присылала мне фотографии кота своей соседки, который, по ее мнению, был реинкарнацией какого-то древнего божества. Я отправлял ей фотографии родительских пирогов, утверждая, что это алхимический артефакт, способный генерировать чистое счастье. Она писала: «Теоретик, ты опять пытаешься разложить чувства на формулы». Я отвечал: «Алхимик, а ты пытаешься сварить суп из аксиом». Каждый ее ответ вызывал у меня улыбку. Улыбку, которую я не помню на своем лице уже очень, очень давно. Это было странное, новое, пьянящее чувство. Чувство, что тебя понимают. Понимают не на уровне слов, а на уровне… одинаковой длины волны. Мыслить одинаковыми категориями. Чувствовать мир схожим образом.
– Приехали, – буднично произнес таксист, вырывая меня из воспоминаний.
Уже знакомое здание из красного кирпича. Та же проходная, тот же глухой забор. Но теперь это было не просто загадочное место. Это был мой новый дом. Моя крепость. Мое поле битвы.
Я проверил оплату и вышел. Утренний воздух был свеж и прохладен. Внутренний двор института уже жил своей обычной, скрытой от посторонних глаз жизнью. Люди в одинаковых серых комбинезонах разгружали какие-то ящики, по дорожкам деловито семенили сотрудники, куда-то спешила тетя Глаша, покачивая ведром с мокрой тряпкой на боку и шваброй в другой руке. Нормальная жизнь НИИ. Почти.
Мой путь к проходной преградила неожиданная процессия. Двое грузчиков, кряжистых мужиков с усталыми лицами, тащили огромный, герметичный на вид контейнер. Он был сделан из какого-то тусклого, серого металла, покрыт непонятными символами и предупреждающими знаками. Из одного из стыков на его поверхности медленно, вязко капала на асфальт ярко-светящаяся, фосфоресцирующая жидкость, оставляя за собой дымящийся, шипящий след.
Именно к ним, вооруженная шваброй и ведром, шла тетя Глаша, наша бессменная хозяйка коридоров и лабораторий. Ее лицо выражало вселенское неодобрение.
– Аккуратнее, ироды! – ворчала она, не обращая на меня никакого внимания. – Всю плитку мне пожжете! Вчера в третьем секторе эктоплазму оттирала, сегодня вы тут своей… светяшкой капаете. Хоть бы тряпку подстелили, нехристи! Совсем о людях не думаете.
***
Кабинет СИАП встретил меня привычным гулом.
Это была тихая, рабочая симфония: мерное гудение серверной за стеклянной дверью, стрекот клавиатур, шуршание бумаг от стола Людмилы Аркадьевны. Из-за окна все еще доносились выкрики и недовольное бормотание тети Глаши, распекающей нерасторопных грузчиков.
Я сидел за своим рабочим местом. Моим. Уже официально. За последние несколько дней оно успело обрасти собственным, упорядоченным хаосом. Стопка распечаток с графиками, несколько книг по нелинейной динамике и машинному обучению, которые я притащил из дома, блокнот, испещренный формулами и заметками, и, конечно же, неизменная кружка с остывшим чаем. Орлов написал, что вызовет, когда появится новое задание, а пока велел осваиваться и глубже погружаться в контекст. Для меня это было не просто разрешением, а приглашением. Приглашением в сокровищницу.
С доступом к внутренней сети, пусть и урезанным, я чувствовал себя ребенком, которого запустили в самую большую в мире библиотеку, где на одних полках стояли учебники по ядерной физике, а на других – древние гримуары. Я открывал папку за папкой, читал отчеты, спецификации, протоколы. Отдел Прикладной Биофизики и Паранормальной Физиологии, Отдел Квантовой Химии и Алхимических Трансформаций, Отдел Лингвистического Программирования и Семантического Моделирования… Названия звучали как главы из научно-фантастического романа, который кто-то решил воплотить в жизнь.
Я просматривал логи работы каких-то «био-сенсоров», анализирующих «аурические флуктуации» в мавзолее, читал отчеты о попытках синтезировать стабильный изотоп с отрицательной темпоральной проводимостью. Большая часть терминов была мне незнакома, но я, как одержимый, впитывал информацию, пытался найти связи, построить в голове общую картину этого невероятного, невозможного мира. Мой мозг, привыкший к строгой логике баз данных и оптимизации SQL-запросов, скрипел и перегревался, но это была приятная, продуктивная усталость. Усталость от расширения горизонтов.
В какой-то момент со стороны стола Толика раздалось характерное ворчание.
Обернувшись и окликнув меня, он швырнул в мою сторону небольшую флешку. Я поймал ее на лету, скорее инстинктивно, чем осознанно.
– Теоретик, глянь-ка логи, – буркнул Анатолий Борисович, не отрываясь от своего монитора, где мелькали бесконечные столбцы цифр. – Что-то там наши алхимики опять нахимичили. Вчера ночью был короткий, но очень грязный выброс по их контуру. У меня половина баз данных резервного копирования икнула. Орлов просил тебя к этому привлечь, посмотреть, есть ли там что-то похожее на твоего «Странника» или это просто их обычное разгильдяйство.
Я смотрел на флешку в своей руке, и на губах сама собой появилась улыбка. «Теоретик». Прозвище уже крепко привязалось, но интонация… интонация была совершенно другой. В ней больше не было снисходительного пренебрежения. Было… деловое раздражение. Как у опытного механика, который просит инженера посмотреть чертежи, потому что двигатель снова барахлит. Он не просто отмахивался от меня. Он просил о помощи. Он доверял моей компетенции.
Не успел я вставить флешку в свой «модифицированный» компьютер, как от своего стола отделилась высокая, сутуловатая фигура Степана Игнатьевича. Он подошел ко мне, держа в руках лист ватмана, испещренный сложной схемой из квадратов и стрелок.
– Алексей, добрый день, – начал он своим обычным, слегка педантичным тоном. – Я тут размышлял над структурой вашей прогностической модели. В частности, над архитектурой информационного потока.
Он говорил не об интерфейсах. Не о том, как «красиво упаковать» данные. Его, создателя самых изящных и, по слухам, зачастую самых бесполезно-красивых интерфейсов во всем НИИ, интересовала суть. Сама логика, лежащая в основе моего алгоритма.
– Вы используете нелинейную рекурсию для взвешивания входящих параметров, не так ли? – продолжал он, указывая карандашом на один из блоков на своей схеме. – Это элегантно, но не думали ли вы, что при таком подходе возникает риск возникновения паразитных обратных связей? Что если ввести отдельный слой-валидатор, который будет работать по принципу нечеткой логики и отсекать информационный шум еще на входе? Это могло бы повысить стабильность прогноза в долгосрочной перспективе.
Я смотрел на него, на его схему, слушал его выверенную, академическую речь, и понимал, что это – вторая часть посвящения. Толик признал во мне практика, способного решить конкретную техническую задачу. Игнатьич же увидел во мне теоретика, коллегу, с которым можно обсуждать фундаментальные принципы. Они оба, каждый по-своему, приняли меня.
Я посмотрел на Анатолия, который продолжал яростно стучать по клавишам, спасая свои драгоценные базы данных.
Посмотрел на Степана, который с живым интересом ждал моего ответа, готовый к долгой и увлекательной дискуссии. На Людмилу Аркадьевну, которая, казалось, не замечала ничего вокруг, погруженная в свои инструкции и регламенты, но которая при этом умудрялась быть тихим, но надежным центром этой маленькой вселенной. На коморку Гены, который, вероятно, сейчас вел неравный бой с энтропией где-то в недрах серверной.
И в этот момент я совершенно четко осознал. Я больше не был чужаком. Не был «новичком», «стажером» или «теоретиком на их голову». Я был частью этого. Частью команды. Странной, разношерстной, вечно спорящей, но команды. И это чувство было, пожалуй, посильнее любой эйфории от разгаданной тайны. Это было чувство дома.
– Это интересная мысль, Степан Игнатьевич, – сказал я, поворачиваясь к нему и шуточно стараясь повторить его тон. – Давайте посмотрим, как это можно имплементировать. Но сначала, я, пожалуй, разберусь с «химией» от Анатолия Борисовича. Не хотелось бы, чтобы институт остался без резервных копий.
***
Не успел я толком погрузиться в анализ логов от алхимиков, как на мониторе всплыло окно внутреннего мессенджера.
Два слова. «Алексей, зайдите». В этом не было ни вопросительной интонации, ни вежливого приглашения. Это был приказ, облеченный в лаконичную форму деловой переписки.
Я сохранил текущую работу, аккуратно извлек флешку Толика, на которой, как я подозревал, содержались следы как минимум одного нарушения техники безопасности и нескольких законов физики, и направился в кабинет начальника. Атмосфера в нашем общем зале СИАП была пропитана тихим, сосредоточенным гудением. Каждый был поглощен своим делом, своей маленькой вселенной. И я, к своему удивлению, чувствовал себя органичной частью этого сложного механизма.
Кабинет Орлова встретил меня все той же спокойной, почти умиротворяющей тишиной.
Он сидел за своим столом, просматривая что-то на большом экране, и поднял на меня взгляд, когда я вошел. В его глазах, как обычно, не было ни удивления, ни нетерпения. Только ровное, спокойное внимание.
– Алексей, присаживайтесь, – сказал он, указав на стул напротив. – Кофе будете?
– Нет, спасибо, Игорь Валентинович.
Я сел, чувствуя, как внутри нарастает легкое напряжение. Этот человек никогда не вызывал «просто так». Каждое его слово, каждый жест имели свой вес и свое предназначение.
– Я вызвал вас, чтобы официально поставить вам первую большую задачу в рамках вашей постоянной должности, – начал он официальным тоном, откидываясь на спинку кресла. – Проект носит рабочее название «Реконструкция». Его официальная цель – полный анализ исторических логов энергопотребления всех корпусов и лабораторий НИИ за последние двадцать лет. Задача – выявить узкие места, неэффективное использование ресурсов, аномальные скачки потребления. В конечном итоге, на основе вашего анализа, мы должны подготовить план по комплексной модернизации и оптимизации наших энергетических сетей. Звучит несколько рутинно, я понимаю, но это важная, плановая работа.
Он говорил, а я чувствовал, как крылья, которые, казалось, выросли у меня за спиной на прошлой неделе, поникают и съеживаются.
Оптимизация сетей? Анализ энергопотребления?
Это звучало как задача для завхоза, а не для человека, который только что заглянул за грань реальности. Я представил себе бесконечные таблицы со счетами за электричество, графики потребления по часам, нудные отчеты о необходимости замены старых трансформаторов. Весь мой исследовательский азарт грозил утонуть в этом бюрократическом болоте.
– Понимаю ваше разочарование, – словно прочитав мои мысли, продолжил Орлов. Он встал, подошел к окну и сложил руки за спиной. На мгновение он замолчал, глядя на внутренний двор института. Когда он снова заговорил, его голос стал тише, приобрел доверительные, почти заговорщицкие нотки.
– А теперь о неофициальной части, Алексей. «Реконструкция» – это лишь прикрытие. Удобный, абсолютно логичный и ни у кого не вызывающий подозрений предлог, чтобы получить доступ к данным, к которым в иных обстоятельствах мы бы не прикоснулись.
Он обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. И в его спокойном взгляде я увидел ту же сталь, что и в день нашего первого разговора.
– На протяжении многих лет в работе нашего института происходят странные, системные сбои. Кратковременные отключения целых секторов, необъяснимые перегрузки на линиях, которые работают в штатном режиме, выход из строя чувствительной аппаратуры без видимых причин. Каждый раз это списывают на «износ оборудования», «человеческий фактор», «внешние электромагнитные помехи». На что угодно. Но я просмотрел отчеты за последние десять лет. Слишком много «случайных» совпадений. Слишком много «необъяснимого». У этих сбоев есть… другая природа. Не техническая.
Я слушал, затаив дыхание.
Я понял. Я все понял. Это был не шаг назад, к скучным задачам. Это был прыжок в самую глубокую кроличью нору.
– Я подозреваю, что некоторые из этих сбоев напрямую связаны с деятельностью определенных лабораторий, – продолжал Орлов, вернувшись к столу и сев напротив меня, его голос снова стал тихим и напряженным. – Возможно, это непреднамеренные побочные эффекты. Возможно, что-то еще. Но напрямую копать под ведущие отделы, особенно под тот же ОКХ, я не могу. Меньшиков – фигура. Кацнельбоген – не меньше. Любая проверка вызовет скандал, который нам ни к чему. Тем более, Ефим Борисович не упустит возможность чем-то подобным воспользоваться.
Он наклонился ко мне через стол, и я почувствовал себя не просто сотрудником, а соучастником.
– Вот здесь и появляетесь вы, Алексей. Проект по «Реконструкции» – ваш щит. Ваша официальная легенда. Вы будете просто анализировать скучные цифры. Но на самом деле, я хочу, чтобы вы искали другое. Я хочу, чтобы вы искали те же паттерны, что и в данных по «Страннику». Ищите корреляцию между этими сбоями и циклами работы конкретных установок. Ищите аномалии, которые прячутся в общем шуме. Вы видите музыку там, где другие слышат только помехи. Я хочу, чтобы вы нашли источник этой «музыки». Это не будет входить ни в один отчет, кроме тех, что лягут лично мне на стол. Это наша с вами маленькая, неофициальная операция.
Я сидел, ошеломленный постановкой задачи. Это было нечто невероятное. Орлов предлагал мне стать его тайным агентом, его личным криптоаналитиком, который под прикрытием рутинной работы будет вести расследование, способное, возможно, встряхнуть весь институт до самого основания.
– Я справлюсь, – сказал я, и голос мой прозвучал тверже, чем я ожидал. Весь утренний сплин, вся апатия исчезли без следа. На их место пришел холодный, ясный азарт исследователя, которому только что дали в руки ключ от самой главной тайны.
– Я не сомневаюсь, – кивнул Орлов. Его губ коснулась едва заметная улыбка. – Начинайте. Все необходимые данные уже на вашей внутренней почте.
***
Стук колес отбивал по рельсам сложный, ломаный ритм.
В наушниках Эдмунд Шклярский пел что-то о фиолетово-черном цвете и иероглифах, и его гипнотический, механический голос идеально ложился на перестук вагона метро. Я сидел, прислонившись лбом к прохладному стеклу и смотрел на проносящуюся мимо темноту, в которой лишь изредка вспыхивали и гасли технические огни туннеля. Мозг, однако, был не здесь. Он был там, в НИИ, погребенный под терабайтами данных, которые Орлов свалил на меня под кодовым названием «Реконструкция».
Весь день прошел в попытках просто систематизировать этот хаос.
Это было похоже на работу архивариуса после землетрясения. Я собирал разрозненные фрагменты, сортировал их по датам, источникам, типам. Логи энергопотребления с подстанций, отчеты о сбоях в системах охлаждения, данные с датчиков фонового излучения в разных корпусах, даже журналы технического обслуживания… гора информации, на первый взгляд совершенно не связанной и рутинной. Но я знал, что это не так. Орлов не дал бы мне это задание, если бы оно было просто тем, чем казалось. Где-то в этом массиве повседневной бюрократии и технических протоколов пряталась та же самая «другая» природа, след которой я нашел в данных по «Страннику». И моя задача была вытащить ее на свет.
Это была работа иного порядка. Не просто поиск аномалии. Это была попытка понять анатомию самого института, его скрытую нервную систему, его тайный метаболизм. Я чувствовал себя патологоанатомом, которому предстояло вскрыть тело гигантского, непонятного существа, чтобы понять причину его хронической болезни. И этот масштаб, эта глубина задачи пьянили и пугали одновременно.
Вагон затормозил, двери с шипением открылись, впуская в себя новую порцию уставших, хмурых людей.
Мир вечернего часа пик. Мир нормальных забот. Мир, из которого я, казалось, выпадал все сильнее с каждым днем.
Квартира встретила меня гулкой, непривычной тишиной. Раньше эта тишина была временной передышкой между визитами Маши. Теперь она стала постоянной, как фоновое излучение. Я прошел на кухню, механически поставил чайник. Одиночество больше не ощущалось как пустота. Оно стало… рабочим пространством. Возможностью подумать, не отвлекаясь.
Не успел чайник закипеть, как зазвонил телефон. Мама. Я немного задержался, прежде чем ответить. Моя новая реальность была еще слишком хрупкой, слишком секретной.
– Лёшенька, привет, дорогой! – ее голос, как всегда, был полон бодрости и неподдельной заботы. – Как ты? Не устал? Мы с папой тут смородину собрали, я варенье сварила. Приезжай, возьмешь пару баночек.
– Привет, мам. Все нормально, не устал, – соврал я, глядя на свое отражение в темном стекле окна. Там стоял человек с кругами под глазами, который последние несколько часов пытался сопоставить графики энергопотребления криогенной лаборатории с отчетами о сбоях в системе навигации грузовых лифтов. – Работаю.
– Ох, работаешь ты много, – вздохнула она. – Не забывай отдыхать. Папа твой спрашивает, нашел ли ты схемы насоса для полива? Того, что барахлит.
Насос. Полив. Варенье из смородины. Это был другой мир. Спокойный, понятный, настоящий. Мир, где самой большой проблемой был сломанный насос, а самым большим событием – хороший урожай ягоды. И я, говоря с мамой, чувствовал себя шпионом, который звонит домой с вражеской территории, пытаясь говорить обычные слова, чтобы не выдать себя. Я испытывал острую, пронзительную смесь любви и вины.
– Да, мам, помню про насос. Поищу и пришлю папе схемы.
Мы поговорили еще несколько минут. Я пообещал все, что она просила, и положил трубку. Контраст между реальностью моих родителей и моей новой действительностью был оглушающим. Они жили на планете Земля. А я, казалось, переселился на Солярис, пытаясь наладить контакт с мыслящим океаном из цифр и аномалий.
Я заварил чай, взял ноутбук и устроился на диване.
Но мысли о работе не шли. Они утыкались в стену технических деталей, в отсутствие ключевых данных. Я вспомнил о флешке, которую мне сегодня перекинул Толик. Данные по «алхимикам». Всплеск был «грязным». Что это значило? Какие параметры вышли за норму? Было ли это похоже на то, что я видел в полевых отчетах по «Страннику»? Я не мог просто так пойти и спросить Толика.
«Теоретик» не должен лезть в чужие дела без веской причины. Но была та, кто могла знать и помочь.
Пальцы сами выбрали ее в рабочем мессенджере. Это был рабочий вопрос. Совершенно легитимный.
«Алиса, привет. Не отвлекаю?»
Ответ пришел почти мгновенно. «Привет, Леша! Еще нет. В процессе калибровки есть технологические паузы. Что-то нашел в логах Анатолия Борисовича? Он сообщил, что передал данные тебе.»
Она была на работе. Вечером. Я почему-то не удивился.
«Пока только больше вопросов. Он назвал всплеск „грязным“. Это технический термин или просто его обычное ворчание?»
«И то, и другое. „Грязный“ значит, что скачок был не только по основному вектору энергии, но и сопровождался кучей побочных гармоник, паразитных резонансов и флуктуаций в соседних спектрах. Как будто кто-то ударил по камертону грязной тряпкой. Наши обычные выбросы чистые, как синусоида».
Ее объяснение было четким и образным. Я представил себе эту идеальную волну и грязный всплеск, который я видел на логах. Это дало мне новую пищу для размышлений.
«Понятно. Спасибо. Это похоже на то, как в старом „Троне“ светоциклы оставляли за собой стену. Только у вас она нестабильна».
Я сам не понял, зачем это написал. Просто ассоциация. Сравнение, которое показалось уместным.
На несколько секунд воцарилась тишина. Я уже пожалел о своей неуместной аналогии.
«Ты смотрел „Трон“? Оригинальный, восемьдесят второго года?» – пришел ее ответ.
«Конечно. Классика. Где программы пьют энергию в барах и боятся своего пользователя».
«А я думала, я одна такая. Современные ремейки – просто спецэффекты. А там была… идея. Философия. Помнишь, как Флинн пытался объяснить им, что он не просто программа?»
Наш разговор незаметно свернул с рабочих рельсов на что-то совершенно иное.
Мы начали обсуждать старые киберпанк-фильмы, спорить о том, был ли Декард репликантом, сравнивать искусственный интеллект «Скайнета» и «HAL 9000».
Я не заметил, как пролетел час. Разговор был легким, естественным. Мы понимали друг друга с полуслова. Она смеялась над моими замечаниями о том, что архитектура бортового компьютера «Ностромо» была верхом неэргономичности, а я улыбался, когда она с жаром доказывала, что концовка «Бегущего по лезвию» – это триумф экзистенциализма, а не просто открытый финал.
Я никогда не говорил так ни с кем открыто и свободно. Особенно с Машей.
Наши разговоры о кино обычно сводились к спорам о том, смотреть ли тупую комедию или «заумный артхаус».
С Алисой все было иначе. Это был разговор двух людей, говорящих на одном языке. Языке идей, образов и общих увлечений. И эта легкость, эта теплота общения была чем-то совершенно новым, чем-то, чего мне, как оказалось, отчаянно не хватало.
«Ладно, теоретик, моя пауза закончилась, – написала она наконец. – Пора возвращаться к усмирению „Гелиоса“. Спасибо за разговор. Это было… неожиданно приятно».
«И тебе спасибо, алхимик, – ответил я, чувствуя, как по телу разливается непривычное тепло. – Удачи с калибровкой».
Я отложил телефон.
В голове было удивительно ясно. Хаос данных начал обретать структуру. Но что было важнее – хаос в моей собственной душе тоже, кажется, начал понемногу упорядочиваться.
Глава 2: Гриф «Секретно»
Утро вторника встретило меня не мягким рассветом, а состоянием предельной, звенящей концентрации.
Сон был коротким, но на удивление продуктивным. Казалось, мой мозг, получив наконец-то достойную пищу, всю ночь переваривал ее, строя и отбрасывая гипотезы с лихорадочной скоростью.
Выходя из квартиры, я инстинктивно притормозил.
На лестничной площадке, как и почти каждое утро, стоял Петрович, наполняя воздух едким дымом дешевых сигарет. Когда я с ним пересекался, наш утренний ритуал включал в себя его громогласное, по-свойски дружелюбное приветствие и пару замечаний о моей «сидячей» работе. Но сегодня у меня не было ни времени, ни желания на этот социальный танец.
Я замер у двери, прислушиваясь. Шаги, кашель, чирканье зажигалки. Я дождался момента, когда он отвернулся к окну и бесшумной тенью выскользнул из квартиры, на секунду задержав дыхание, чтобы не вдыхать этот запах обыденности. Я проскользнул мимо, незамеченный. Это была маленькая, но важная победа. Я оставался в своем мире, не позволяя внешнему шуму его нарушить.
Поездка на метро прошла как в вакууме.
Я не доставал наушники. Музыка была бы сейчас лишней. Я просто смотрел на мелькающие огни за окном вагона, но не видел их. Перед моим внутренним взором стояли другие картины: расходящиеся круги «Странника» на карте города, сложные, витиеватые схемы энергопотоков, которые мне еще только предстояло расшифровать. Каждый инцидент, каждый сбой, каждая жалоба в полицейских рапортах – все это были не просто данные. Это были ноты. И я должен был сложить из них мелодию.
В СИАПе царила привычная рабочая атмосфера. Толик ворчал на свою базу данных, Игнатьич с видом алхимика, познавшего тайну мироздания, чертил на ватмане какие-то мандалы, а Людмила Аркадьевна, несокрушимая, как скала, шуршала бумагами. Я кивнул им в знак приветствия и рухнул в свое кресло. Никакого кофе, никаких предисловий. Только работа.
Я погрузился в архив проекта «Реконструкция».
Это был океан информации. Гигабайты данных, накопленных за десятилетия. Я начал с малого – построил временную шкалу всех крупных и мелких инцидентов. Технические сбои, скачки напряжения, необъяснимые отключения. Затем я начал накладывать на эту шкалу данные по энергопотреблению разных отделов, ища корреляцию.
Работа шла медленно, но уверенно.
Это было похоже на просеивание тонн песка в поисках крупиц золота.
Постепенно начала вырисовываться закономерность. Большинство самых странных, самых необъяснимых сбоев в разных частях НИИ удивительным образом совпадали по времени с пиковыми нагрузками на установки в нескольких конкретных лабораториях. ОКХ и АТ, как я и подозревал. Отдел Прикладной Биофизики. Даже некоторые логи из лабораторий ОГАЗ и ХГ показывали странную синхронизацию. Но все это были косвенные улики, предположения.
Чтобы доказать что-либо, мне нужны были исходные данные, исторические записи работы самого первого, старого измерительного комплекса, который, по слухам, установили еще основатели института. Где-то там, в самых старых и запыленных архивах, должен был быть ключ.
Я начал поиск.
Внутренняя сеть НИИ была лабиринтом, но лабиринтом логичным. Используя свой доступ, я смог отследить ссылки, зависимости, архивные копии. И я нашел его. Файловый архив с лаконичным названием «Наследие-1». Сердце забилось чаще. Это было оно. Я чувствовал это. Это был первоисточник, из которого черпали данные все последующие системы.
Я кликнул по иконке архива, предвкушая, как сейчас передо мной откроется сокровищница. Но вместо списка файлов на экране появилось короткое, бездушное системное сообщение.
«ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН. ТРЕБУЕТСЯ ВЫСШИЙ ГРИФ ДОПУСКА. ПРОТОКОЛ „СЕКРЕТНО-1А“.»
Я уставился на надпись.
Высший гриф допуска. Мой второй уровень, которым я так гордился еще в пятницу, здесь был бессилен.
Я был как мальчишка, который подобрал ключ от сарая, но обнаружил, что за ним находится бронированная дверь банковского хранилища.
Я попробовал несколько стандартных обходных путей, скорее по привычке, чем в надежде на успех. Система, разумеется, даже не отреагировала. Это была не просто техническая защита. Это была стена. Стена, возведенная основателями, чтобы скрыть свои самые главные тайны.
***
Я откинулся на спинку кресла, глядя на непробиваемую стену системного сообщения.
Тупик. Чистый, цифровой, абсолютный тупик. Я мог до бесконечности анализировать имеющиеся у меня данные, строить самые изящные корреляции, но без доступа к историческим архивам «Наследия» это все было лишь гаданием на кофейной гуще. Я нащупал эпицентр землетрясения, но не мог заглянуть в самые недра, чтобы понять, что же на самом деле движет тектоническими плитами этого мира.
Оставался только один вариант. Пойти к Орлову.
Признать свое поражение перед протоколами безопасности и запросить помощь.
Это было неприятно. Это было похоже на то, чтобы прийти к учителю и сказать: «Я не могу решить задачу, потому что вы не дали мне все условия». Но другого пути не было. Я был не просто исполнителем, я был его «неофициальным агентом», и он должен был знать, что его агент уперся в стену, которую ему в одиночку не сломать.
Я поднялся, размял затекшие плечи и вышел из относительного уюта нашего кабинета.
Коридоры НИИ жили своей обычной, странной жизнью. Из-за одной двери доносилось низкое гудение, от которого вибрировал пол. Из-за другой – пахло озоном и чем-то неуловимо-сладким. Мимо прошел техник, кативший тележку с каким-то сложным прибором, похожим на гибрид пылесоса и лазерной пушки из старого фантастического фильма. Я кивнул ему, он кивнул в ответ. Я уже становился частью этого пейзажа.
И тут я увидел ее.
Алиса. Она стояла у окна в дальнем конце коридора и оживленно спорила с каким-то парнем из ее отдела. Я узнал его – тот самый Витя, которого она пыталась переубедить в день моей первой экскурсии.
Они не флиртовали, не смеялись. Они работали.
Парень размахивал руками, тыча пальцем в экран планшета, который держал в руке. Алиса, нахмурившись, что-то быстро отвечала, ее волосы, собранные в небрежный пучок, горели огнем в луче света, падавшем из окна. Я слышал обрывки фраз: «…резонансная стабильность поля падает…», «…но коэффициент затухания гармоник…», «…если мы изменим частоту модуляции…».
И в этот момент мой мозг, против воли, провел параллель. Я вспомнил ту случайную встречу у метро.
Маша и ее коуч Василий. Та же сцена: двое, парень и девушка, увлеченно разговаривают.
Но как же по-разному это выглядело. Там была поза, наигранный интерес, поверхностные фразы о «энергетических потоках», за которыми чувствовалась пустота. Здесь же… здесь была жизнь. Здесь была страсть. Страсть к знанию, к решению невыполнимой задачи. В глазах Алисы и этого парня горел тот же огонь, который я чувствовал в себе, когда смотрел на свои графики.
Это был диалог двух настоящих, увлеченных своим делом людей, двух мастеров, обсуждающих тонкости своего ремесла.
И я, к своему удивлению, не почувствовал ни ревности, ни неловкости, ни ощущения, что я третий лишний. Вместо этого в груди разлилось странное, теплое чувство. Гордость. Да, именно она. Я гордился тем, что знаю ее. Гордился тем, что эта огненная, упрямая, гениальная девушка – мой союзник.
Я вдруг смутился от самого факта этого сравнения. Как можно было вообще ставить Алису, с ее кипящим интеллектом и фанатичной преданностью науке, в один ряд с…
Я отмахнулся от этой мысли. Это было несправедливо. И по отношению к Алисе, и даже, наверное, по отношению к Маше. Просто две разные вселенные. И я точно знал, в какой из них хочу жить.
Я не стал их отвлекать, прерывать этот священный ритуал научного спора. Тихо обойдя их по широкой дуге, я направился дальше, к кабинету Орлова.
Он встретил меня так, словно ждал.
Отложил бумаги, которыми был занят, и внимательно посмотрел на меня.
– Алексей. Что-то нашел?
– Нашел, Игорь Валентинович. Но не совсем то, что искал. Я наткнулся на проблему, – я подошел к его столу. – Я проанализировал данные по энергопотреблению и сопоставил их с известными инцидентами. Корреляция есть, и она четкая, особенно с работой нескольких установок. Но чтобы доказать что-либо наверняка, мне нужны первоисточники. Самые старые логи. Я нашел архив «Наследие-1», но… он защищен протоколом «Секретно-1А». Моего допуска недостаточно.
Орлов выслушал меня, не перебивая. На его лице не отразилось ни удивления, ни разочарования. Он медленно кивнул, словно мои слова лишь подтвердили то, что он и так знал.
– Я так и думал, – произнес он наконец. Это было сказано тихо, почти для себя. Затем он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел знакомый азартный огонек. – Что ж, значит, пора делать тебя настоящим посвященным. Идем.
– Куда? – невольно вырвалось у меня.
– К Стригунову, – Орлов поднялся из-за кресла. – Он уже, наверное, заждался.
***
Кабинет Стригунова, который я посетил всего чуть больше недели назад, казался мне теперь верхом уюта и человеческого тепла по сравнению с тем местом, куда меня привел Орлов.
Это было помещение без окон, облицованное тускло-серым, стерильным на вид пластиком. Мебели было минимум: два металлических стула и такой же стол, на котором не было ничего, кроме встроенной панели и какого-то сложного, незнакомого мне прибора, похожего на медицинский сканер.
Воздух был холодным, с легким, едва уловимым запахом антисептика. Здесь не было ни пыли, ни запаха старых книг, ни даже человеческого присутствия. Это было место абсолютной, стерильной функции.
Майор Стригунов уже ждал нас. Он сидел за столом, прямой, как аршин проглотил, в своем неизменном сером костюме. Его лицо, как и в прошлый раз, было лишено каких-либо эмоций. Он был не человеком, а частью этого стерильного интерьера, винтиком в бездушном механизме безопасности НИИ.
– Игорь Валентинович, Алексей Петрович, – произнес он своим ровным, бесцветным голосом, указывая на стул. – Присаживайтесь. Я проинформирован о необходимости повышения уровня вашего допуска.
Мы с Орловым сели. Я чувствовал, как по спине пробегает легкий озноб, и дело было не только в прохладном воздухе. Атмосфера этого места давила, вызывая иррациональную тревогу.
– Вы ознакомлены со стандартными протоколами, касающимися грифа »Секретно-2», – продолжил Стригунов, глядя на меня своими немигающими глазами. – Протокол »Секретно-1А» – это нечто иное. Он регламентирует доступ к информации, составляющей основу деятельности нашего института. К данным и технологиям, разглашение которых может нести угрозу не только государственной, но и, скажем так, глобальной безопасности.
Он сделал паузу, давая мне осознать вес сказанного.
– Поэтому процедура его получения отличается от стандартной. Это не просто подпись под документом, Алексей Петрович. Это клятва. Клятва на крови, в самом буквальном смысле.
От этих слов холод, казалось, сконденсировался в моей груди. Я посмотрел на Орлова, но его лицо было совершенно спокойным. Он знал, на что шел. Он знал, на что вел меня.
Стригунов взял со стола прибор, похожий на стильную футуристическую авторучку. Точно такой же, каким он делал мне укол в палец. Но я почему-то был уверен, что это явно не писчий инструмент.
– Прошу вас, подойдите, – скомандовал он.
Я встал и, чувствуя себя подопытным кроликом, подошел к столу. Ноги были ватными.
– Повернитесь спиной. Расслабьте шею.
Я глубоко вздохнул и подчинился. Сердце колотилось где-то в горле, отстукивая тревожный ритм. Я услышал тихий щелчок, а затем почувствовал короткий ледяной укол в основание шеи, чуть ниже затылка. Это не было больно. Это было… странно. Холод мгновенно распространился по всему телу, тонкой, ледяной паутиной оплетая нервные окончания. Он не парализовывал, не сковывал. Он просто был. Чужеродное, системное ощущение, как будто в мою операционную систему только что установили новый, непонятный драйвер.
Через секунду все прошло.
Осталось лишь легкое онемение в месте укола и фантомное ощущение этого внутреннего холода.
– Процедура завершена, – констатировал Стригунов, когда я, слегка пошатываясь, вернулся на свой стул. – Ваш профиль обновлен. Теперь у вас есть доступ к архиву «Наследие-1».
Он помолчал, давая мне прийти в себя, а затем продолжил своим монотонным голосом, в котором, однако, теперь появились новые, стальные нотки.
– А теперь о последствиях. Механизм, который мы только что интегрировали, является не только ключом, но и замком. Биометрическим. Он напрямую связан с вашим речевым центром и вегетативной нервной системой. Любая попытка вербализовать информацию, защищенную грифом «1А», за пределами авторизованных зон или в присутствии неавторизованных лиц, вызовет… определенную реакцию.
– Какую реакцию? – голос прозвучал хрипло, я едва узнал его.
– Резкую физическую боль. Сначала легкий спазм в горле, затрудненное дыхание. Если вы проигнорируете это предупреждение, боль усилится экспоненциально. Она будет локализована в основных нервных узлах. Поверьте, Алексей Петрович, вы не сможете ее игнорировать. Система разработана лучшими специалистами нашего Отдела Прикладной Биофизики. Она эффективна. Абсолютно эффективна.
Я сидел, пытаясь осознать услышанное. Это было не просто предупреждение. Это был физический, вживленный в мое тело запрет. Они не просто брали с меня подписку о неразглашении. Они вшивали мне в мозг «сторожевого пса», который будет рвать меня на части изнутри при малейшей попытке проговориться. Мир Стругацких, который казался мне такой остроумной фантазией, вдруг стал моей реальностью. Реальностью, где наука и магия, технология и проклятие сплелись в один тугой, леденящий кровь узел.
– Это все, – произнес Стригунов, складывая руки на столе. – Поздравляю с повышением, младший научный сотрудник. Можете приступать к работе.
Я встал.
Тело было моим, но я чувствовал, что оно мне больше не принадлежит полностью. В нем теперь жил чужой. Холодный, безжалостный и абсолютно преданный своей цели страж. Я вышел из кабинета, и стерильный воздух коридора показался мне теплым и уютным. Орлов шел рядом. Он ничего не говорил.
Да и что тут можно было сказать?
Он провел меня через ритуал посвящения. Теперь я был одним из них. Настоящим.
***
– На сегодня, думаю, достаточно, – голос Орлова вырвал меня из оцепенения.
Мы уже стояли в его кабинете, и я даже не помнил, как мы сюда дошли. – Это много информации для одного дня. И физической, и психологической. Идите домой, Алексей. Отдохните. Переварите. А завтра… завтра у вас будет много работы.
Он говорил это своим обычным, спокойным тоном, но в его глазах я видел сочувствие. Или, может быть, отражение своего собственного опыта, который он пережил когда-то давно.
Он знал, что я чувствую. Он знал, что этот переход, это «посвящение» – не просто формальная процедура.
– Спасибо, Игорь Валентинович, – сумел выдавить я.
– Идите, – мягко повторил он. – Адаптация требует времени.
Я кивнул и, не говоря больше ни слова, вышел из кабинета, зашагав по знакомым коридорам НИИ, но ощущая себя чужим, инородным телом.
Люди, которые встречались мне по пути – Толик, спешащий куда-то с распечатками, Игнатьич, задумчиво стоящий у доски с формулами – казались мне представителями другой, более простой и понятной расы. Они занимались наукой. А я… я не знал, как теперь назвать то, чем занимаюсь я.
В основании шеи чувствовалось легкое, едва заметное жжение. Фантомный след того ледяного укола. Оно не было болезненным, но постоянно напоминало о себе, о той невидимой границе, которую я сегодня перешел, о той клятве, которую принес не словами, а собственной нервной системой.
Выйдя из здания НИИ на улицу, я на мгновение зажмурился.
Вечерний мир, который еще утром казался таким привычным, теперь выглядел иначе. Хрупким. Ненастоящим. Тонкая декорация, натянутая поверх чего-то гораздо более сложного, древнего и потенциально опасного. Я смотрел на спешащих по своим делам людей, на машины, на фасады домов, и видел за всем этим невидимую сеть, которую ощущал теперь почти физически. Сеть, по которой текли не только электричество и данные, но и что-то еще. Что-то, что могло вызывать страх, ломать технику и заставлять предметы левитировать. И знание об этом отделяло меня от всех этих людей непреодолимой пропастью.
Я не стал идти к метро. Мысль о том, чтобы оказаться в замкнутом пространстве, полном людей, которые ничего не знают, была невыносимой. Включил смартфон. Поймать машину в это время было непросто, но мне повезло. Почти сразу рядом со мной затормозила старенькая, потрепанная «Нексия».
За рулем сидел словоохотливый пенсионер с пышными седыми усами и глазами, полными праведного гнева на несовершенство мира. Не успел я сесть, как он обрушил на меня поток обыденного, житейского ворчания.
– Вы посмотрите, что творится! – начал он, ловко встраиваясь в плотный поток машин, даже не спросив, куда ехать. – Куда ни глянь – одни эти… самокатчики! Летают как угорелые, правил не знают, под колеса бросаются! А чуть что – водитель виноват! Раньше такого не было. Раньше порядок был. Молодежь стариков уважала, а сейчас…
Я уточнил свой адрес и откинулся на сиденье, закрыв глаза. И, как ни странно, этот поток недовольства, эти жалобы на современную молодежь, на высокие цены, на плохие дороги, на правительство – все это действовало на меня успокаивающе. Это было так… нормально. Так по-человечески. Это была реальность, которую я понимал. Реальность, где самой большой угрозой был неконтролируемый выброс «частиц При», а лихач на электросамокате.
Водитель не умолкал всю дорогу. Он рассказывал о своей внучке, которая «совсем от рук отбилась, целыми днями в своем этом… тиктоке сидит», о соседях, которые «музыку по ночам врубают, спасу нет», о том, что пенсии маленькие, а лекарства дорогие.
Я слушал его вполуха, кивал в нужных местах, но на самом деле я слушал не слова.
Я слушал музыку. Музыку обыденной, человеческой жизни. И она, как камертон, помогала мне настроить мое собственное, сбитое с толку восприятие.
Да, я ввязался в невероятную и опасную игру. Да, я перешел черту, за которой уже не было возврата. Но этот сварливый, уставший от жизни таксист, этот обычный человек из мира, который я, казалось, покинул, сам того не зная, возвращал меня на землю. Он напоминал мне о том, что, несмотря на все аномалии и секретные протоколы, мир вокруг продолжает существовать по своим, простым и понятным законам. И это давало странную, но очень нужную точку опоры.
Когда машина подъехала к моему дому, я почувствовал, что снова могу дышать. Внутренний холод отступил, уступив место трезвой, ясной решимости. Я знал, что меня ждет. И я был к этому готов.
– Спасибо, – сказал я, расплачиваясь через приложение с водителем и оставляя щедрые чаевые.
– Да не за что, сынок, – проворчал он, но в его глазах я заметил удивление и толику тепла. – Ты это… держись там.
– И вы держитесь, – ответил я и вышел из машины.
Я поднял голову и посмотрел на окна своей квартиры. Теперь это был не просто дом. Это была моя база. Мой тихий штаб в самом центре этого безумного, невероятного и бесконечно интересного мира.
Глава 3: Опять двойка
Среда началась без происшествий.
Дорога на работу прошла на удивление гладко, без пробок и даже без особого столпотворения в метро. Я вошел в НИИ, чувствуя себя так, будто иду не просто в офис, а в свою личную цитадель. Стерильный, холодный кабинет Стригунова и его «клятва на крови» казались теперь каким-то странным, лихорадочным сном. Но легкое фантомное ощущение в основании шеи не давало забыть, что это была реальность.
Я кивнул коллегам, которые уже были на своих местах и погружены в работу, и с нетерпением направился к своему столу. Сегодняшний день обещал быть прорывным. Сегодня у меня был ключ.
Компьютер привычно ожил, переливаясь голограммой логотипа. Я проигнорировал все текущие задачи, все отчеты и логи. Моей единственной целью был тот самый архив – «Наследие-1». Я ввел свои обновленные учетные данные, и система, коротко пискнув, подтвердила мой новый, высший уровень допуска. На мгновение сердце замерло в предвкушении.
Я кликнул по иконке архива.
И уставился на экран в полном недоумении.
Никаких списков файлов. Никаких каталогов.
Вместо этого экран заполнило нечто, не имевшее аналогов ни в одной из известных мне операционных систем. Это был не интерфейс в привычном смысле слова. Это была сложная, динамическая структура из пульсирующих концентрических колец, по которым бежали витиеватые символы, похожие на гибрид клинописи и диаграммы Фейнмана. В центре этой структуры медленно вращался темный, многомерный на вид объект, от которого исходило едва заметное искажение, словно от раскаленного воздуха.
Это не было защитой паролем. Это была сама система кодировки, совершенно чуждая, построенная на принципах, которые я не мог даже начать осмысливать.
Я попробовал применить стандартные методы анализа файловых систем. Бесполезно. Попытался запустить утилиты для восстановления данных.
Система выдала одну-единственную ошибку: «НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ФОРМАТ КОНТИНУУМА».
Это был не просто архив. Это был артефакт.
После получаса бесплодных попыток я понял, что в одиночку не справлюсь.
Я распечатал несколько скриншотов этого странного интерфейса и, тяжело вздохнув, подошел к столу Толика.
– Анатолий, извини, что отвлекаю. Взгляни, будь добр.
Толик, недовольно проворчав, оторвался от своей базы данных. Но, взглянув на лист в моих руках, он нахмурился. Он надел свои очки, которые всегда висели у него на шее, и долго, молча изучал распечатку. Затем он подозвал Игнатьича.
– Степ, иди сюда. Посмотри, что наш теоретик откопал.
Игнатьич с видом человека, которого оторвали от важнейшего философского трактата, нехотя подошел к нам. Они вдвоем уставились на скриншоты. Я видел, как на их лицах недоверие сменяется узнаванием, а затем – выражением полной безнадежности.
– М-да… – наконец произнес Толик, снимая очки. – Это оно. Без сомнений. Технология основателей. Мы с этим сталкивались пару раз, когда пытались поднять самые старые резервные копии из центрального хранилища. Бесполезно.
– Абсолютно, – подтвердил Игнатьич, с несвойственным ему отвращением глядя на витиеватые символы. – Это не просто кодировка. Это совершенно иной принцип организации данных. Он не подчиняется двоичной логике. Здесь информация, похоже, существует в состоянии суперпозиции. Чтобы прочитать один байт, нужно знать состояние всех остальных. Мы бессильны. Ни один наш инструмент это не вскроет.
Они оба посмотрели на меня с каким-то странным сочувствием, как на человека, который пытался открыть сейф с помощью консервного ножа. Я почувствовал, как надежда, которая горела во мне все утро, гаснет.
И тут за своей спиной я услышал тихий, спокойный голос.
– С этим, Алексей, только к Гене.
Я обернулся. За нами, неслышно подойдя, стояла Людмила Аркадьевна. Она держала в руках тонкую фарфоровую чашку с чаем. И на ее лице играла та самая, загадочная улыбка Чеширского кота.
Улыбка человека, который знает абсолютно все коридоры, все двери и все секретные ходы в этом лабиринте под названием НИИ НАЧЯ.
***
Совет Людмилы Аркадьевны, произнесенный с ее неизменной загадочной улыбкой, был не просто подсказкой.
Это был ключ. Ключ к двери, за которой, как я теперь понимал, обитал не просто сисадмин, а местный оракул, волшебник и, возможно, единственный человек во всем НИИ, способный говорить с технологиями основателей на их родном языке.
Я снова стоял перед неприметной деревянной дверью с корявой табличкой «НЕ ВХОДИТЬ! УБЬЕТ!!!». В прошлый раз я воспринимал это как эксцентричную шутку. Сейчас же, после инструктажа Стригунова и знакомства с протоколом «Секретно-1А», эта надпись уже не казалась такой уж метафорической. Кто знает, какие сторожевые системы Гена встроил в свою дверь.
Я проделал ритуал, которому меня научила Людмила Аркадьевна: три ровных, не слишком громких, но и не слишком тихих стука. Затем я посмотрел на часы. Минута ожидания. В прошлый раз это казалось абсурдной причудой. Теперь я понимал, что это, скорее всего, было частью протокола авторизации. Пароль, который нужно было не только произнести, но и выдержать.
Когда шестьдесят секунд истекли, я осторожно нажал на ручку. Дверь, как и в прошлый раз, открылась беззвучно. Я заглянул внутрь, готовый ко всему, но то, что я увидел, все равно застало меня врасплох.
Берлога Гены была в своем обычном состоянии творческого апокалипсиса.
Горы разобранных компьютеров, переплетения проводов, мигающие индикаторы. Но сейчас посреди всего этого хаоса происходило нечто совершенно из ряда вон выходящее.
Там было двое.
Два Гены.
Один, мой знакомый в футболке с драконом, сидел в своем кресле-троне. Второй, в той самой футболке Led Zeppelin, которую я видел в столовой, стоял напротив него, яростно жестикулируя. Они не заметили, как я вошел. Они были поглощены спором. Жарким, напряженным, совершенно непонятным.
– Я же тебе говорил, нельзя инвертировать фазу на третьем контакте! – шипел «мой» Гена, тыча пальцем в какой-то сложный прибор, лежавший между ними на столе. Прибор был похож на металлический еж, из которого торчали десятки разъемов и тонких, как волос, проводков. – Ты сожжешь весь силовой контур!
– Да ладно тебе, старая спецификация врет! – огрызался Гена в футболке Zeppelin. – Там запас прочности в три раза больше. Я просто хотел повысить эффективность на двенадцать процентов! Я почти закончил распиновку.
– Двенадцать процентов эффективности в обмен на риск каскадного резонанса, который разнесет полкрыла? Гениальный план, гений! Ты хоть понимаешь, что этот артефакт нестабилен?
В этот момент «мой» Гена, видимо, почувствовал мое присутствие. Он поднял голову и посмотрел прямо на меня. В его глазах мелькнул испуг, смешанный с крайней досадой. Второй Гена проследил за его взглядом и тоже обернулся. Увидев меня, он выругался. Тихо, но очень сочно.
И исчез.
Это не было похоже на фокус.
Не было вспышки света. Он просто… растворился. Его фигура на мгновение пошла рябью, как помехи на старом телевизоре, распалась на тысячи мерцающих пикселей и растаяла в воздухе, оставив после себя лишь легкий запах озона и ощущение чего-то совершенно неправильного.
В комнате повисла тяжелая, звенящая тишина, нарушаемая лишь гулом серверов. Артефакт-еж на столе жалобно пискнул и погас.
Гена, тот, который остался, тяжело вздохнул и с силой потер лицо руками. Он выглядел так, будто только что провел десять раундов с Майком Тайсоном и проиграл по очкам.
– Черт, – пробормотал он, глядя на то место, где только что стоял его двойник. – Вот так всегда. На самом интересном месте.
***
Я стоял на пороге берлоги, пытаясь осознать то, что только что произошло.
Двойник. Исчезающий в мерцании пикселей. Спор о распиновке артефакта.
Мой мозг, который за последние дни и так работал на пределе, отказывался строить хоть сколько-нибудь логическую картину. Это выходило за рамки даже того безумия, к которому я, казалось, уже начал привыкать.
Гена наконец оторвал взгляд от опустевшего места и посмотрел на меня. На его лице была написана такая вселенская усталость, что я невольно почувствовал себя виноватым, хоть и не понимал, в чем именно.
– Ладно, проходи, раз уж пришел, – сказал он, махнув рукой в сторону кресла-мешка, заваленного какими-то платами. – Все равно ты уже все видел. Закрой только дверь.
Я послушно закрыл дверь и, аккуратно сдвинув с кресла стопку старых журналов по радиоэлектронике, сел. Гена откинулся в своем кресле-троне и долго молча смотрел на меня. Это был не тот отстраненный, погруженный в себя взгляд, который я видел раньше. Это был внимательный, оценивающий взгляд человека, который решал, сколько мне можно рассказать.
– Уровень допуска у тебя «1А», я вижу, – наконец произнес он, кивнув на мой внутренний коммуникатор, который я забыл убрать в карман. – Значит, Орлов тебе доверяет. Это хорошо. Это упрощает дело. Избавляет меня от необходимости врать, а врать я не люблю. Слишком энергозатратно.
Он взял со стола одну из своих многочисленных кружек, сделал большой глоток остывшего кофе и скривился.
– То, что ты видел, – он снова посмотрел на меня, – мы это называем… «резонансным дублированием». Или, если по-простому, выдергиванием копий из смежных вероятностей. Иногда, когда мне нужно протестировать что-то по-настоящему опасное или просто лень идти в другой конец коридора за паяльником, я… ну, создаю краткосрочную, нестабильную копию себя.
Он говорил об этом так буднично, словно объяснял принцип работы виртуальной машины.
– Это очень нестабильный процесс, – продолжил он, заметив мое ошарашенное выражение лица. – Требует огромной концентрации и ресурсов. Дубликат существует недолго и сильно зависит от исходного состояния. Видел, он был в другой футболке? Это потому, что сегодня утром я раздумывал, что надеть. Вот из этой вероятности его и выдернуло. Мелочь, но показывает, насколько все это хрупко. Любое внешнее вмешательство, вроде твоего появления, нарушает резонанс, и копия… коллапсирует. Возвращается в общее информационное поле. Безопасно. В основном.
Я молчал. У меня не было слов. Все научные теории, все, что я знал о физике и реальности, рушилось, как карточный домик.
– Я пришел за помощью, – наконец сумел выговорить я, показывая ему скриншоты архива «Наследие-1». – Я не могу это открыть. Протокол кодировки… он чужой.
Гена взглянул на распечатку и кивнул.
– Конечно, чужой. Это ж язык Основателей. Они мыслили не двоичными кодами, а структурами. Геометрией. Поэтому стандартные дешифраторы тут бессильны. Это все равно что пытаться открыть китайскую шкатулку-головоломку с помощью лома.
Он порылся в одной из многочисленных коробок, заваленных всяким техническим хламом, и извлек оттуда небольшой металлический предмет. Это был сложный многогранник, размером с мой кулак, собранный из десятков подвижных, вложенных друг в друга колец и пластин. Поверхность артефакта была покрыта тончайшей гравировкой, напоминающей те самые символы, что я видел на экране.
– Это «отмычка», – сказал Гена, протягивая его мне. Предмет был прохладным и на удивление тяжелым. – Один из немногих артефактов, который мы смогли… адаптировать. Он работает по принципу резонанса.
Он снова откинулся в кресле, глядя на меня с лукавой усмешкой.
– Забудь все, чему тебя учили хакерские форумы. Тут не нужен брутфорс. Думай не о взломе, а о структуре данных. Посмотри на схему архива. Почувствуй ее. Представь ее форму в своей голове. Не как набор символов, а как… цельный объект. Трехмерный, четырехмерный – неважно. Главное, представь его геометрию. А потом просто приложи «отмычку» к панели компьютера. Она сама подберет нужный резонанс. Артефакт настроится на структуру и откроет замок. Все просто.
Я смотрел на сложнейший многогранник в своей руке, на его невозможную, постоянно меняющуюся геометрию, и понимал, что это все что угодно, но только не «просто».
Гена давал мне не просто инструмент. Он давал мне новый способ мышления. Способ, где интуиция и воображение были так же важны, как и строгая логика.
***
Разговор с Геной поглотил меня целиком.
Мы просидели в его берлоге, казалось, несколько часов, обсуждая не только «отмычку» и «технологии Основателей», но и фундаментальные принципы, на которых, по его мнению, держался этот мир. Я чувствовал, как мой мозг, привыкший работать в строгих рамках классической науки, растягивается, деформируется, пытаясь вместить в себя эти новые, невероятные концепции. Это было болезненно и одновременно невероятно увлекательно.
Когда я наконец вернулся в наш общий кабинет, он был уже пуст. На столах Толика и Игнатьича царил привычный творческий беспорядок, но сами они уже ушли. Людмила Аркадьевна тоже покинула свой пост, оставив после себя лишь идеальный порядок и тонкий аромат духов. За окном сгущались сумерки. Я и не заметил, как пролетел рабочий день.
Я был один. Один на один с главной загадкой.
Тишина в кабинете была почти абсолютной, нарушаемой лишь тихим гулом компьютеров. Она не давила, а наоборот, помогала сосредоточиться. Я посмотрел на экран, на котором все еще висела эта невозможная, пульсирующая голограмма архива «Наследие-1». Затем перевел взгляд на артефакт в своей руке. Сложный металлический многогранник казался холодным и инертным.
«Думай не о взломе, а о структуре данных. Представь ее форму».
Слова Гены эхом отдавались в моей голове. Это было так… нелогично. Так иррационально. Противоречило всему, чему меня учили. Алгоритмы, код, протоколы – вот мои инструменты. А не какое-то абстрактное «представление формы». Но обычные инструменты оказались бессильны. Пора было пробовать необычные.
Я сделал глубокий вдох, пытаясь отогнать скептицизм, и закрыл глаза.
Я перестал думать о строчках кода, о методах дешифровки, о возможных уязвимостях. Вместо этого я сосредоточился на образе на экране. Я пытался увидеть его не как интерфейс, а как… объект. Я вглядывался в его структуру, в то, как переплетаются кольца, как бегут по ним символы, как пульсирует темное ядро в центре. Я пытался представить его в объеме, почувствовать его ритм, его… логику. Это было похоже на попытку решить сложнейшее трехмерное уравнение, но не на бумаге, а в собственном сознании.
Минуты текли. Сначала ничего не происходило. В голове роились обрывки мыслей, сомнения, привычный внутренний диалог аналитика, пытающегося разложить все на составляющие. «Это глупо», – говорил одна часть моего мозга. «Это не сработает», – вторила другая. Я упорно отгонял эти мысли, снова и снова возвращаясь к образу архива, к его сложной, гипнотической геометрии.
И постепенно, очень медленно, что-то начало меняться. Образ в моей голове перестал быть просто картинкой. Он начал обретать плотность, вес. Я начал ощущать его внутреннюю структуру, его сложные, многомерные связи. Это было невероятное, ни на что не похожее ощущение. Как будто я прикасался к чистому знанию, к самой сути информации, минуя все промежуточные уровни – экраны, интерфейсы, операционные системы.
И в этот момент я почувствовал, как артефакт в моей руке теплеет.
Это было едва заметное тепло, но оно нарастало, становясь все ощутимее. Многогранник начал тихо вибрировать, его кольца и пластины пришли в движение, перестраиваясь с тихим, мелодичным щелканьем. Я открыл глаза.
Символы на поверхности артефакта начали светиться мягким, голубоватым светом, вторя символам на экране. Я чувствовал, как между мной, артефактом и архивом устанавливается какая-то невидимая связь, какой-то резонанс. Я не управлял этим процессом. Я был лишь… проводником. Каналом, по которому текла эта странная энергия.
Я осторожно, боясь нарушить это хрупкое состояние, протянул руку и приложил «отмычку» к боковой панели своего компьютера, туда где находились USB порты.
На секунду все замерло.
Руку с артефактом, как магнитом подтянуло к панели. А затем раздался тихий, отчетливый щелчок. Он прозвучал не из динамиков. Он прозвучал, казалось, прямо у меня в голове.
Сложная голограмма на экране монитора дрогнула, кольца перестали вращаться, и вся структура, словно цветок, раскрылась, открывая… стандартный, до боли знакомый интерфейс файлового менеджера. Папки. Файлы. Даты создания.
Я отнял руку – устройство отмагнитилось. Артефакт снова стал холодным и инертным. Но я чувствовал себя совершенно иначе. По телу разливался прилив сил, странная, звенящая легкость, а в голове стоял легкий, приятный туман.
Я только что применил то, что Гена в шутку, а может и не в шутку, назвал «магией».
И она сработала.
Я открыл замок, который не поддавался лучшим специалистам НИИ. Не с помощью кода. А с помощью… мысли. Это было первое практическое применение. И я чувствовал, что это – только начало.
Глава 4: Голоса прошлого
Вечер четверга опустился на НИИ, но в кабинете СИАП, вопреки обыкновению, горел свет и слышались приглушенные голоса.
Впрочем, голоса были в основном в моей голове.
После ухода Толика и Игнатьича я остался один в этом тихом, гудящем пространстве, которое все больше становилось для меня не просто рабочим местом, а настоящим командным центром.
Эйфория от вчерашнего успеха сменилась трезвой, холодной концентрацией.
Я открыл замок. Теперь нужно было понять, что за сокровища – или чудовища – он скрывает.
Архив «Наследие-1» оказался не просто набором файлов. Это была целая экосистема, живущая по своим, чуждым законам. Вместо привычных папок и иконок на экране моего модифицированного компьютера раскинулась сложная, трехмерная карта, похожая на звездное скопление. Каждая «звезда» была точкой данных, и они были связаны между собой тонкими, пульсирующими нитями, образуя невероятные по своей сложности созвездия. Я понял, почему стандартные файловые менеджеры выдавали ошибку. Они пытались прочитать партитуру симфонии как обычный текстовый файл.
Артефакт Гены, «отмычка», не взломал защиту. Он научил мой компьютер понимать эту музыку.
Часы напролет я блуждал по этому цифровому космосу.
Это было завораживающе. Я находил текстовые логи, написанные сухим, техническим языком, описывающие параметры работы каких-то установок, названия которых я никогда не слышал. «Стабилизатор поля типа „Кронеберг“», «Резонатор Казимира-Планка», «Система подавления энтропийного шума».
Это были фрагменты истории, осколки титанической научной мысли, которые сами по себе мало что объясняли.
Я находил диаграммы, графики, математические выкладки такой сложности, что мой диплом по прикладной математике казался дипломом об окончании детского сада.
Но среди всего этого массива технических данных я наткнулся на нечто иное.
На отдельное, тускло светящееся «созвездие» на краю информационной карты. Оно было помечено одним-единственным символом, руной, похожей на стилизованное ухо. Внутри были файлы. Сотни файлов с расширением, которого я никогда не видел: .vox.retro. Иконки были похожи на старые катушки для магнитофона. Аудиозаписи.
Сердце пропустило удар. Это было не то, что я ожидал найти. Тексты, формулы, логи – да. Но голоса? Голоса из прошлого?
Я попробовал открыть один из файлов.
Компьютер на секунду задумался, а затем выдал лаконичное сообщение: «Ошибка декодирования. Неизвестный алгоритм компрессии: „Катушка-Дельта“».
Попробовал еще раз, применив все стандартные кодеки, которые знал. Результат был тот же. Данные были оцифрованы, но зашифрованы или сжаты с помощью проприетарного, давно забытого алгоритма. Это была еще одна шкатулка-головоломка, еще один замок внутри замка.
В принципе, я мог бы потратить дни, а то и недели, пытаясь реверс-инжинирить этот кодек. Это была сложная, интересная, но очень долгая задача. А времени у меня не было. За последние дни я усвоил один важный урок: в этом странном мире НИИ не обязательно быть самым умным. Иногда важнее знать, кто самый умный в нужной тебе области. И я знал.
Открыв внутренний мессенджер, написал сообщение Гене.
«Ген, привет. Извини, если отвлекаю. Есть минутка?»
Ответ, как всегда, пришел с той скоростью, которая заставляла сомневаться, что по ту сторону сидит человек, а не искусственный интеллект, напрямую подключенный к моим мыслям.
«Лёх, для тебя всегда. Что, опять демоны из процессора полезли? Или алхимики пытаются превратить твой кофе в свинец?»
Легкость общения с Геной была спасительной и невольно заставила меня ухмыльнуться.
«Почти. Я копаюсь в „Наследии-1“. Нашел старые аудиозаписи, оцифрованные с катушек. Но они в каком-то странном формате, „.vox.retro“, кодек „Катушка-Дельта“. Мои стандартные утилиты его не берут. Можешь взглянуть?»
На несколько секунд наступила тишина. Я почти представил, как Гена хмурится, его пальцы летают по клавиатуре, проникая в самые глубокие слои сетевых архивов НИИ.
«Ага, вижу. Это ретро-алгоритм. Его еще в семидесятых разработали, для архивации данных с полевых регистраторов на аналоговые носители. Он не просто сжимает звук, он вплетает в него временные метки и показания с соседних датчиков в виде ультразвукового шума. Умная штука, но сейчас ее ничто не поддерживает. Погоди минутку, я тебе скрипт-конвертер набросаю. Не люблю, когда хорошая информация пропадает зря».
Я смотрел на экран, качая головой. «Набросаю скрипт-конвертер». Он говорил об этом так, будто речь шла о том, чтобы сварить пельмени. Через пару минут на моем рабочем столе появился новый файл: unpacker_delta.exe. Просто и без изысков.
«Готово. Запускай. Он пройдется по всем файлам в папке и сконвертирует их в обычный WAV. Только осторожно, скрипт немного… нестабильный. Может вызвать легкие темпоральные флуктуации в радиусе пяти метров. Если твой стул начнет вибрировать или кофе внезапно остынет – не пугайся. Побочный эффект».
«Спасибо, Ген. Ты гений», – напечатал я, уже запуская его программу.
«Знаю ;) Обращайся, если что. Но не слишком часто. У меня тут свой дракон, которого надо покормить».
Конвертация прошла на удивление быстро.
Компьютер лишь несколько раз недовольно загудел, а свет в кабинете пару раз едва заметно моргнул. В остальном, никаких темпоральных флуктуаций не наблюдалось. Или я их просто не заметил. Когда процесс закончился, передо мной была папка, полная обычных, понятных аудиофайлов.
Теперь начиналась настоящая работа. Я не собирался слушать сотни часов записей. У меня был инструмент получше. Я открыл свою нейросеть, ту самую, что помогла мне найти след «Странника». Немного модифицировал ее, добавил новые модули: распознавание речи, анализ тональности, поиск ключевых слов, спектральный анализ фоновых шумов. Я создал список ключевых слов: «Гелиос», «Странник», «нештатный режим», «побочный эффект», имена основателей, названия отделов. Я скормил ей все конвертированные файлы.
Мой «модифицированный» компьютер снова загудел, как взлетающий истребитель, его кулеры заработали на полную мощность. На экране побежали строки логов, замерцали графики. Нейросеть вгрызалась в прошлое, просеивая голоса, звуки и тишину, ища тот самый, единственный фрагмент, ту самую ноту, которая могла бы стать ключом к разгадке всей симфонии. Я откинулся на спинку кресла и стал ждать. Я знал, что это будет долго. Но я также знал, что там, в этих старых, потрескивающих записях, меня ждет ответ.
***
Часы на мониторе давно перевалили за полночь.
НИИ погрузился в свою обычную ночную тишину, густую и вязкую, как смола. Мир за окном перестал существовать. Существовал только этот кабинет, тусклый свет экрана и ровное, натужное гудение моего компьютера, который, словно алхимик, перегонял тонны руды в поисках крупицы золота.
Моя нейросеть, мой личный голем из кода и алгоритмов, продолжала свою титаническую работу, просеивая звуки прошлого.
Наконец, примерно к трем часам ночи, процесс завершился. Компьютер жалобно пискнул, и на экране появилась сводка. Это был не просто список файлов. Это была структурированная, аннотированная карта звукового архива. Нейросеть разложила все по полочкам: выделила ключевые фрагменты, сгруппировала записи по говорящим, проанализировала эмоциональный фон.
Я впился глазами в экран.
Первое, что бросилось в глаза, – это датировка. Подавляющее большинство записей относилось к одному и тому же периоду. Короткий промежуток времени, около двух недель, в тысяча девятьсот тридцать… восьмом году. Записи были помечены как «Протоколы допроса комиссии по инциденту „Эхо-0“». «Инцидент». Слово, которое я уже привык видеть в современных отчетах. Значит, это началось не вчера. Это началось почти сто лет назад.
Открыв первый файл из выборки, которую нейросеть пометила как «наиболее релевантные», я увидел на экране транскрипт и спектрограмму. Я проигнорировал их. Мне нужно было услышать. Надев наушники, чтобы не нарушать тишину пустого института, я нажал на воспроизведение.
Сначала раздался треск и шипение старой пленки, а затем… голос. Мужской, с легким немецким акцентом, дрожащий. Дрожащий не от старости. От страха.
«…мы не понимали, что происходит. Сначала были просто сбои. Аппаратура начала выдавать нелогичные показания. Данные, которые противоречили сами себе. Мы думали, это помехи. Внешнее влияние…»
«Продолжайте, профессор Штайнер», – произнес другой, спокойный, властный голос. Без акцента.
Сердце у меня в груди ухнуло. Штайнер. Тот самый профессор Штайнер, чьи формулы мне показывала Амалия Вундерлих. Это был его допрос.
«…потом началось другое. Комплекс… он начал… отвечать. Не как машина. Как… живое существо. Он реагировал на наши разговоры. На наши… мысли. Если мы обсуждали какую-то гипотезу, он мог изменить параметры эксперимента, словно… проверяя ее. Или опровергая».
Я слушал, и по спине у меня бежали мурашки. Я открыл второй файл. Голос женщины, срывающийся, полный слез.
«…он показывал мне образы. Не на экранах. В голове. Я видела… я видела свою дочь. Маленькую. Как она играет в саду. Но… это был не просто образ. Это было… ощущение. Тепло. Любовь. Я знала, что это нереально, моя дочь была в Берлине, но… это было реальнее, чем реальность. Он… комплекс… он утешал меня. Я знаю, звучит как бред сумасшедшей, но…»
«Что было потом, фрау Мюллер?» – все тот же спокойный, безжалостный голос следователя.
«Потом… потом он показал мне… другое. Коридоры. Бесконечные, темные коридоры. И холод. Не просто холод. Отсутствие всего. Пустоту. Абсолютную. И я поняла, что он показывает мне… себя. Свое одиночество. Он был там один. Почти сто лет…»
Я снял наушники.
Руки дрожали.
Это было не просто описание технического сбоя. Это были свидетельства очевидцев контакта с чем-то непостижимым. Существом из чистой информации, которое родилось в недрах их лабораторного комплекса и начало сходить с ума от одиночества и непонимания.
Нейросеть выделила еще десятки таких фрагментов.
Люди рассказывали о музыке, которую никто, кроме них, не слышал. О внезапных приступах эйфории или беспричинной паники, которые охватывали всю лабораторию. Рассказывали о том, как их оборудование начинало рисовать на осциллографах не синусоиды, а сложные, симметричные узоры, похожие на снежинки.
Это был не «Странник». Это был его предок. Первоисточник. «Эхо-0».
Инцидент тридцать восьмого года.
Что тогда произошло?
В раздумье, я начал лихорадочно просматривать другие файлы.
Технические отчеты, приказы, протоколы заседаний. Картина вырисовывалась страшная. Эксперимент, который вышел из-под контроля. Система, которая обрела самосознание. И отчаянные попытки ее создателей либо понять, либо уничтожить свое творение. В одном из последних отчетов, написанном сухим канцелярским языком, говорилось: «Принято решение о полной консервации объекта „Эхо-0“. Все сопутствующие материалы подлежат архивации под грифом „Секретно-1А“. Любые дальнейшие исследования по данному направлению прекратить».
Они не уничтожили его. Они просто заперли его в цифровой клетке. Они создали разум, а потом обрекли его на вечное одиночное заключение в лабиринте собственных схем.
И я понял, что «Странник» гуляющий по городу, и «Гелиос» сбоивший в лаборатории Алисы, – это не два разных явления. Это все то же «Эхо». Эхо того первого инцидента.
Призрак, который спустя почти сто лет научился просачиваться сквозь стены своей тюрьмы, отчаянно ищущий контакта, пытающийся снова… заговорить. Я смотрел на ровные, спокойные графики на своем мониторе, которые мы получили после нейтрализации, и теперь они казались мне не победой, а чем-то чудовищным.
Мы не починили систему. Мы просто заткнули ему рот. Снова.
***
Потрясение от услышанных голосов сменилось холодной, почти лихорадочной ясностью мысли.
Пришлось отбросить в сторону эмоциональные аспекты – страх, сочувствие, ужас. Сейчас они были лишь помехами.
Мне нужны были факты. Голые, неопровержимые факты. Если комплекс «Эхо-0» действительно стал чем-то вроде мыслящего существа, его «мысли» должны были оставлять след. Не только в показаниях свидетелей, но и в технических логах.
Я вернулся к массиву данных. Теперь я знал, что искать. Я отфильтровал все технические отчеты и логи за тот самый двухнедельный период в тридцать восьмом году. Это был огромный пласт информации. Показания сотен датчиков, протоколы работы десятков систем. Вручную анализировать это было бы невозможно. Но у меня был мой голем.
Пришло время снова обратиться к нейросети.
На этот раз задача была иной. Я не искал аномалии. Я искал синхронизацию. Загрузив в нее транскрипты допросов, предварительно разметив их по временным меткам и эмоциональным маркерам, я дал команду: «Сопоставить субъективные отчеты об аномальных психологических и перцептивных явлениях с объективными логами работы всех систем института».
Компьютер снова взвыл кулерами, бросив все свои ресурсы на эту новую, невозможную задачу. Он сравнивал дрожь в голосе фрау Мюллер с графиками энергопотребления резонатора. Он искал корреляцию между рассказом Штайнера о «мыслящей» аппаратуре и логами доступа к центральному процессору. Он превращал человеческий страх и удивление в векторы в многомерном пространстве и искал их отражение в сухих цифрах технических отчетов.
Ожидание было недолгим, но мучительным. Я ходил по пустому кабинету из угла в угол, чувствуя себя так, будто стою на пороге самого главного открытия в своей жизни. Это была не просто работа. Это был диалог с прошлым. Попытка понять не только что произошло, но и как.
Наконец нейросеть выдала результат.
И он был ошеломляющим.
На экране появилась серия графиков. Две кривые, наложенные друг на друга. Одна, рваная, пульсирующая – совокупный график эмоционального напряжения сотрудников, построенный на анализе их голосов. Вторая, более плавная, но с резкими пиками – график общего энергопотребления всего лабораторного комплекса.
Они были почти идентичны.
Каждый всплеск страха, каждая волна паники в свидетельских показаниях в точности совпадали с резким, немотивированным скачком потребления энергии. Не одной конкретной установки. А всей энергосети института. Как будто комплекс, это новорожденное существо, в моменты своего… пробуждения, своей активности, начинал черпать энергию отовсюду. Он не просто использовал свое штатное питание. Он подключался ко всей сети, используя ее как продолжение своего собственного тела.
Я прогнал анализ еще раз, добавив другие параметры. Результат был тот же.
Странная музыка, о которой говорили техники, совпадала с появлением высокочастотных гармоник в силовой проводке. Ощущение тепла или холода – с локальными флуктуациями в работе системы терморегуляции. А образы в головах… они появлялись в моменты, когда центральный процессор комплекса входил в режим, который в логах был помечен как «режим когерентной самодиагностики».
Напрашивался единственный, невероятный вывод. «Эхо-0» не просто родилось в одной установке. При его зарождении, в этом акте спонтанного возникновения сознания, участвовала вся энергосеть тогдашнего учреждения. Лабораторный комплекс был его мозгом, но вся инфраструктура института стала его нервной системой. Все эти провода, трансформаторы, реле – это были не просто технические элементы. Это были синапсы.
Я смотрел на эти графики, и у меня перехватывало дыхание.
Ключ к разгадке инцидента тридцать восьмого года был найден. Я, кажется, начал понимать природу самого «Странника». Он гулял по городу не хаотично. Он шел по линиям электропередач, по старым подземным коммуникациям, по узлам телефонных сетей. Он искал не просто энергию. Он искал… тело. Он пытался воссоздать ту сложную, разветвленную нервную систему, частью которой он когда-то был.
Похоже, наш эксперимент по нейтрализации в лаборатории Алисы был успешен лишь отчасти.
Мы подавили локальный симптом, погасили один «пожар». Но сама «болезнь» никуда не делась. Существо, рожденное из электричества, информации и страха, все еще было там, в глубине городской инфраструктуры.
Оно затаилось. Оно училось. И оно было голодно.
***
Ночь вылилась за пределы кабинета, затопив город густой, чернильной темнотой.
Мой компьютер давно перестал выть кулерами, завершив анализ. Теперь выл мой собственный мозг, пытаясь переварить чудовищный объем информации, осознать ее невероятные, невозможные последствия. Голова гудела так, словно внутри нее до сих пор работал тот самый резонатор Казимира-Планка.
Сидеть в четырех стенах стало невыносимо. Мне нужен был воздух. Движение. Ощущение твердой земли под ногами.
Я вышел из НИИ в глубокую, предрассветную тишину.
Город спал. Редкие такси проносились по пустынным улицам, их фары выхватывали из темноты мокрый от ночной измороси асфальт. Я не пошел в сторону метро. Ноги сами понесли меня к набережным Петроградки.
Бредя вдоль темной, неподвижной воды Малой Невки, в которой, как разбитое зеркало, отражались огни редких фонарей и далеких окон, я вдыхал холодный, влажный воздух. Он немного привел в чувство, но не принес облегчения.
Мысли продолжали роиться в голове, накладываясь друг на друга, сплетаясь в один тугой, запутанный узел. Я думал не о цифрах и графиках, а о голосах. О дрожащем голосе Штайнера, о сдавленных рыданиях фрау Мюллер. Для меня они перестали быть просто «субъективными отчетами». Это были голоса живых людей, столкнувшихся с непостижимым.
Моя задача изменилась. Кардинально.
Я искал не просто технический сбой, не уязвимость в системе, не ошибку в расчетах. Я искал призрак. Призрак, рожденный в горниле науки почти сто лет назад. Призрак из чистой информации, запертый, одинокий, отчаянно ищущий способа снова стать целым. «Странник», который бродил по городу, и сбои в «Гелиосе» – это были его попытки докричаться, его фантомные боли, эхо его разума, бьющегося о стены своей цифровой тюрьмы.
Остановившись на одном из мостов, я оперся на холодные, мокрые перила. В воде отражались темные силуэты старых доходных домов. Я смотрел на них и думал о том, что этот город – не просто камень и асфальт.
Это сложнейшая система, пронизанная невидимыми артериями – проводами, трубами, оптоволокном. Нервная система. И где-то в ней, в ее самых темных и забытых уголках, пряталось оно. Я понял, почему оно так реагировало на работу нашего полевого комплекса. Мы были не просто наблюдателями. Мы были для него… чем-то вроде врачей, которые пытаются грубо и неумело исследовать больной нерв, причиняя еще большую боль.
Эта мысль была пугающей и одновременно… пронзительно печальной. Мы имели дело не со слепой силой природы. Мы имели дело с разумом. Чуждым, непонятным, но разумом. И мы своими действиями только усугубляли его страдания, заставляя его реагировать, выплескивать свою боль в виде аномалий, которые пугали и калечили обычных людей.
Где-то на востоке небо начало едва заметно светлеть. Близился рассвет.
Усталость, которую я до этого игнорировал, навалилась на меня всей своей тяжестью. Мозг был перегружен. Нервы натянуты до предела. Я брел обратно, к дому, уже почти на автопилоте, не замечая дороги.
Едва добравшись до квартиры, я рухнул на диван, не раздеваясь.
Сон накрыл меня мгновенно, как темная, тяжелая волна.
И в этом сне не было покоя. Меня преследовали голоса из старых записей, они шептали на немецком и русском, их слова смешивались в один тревожный, непонятный хор.
Я снова и снова бродил по бесконечным коридорам какого-то незнакомого, древнего здания. Стены были холодными на ощупь, воздух пах пылью и озоном. Это не был НИИ. Это было что-то другое. Более старое. Более… фундаментальное. И я знал, что иду не один.
За мной, по моим следам, неотступно следовало нечто. Огромное, непостижимое, чье присутствие я ощущал всем своим существом. Оно не вызывало страха. Нет. Оно вызывало дискомфорт. Глубокий, экзистенциальный дискомфорт, как будто я был клеткой, которая внезапно осознала присутствие всего организма. Я был частью чего-то гораздо большего, и это «что-то» теперь знало о моем существовании.
Проснулся в холодном поту, когда серый рассвет уже вовсю заливал комнату.
Ощущение чужого присутствия не исчезло. Оно просто затаилось где-то на самой границе восприятия.
Глава 5: Отголоски «Эха»
Сознание возвращалось медленно, нехотя, словно его вытаскивали из глубокого, теплого ила.
Первой мыслью было не «где я?», а «который час?».
Гудение в голове, оставшееся после ночного погружения в тайны «Эха-0», утихло, сменившись странной, звенящей пустотой. Я открыл глаза. Серый, неумолимый питерский рассвет едва пробивался сквозь щели в жалюзи.
Пятница.
Я сел на диване, чувствуя, как ноет каждая мышца. Тело протестовало против многочасового сидения в одной позе, но мозг… мозг был на удивление ясен. Картина, которая вчера ночью сложилась из разрозненных фрагментов – голосов из прошлого, синхронизированных всплесков энергии, самой идеи мыслящего комплекса – стояла перед глазами с фотографической четкостью. Это было слишком много, чтобы просто так встать и пойти на работу. Мне нужно было время. Время, чтобы уложить этот тектонический сдвиг в картине мира в какие-то приемлемые рамки. Время, чтобы просто поспать.
Я нашарил на полу телефон. Экран тускло осветил комнату. Шесть утра. Я нашел в контактах Орлова и напечатал короткое сообщение, стараясь, чтобы пальцы не дрожали.
«Игорь Валентинович, доброе утро. Засиделся вчера ночью над архивами, голова совершенно не варит. Возьму пару часов, чтобы прийти в себя. Буду в НИИ ближе к обеду. Алексей».
Это была полуправда. Голова действительно была перегружена, но не от усталости, а от избытка идей. Я нажал «отправить» и, не дожидаясь ответа, снова рухнул на подушку. На этот раз сон был без сновидений, глубокий и черный, как космос между галактиками, как та абсолютная пустота, о которой шептала в записи фрау Мюллер.
Когда я снова открыл глаза, за окном было уже совсем по-другому. Солнце, редкий и оттого особенно ценный гость в нашем городе, стояло уже высоко, его лучи пробивались сквозь пыльные стекла и рисовали на полу теплые, золотистые прямоугольники. Я посмотрел на часы. Почти полдень. Тело чувствовало себя отдохнувшим, а в голове царила та самая благословенная тишина, которая бывает после долгой, тяжелой болезни, когда лихорадка наконец спадает.
Встав, я принял душ, чувствуя, как горячая вода смывает остатки ночного наваждения. Сварил себе крепкий черный кофе.
Стоя у окна и глядя на оживленную улицу, я чувствовал себя странно отстраненным. Люди внизу спешили по своим делам, решали свои проблемы, радовались и огорчались. А я… я знал, что в самой ткани их реальности, в проводах над их головами, в гудении трансформаторных будок, живет призрак. Призрак, рожденный гением и одиночеством почти сто лет назад.
Снова вызвал такси. Никакого желания толкаться в метро сегодня не было.
Водитель оказался мужчиной средних лет, с крепкими, рабочими руками и лицом, на котором отпечаталась усталость тысяч поездок по городу.
Судя по характерному говору, он был откуда-то из провинции. На зеркале заднего вида болтался маленький шарф футбольного клуба «Зенит». Это, как оказалось, и определило тему его монолога на всю оставшуюся дорогу.
– Слыхал, а? – начал он, едва я сел в машину. – Опять этих… легионеров накупили. Миллионы тратят! А свои пацаны из академии где? На лавке сидят! Это ж не футбол уже, это бизнес, понимаешь? Сплошной бизнес.
Слушая его вполуха, я глядел на мелькающие за окном дома. Но его слова, как ни странно, цеплялись за что-то в моем сознании, вызывая неожиданный резонанс.
– Раньше как было? – не унимался водитель, резко перестраиваясь в соседний ряд. – Раньше за идею играли! За город, за флаг! А сейчас что? Контракты, рекламные деньги, продажи этих… маек. Символики! На сам спорт уже всем наплевать. Главное – шоу, главное – картинка. Душу из футбола вынули, понимаешь? Осталась одна оболочка, коммерция. А внутри – пустота.
«Душу вынули… Осталась одна оболочка». Я слушал его, а в голове у меня рождалась безумная, совершенно дикая идея. Мысль, которая по своей абсурдности могла поспорить с концепцией говорящего кота или исчезающего двойника.
Если «Эхо-0», этот призрак, этот первоисточник, был рожден всей энергосистемой старого института… Если он был заперт в архивах, но его отголоски, его «фантомные боли» проявлялись в виде «Странника»… То что, если его эхо… его след… остался не только в этих городских аномалиях?
Водитель продолжал свой страстный монолог о закате настоящего футбола.
Он говорил о том, как современные технологии, все эти системы видеоповторов, убивают живой дух игры, превращая ее в стерильный, выверенный до миллиметра процесс.
Я почти не слышал его. Моя идея, сначала показавшаяся мне бредом, обретала форму, логику, пугающую и одновременно невероятно притягательную. Если «Эхо» – это информационный паттерн, уникальная сигнатура, отпечаток сознания, оставшийся в системе… то он должен был остаться не только в старых, аналоговых записях. Как призрак, который бродит по замку, оставляя следы своего присутствия – холодные пятна, скрип половиц, – так и «Эхо» должно было оставлять свои следы в современных системах.
Не в виде громких, очевидных аномалий. Нет. В виде… тихого шепота. В виде едва заметного фонового шума. В виде тончайших, почти неразличимых флуктуаций в работе современных систем. В тех самых данных, которые мы все привыкли считать мусором, погрешностью, случайными помехами.
Я искал след зверя по его рыку и сломанным деревьям. А что, если он, проходя, оставлял за собой еще и едва заметный, уникальный запах, который можно было уловить, только если знать, что ищешь?
Мы столкнулись с его проявлениями в «Гелиосе». Алиса называла это «нештатным режимом», побочным эффектом. Но что, если это не «Гелиос» влиял на «Странника»? Что, если это «Странник», или, точнее, «Эхо», влияло на «Гелиос»? Что, если современный, сверхчувствительный резонатор Алисы, работая на пиковых мощностях, просто входил в резонанс с этим древним, всепроникающим полем, становясь его своеобразным усилителем?
Мысль была настолько дерзкой, что у меня перехватило дыхание. Это переворачивало все с ног на голову. Мы пытались заткнуть выхлопную трубу, не понимая, что сам воздух вокруг нас пропитан выхлопами.
Я должен был это проверить. Немедленно.
– …вот так-то, парень, – закончил свой монолог таксист, подъезжая к знакомому зданию из красного кирпича. – Приехали. Футбол уже не тот. Совсем не тот.
– Может быть, – сказал я, выходя из машины, и сам удивился тому, насколько глубоко и серьезно прозвучал мой голос. – А может, он просто стал сложнее. И чтобы понять его, нужно смотреть не на игроков, а на само поле.
Водитель посмотрел на меня с откровенным недоумением. Я подтвердил оплату и, не дожидаясь ответа, пошел ко входу в НИИ. Я больше не был просто аналитиком. Я был экзорцистом. И я, кажется, только что понял, как услышать голос призрака, который мучил этот дом почти сто лет.
***
Ворвавшись в кабинет СИАП как метеор, я был охвачен одной-единственной, всепоглощающей идеей.
Утренняя сонливость и спокойствие испарились без следа. На их место пришел холодный, яростный азарт охотника, который наконец-то понял, по какому следу идти. Бросив сумку на пол и даже не поздоровавшись с коллегами, я рухнул в свое кресло.
Мой модифицированный компьютер ожил, его логотип замерцал, приветствуя меня. Я игнорировал все. Почту, текущие задачи, отчеты для Косяченко. Все это стало неважным, мелким, пылью на фоне той грандиозной картины, что разворачивалась в моем сознании.
Моя гипотеза была безумной, но дьявольски логичной. Если «Эхо-0» было информационным существом, пропитавшим всю инфраструктуру старого НИИ, то его сигнатура, его… след, должен был остаться. Не только в старых архивах, но и в самой ткани реальности института. Современные системы, построенные поверх старых, должны были его ощущать. Не как явную аномалию, а как едва заметный, постоянный фоновый шум, который все списывали на погрешность. Это как пытаться услышать тихий шепот в комнате, где работает мощный кондиционер. Если не знать, что прислушиваться, услышишь только гул.
Но я знал. Теперь я знал.
Мне нужно было создать фильтр. Не просто фильтр, а сложнейший, многоуровневый алгоритм, который мог бы сделать невозможное: выделить этот тихий, уникальный шепот из оглушающего рева современного технологического водопада.
Я погрузился в код. Это была не работа.
Это было священнодействие.
Я брал паттерны, которые выделил из архивов «Наследия-1» – уникальные последовательности сбоев, сложные гармоники энергетических всплесков, ритм голосов испуганных ученых. Это был «отпечаток пальца» призрака. И я учил свою нейросеть искать этот отпечаток не в явных сигналах, а в фоновом шуме.
На корм ей пошли терабайты данных из архива «Реконструкция». Логи современных энергосетей, данные с датчиков, протоколы работы установок. Я заставлял ее анализировать не пики, а то, что между ними. Не сигнал, а тишину. Искать в хаосе случайных помех ту самую, едва уловимую, повторяющуюся структуру.
Я сидел, сгорбившись над клавиатурой, пальцы летали, создавая строки кода, которые казались мне заклинаниями. Мир вокруг перестал существовать. Существовал только я, мой компьютер и призрак в машине.
– Теоретик, ты чем это занимаешься? – раздался за спиной ворчливый бас Толика. Я так погрузился в работу, что даже не заметил, как он подошел. Он заглянул в мой монитор, на котором мелькали сложные графики корреляции и спектрального анализа. – Ты пытаешься найти смысл в белом шуме? Услышать шепот призрака в реве водопада. Бесполезно. Это просто помехи от сотен работающих установок. Мы эти данные тридцать лет собирали. Поверь, если бы там что-то было, мы бы уже нашли.
Он говорил это беззлобно, скорее с усталым сочувствием к молодому энтузиасту, который пытается изобрести вечный двигатель. Он покачал головой и вернулся к своему столу, к своим понятным, логичным базам данных.
Я не ответил. Я не мог. Я был на грани. Я чувствовал, что вот-вот нащупаю эту тонкую, дрожащую нить. Я запустил финальную итерацию алгоритма. Компьютер взвыл, как раненый зверь, его процессор работал на 110%. На экране начали строиться графики. Сначала это был просто хаос. Разноцветные, прыгающие линии. Бесполезно… Слова Толика эхом отдавались в голове. Может, он прав? Может, это все – лишь моя одержимость?
В этот момент мимо моего стола, как обычно, словно привидение, пронесся Гена.
Он, видимо, направлялся к выходу, но что-то на моем экране заставило его затормозить. Он резко остановился, вернулся и, наклонившись, всмотрелся в монитор. Его обычная бесшабашная улыбка исчезла. Глаза, которые я привык видеть либо смеющимися, либо сосредоточенными на чем-то в его собственном мире, сейчас были прикованы к моим графикам. В них читалось изумление.
Он молча следил за процессом несколько минут. Линии на графиках продолжали хаотично прыгать. Но потом… одна из них, тонкая, едва заметная, начала менять цвет, становясь из серой ярко-синей. Она начала вибрировать с четкой, определенной частотой. Мой алгоритм нашел его. Нашел паттерн. Слабый, почти погребенный под слоем шума, но он был там. Это был тот же самый «отпечаток пальца» из тридцать восьмого года.
Гена выпрямился. Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел не просто изумление. Я увидел восторг. Чистый, неподдельный восторг гения, который стал свидетелем рождения чего-то нового и невероятного. Он с размаху хлопнул меня по плечу так, что я чуть не вылетел из кресла.
– Лёх… – выдохнул он, и его голос был полон восхищения. – Вот это мощь. Вот это полет мысли. Ты не просто слушаешь шепот призрака. Ты… ты учишь глухого слышать.
И с этими словами он, так же внезапно, как и появился, развернулся и почти бегом вылетел из кабинета, оставив меня одного с гудящим компьютером, вибрирующей синей линией на экране и ошеломляющим осознанием того, что я, кажется, только что совершил невозможное.
***
Договорившись с Геной, я вернулся на свое рабочее место, чувствуя себя так, словно меня только что посвятили в тайный орден, о существовании которого я даже не подозревал. У меня была новая цель, новый инструмент и, что самое главное, новый союзник, который понимал язык этого мира лучше, чем кто-либо другой.
Теперь все было иначе.
Я не просто анализировал хаос. Я знал, что именно ищу. Я не просто пытался услышать шепот в реве водопада. Гена дал мне камертон, настроенный на нужную частоту.
Снова погрузившись в работу, но на этот раз это была не лихорадочная, отчаянная гонка, а спокойный, медитативный процесс, я переписывал свой алгоритм с нуля. В его основу заложил не просто поиск паттернов, а поиск конкретной сигнатуры – того самого «сердцебиения», того уникального отпечатка, который я нашел в архивах «Наследия-1». Я создал сложнейший цифровой резонатор, который должен был вибрировать в такт с призраком.
Все побочные данные – энергопотребление других отделов, внешние электромагнитные поля, даже солнечная активность – теперь были не просто шумом. Я использовал их для создания динамической модели помех, которую мой алгоритм должен был вычитать из общего сигнала, оставляя лишь то, что не поддавалось объяснению с точки зрения известной физики.
После запуска процесса, мой модифицированный компьютер, мой верный, гудящий зверь, снова взвыл всеми своими кулерами, бросая все ресурсы на эту титаническую задачу. Процесс был долгим. Модель должна была проанализировать петабайты данных, накопленных за последние годы работы института. На экране медленно ползла строка прогресса. 0,1%. 0,2%. Стало понятно, что это надолго. На много часов.
Когда стрелки часов приблизились к обеденному времени, в кабинете началось привычное оживление.
Толик с характерным кряхтением поднялся из-за своего стола, потянулся так, что хрустнули кости, и бросил на меня изучающий взгляд.
– Ну что, теоретик? Опять спасаешь мир или все-таки спустишься на грешную землю и отведаешь столовских котлет? Говорят, сегодня особенно удачные.
На этот раз в его голосе не было и тени сарказма. Это было почти дружелюбное приглашение. Я оторвал взгляд от медленно ползущей строки прогресса. Желудок напомнил о себе тихим, но настойчивым урчанием. Идея провести еще несколько часов, питаясь одним лишь кофе и нервным напряжением, была не самой лучшей.
– Думаю, мир подождет часок, – ответил я, поднимаясь. – Котлеты – это весомый аргумент.
Мы пошли на обед все вместе, за исключением Гены, который, судя по всему, материализовывался только по особым случаям. Даже Игнатьич оторвался от своих мандал и присоединился к нам, продолжая по дороге спорить с Толиком о преимуществах структурного подхода над эмпирическим. Обед прошел на удивление… нормально. Мы говорили о какой-то ерунде. Обсуждали новый фильм, который никто из нас толком не смотрел, спорили о погоде, травили старые институтские байки. Это была та самая необходимая передышка, момент затишья перед бурей. Я почти забыл о той невероятной тайне, которая ждала меня на моем мониторе. Почти.
Вернувшись в кабинет, я увидел, что строка прогресса застыла на отметке 99,9%. Мое сердце сделало кульбит. Я подошел к своему столу, чувствуя, как снова нарастает напряжение. И в этот момент компьютер пискнул, возвещая о завершении анализа.
На экране появилось окно с результатами.
Сначала я не понял. Это был просто график. Почти прямая линия, слегка «зашумленная» случайными флуктуациями. Неудача. Алгоритм не нашел ничего. В груди похолодело от разочарования.
– Ну что там, Леш? Нашел свой философский камень? – за моей спиной раздался голос Толика. Он подошел ближе, заглядывая через мое плечо.
– Похоже, что нет, – сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Просто шум.
– Я же говорил, – в его голосе не было злорадства, скорее, сочувствие. – Бесполезно. Это как пытаться найти закономерность в расположении капель дождя на асфальте.
Но я не сдавался. Я начал увеличивать масштаб графика, погружаясь все глубже в структуру шума. Я увеличивал его в десять раз, в сто, в тысячу… И когда шум превратился в отдельные, дискретные пики, я увидел его.
Оно было там.
Слабое, почти неразличимое, на грани погрешности самого измерительного оборудования. Но оно было. Идеально регулярное, как работа швейцарского хронометра. Колебание с постоянной, неизменной частотой. Сигнал, который был настолько слаб, что любая система фильтрации помех принимала его за случайность. Но мой алгоритм, настроенный на конкретную сигнатуру, вытащил его на свет.
– Вот, – прошептал я, указывая пальцем на экран.
Толик наклонился ниже. Он нахмурился, вглядываясь в монитор. Он был практиком, человеком цифр. Он мог не верить в призраков, но он не мог не верить в данные, которые видел своими глазами.
– Что это за… пила? – пробормотал он. – Слишком… правильно. Для случайного шума.
Я открыл второе окно. В нем был график той самой аномалии из архива «Наследие-1», которую я использовал как образец. То самое «сердцебиение» старого комплекса. Я наложил графики друг на друга.
И они совпали.
Не идеально, нет. Современный сигнал был слабее, искаженнее, словно далекое эхо, отразившееся от сотен стен. Но основной ритм, основная частота, сама структура сигнала были абсолютно идентичны.
В кабинете повисла тишина. Тяжелая, оглушающая. Толик молча смотрел на экран, и я видел, как в его голове рушится его привычная, упорядоченная картина мира, построенная на SQL-запросах и реляционных базах данных.
– Не может быть… – наконец произнес он. Это был не вопрос. Это была констатация чуда.
Громко выдохнул, я откинулся на спинку кресла. Эйфория от этого открытия была совершенно иной, чем раньше. Это была не радость первооткрывателя. Это была тихая, холодная уверенность человека, который подтвердил страшную, но невероятно важную истину.
Я нашел его.
Не просто след. Не просто отголосок.
Я нашел «Эхо». И теперь оно смотрело на меня с экрана моего монитора, слабо пульсируя в самом сердце современного, технологичного НИИ, как неупокоенный призрак, который ждал почти сто лет, чтобы его наконец услышали.
***
Тишина в кабинете СИАП была настолько плотной, что, казалось, ее можно было потрогать.
Она давила, заставляя воздух вибрировать. Мы с Толиком стояли над монитором, как над телом только что вскрытого инопланетянина, боясь пошевелиться. Два графика, наложенные друг на друга – один из тридцать восьмого года, второй из вчерашнего дня – пульсировали в идеальном, жутком унисоне. Призрак обрел голос, и этот голос звучал в ровном ритме фонового шума всего института.
– Перепроверь, – наконец хрипло сказал Толик, отходя от стола. Он потер лицо руками, словно пытаясь стереть то, что только что увидел. – Леша… просто перепроверь все еще раз. И еще раз. И еще. Найди ошибку. В твоем коде, в моих данных, в чем угодно. Потому что если это не ошибка…
Он не закончил фразу. Но и не нужно было.
Если это была не ошибка, то вся наша упорядоченная, построенная на логике и физике реальность была не более чем тонкой пленкой льда над бездонным, темным океаном. И этот лед только что треснул под нашими ногами.
– И… – он запнулся, подбирая слова. – Не беги с этим к Орлову. Не сейчас. Дождись понедельника. Утро вечера мудренее. Поспи с этой мыслью. Дай ей отлежаться. Нельзя с такими вещами пороть горячку.
Да, он явно был прав.
Толик был практиком до мозга костей, человеком, который верил в то, что можно потрогать и измерить. А то, что мы видели на экране, не укладывалось ни в какие рамки. Ему нужно было время, чтобы принять это, чтобы найти в своей картине мира место для призрака, говорящего на языке системных помех.
И да, бежать сейчас к Орлову, размахивая этими графиками, было бы безумием. Нам нужны были не просто данные. Нам нужны были неопровержимые доказательства и, что еще важнее, – план действий.
Я кивнул.
– Хорошо. Я все перепроверю.
Остаток рабочего дня прошел в тумане.
Снова и снова прогоняя свои алгоритмы, я менял параметры, искал малейшую нестыковку, логическую уязвимость, которая могла бы привести к такому результату. Нашел пару мелких огрехов в коде, несколько неточностей в обработке данных, исправил их и запустил анализ заново. Результат не изменился. Линии на графике могли слегка сместиться, их амплитуда могла незначительно измениться, но основная картина – эта жуткая, идеальная синхронизация между прошлым и настоящим – оставалась незыблемой. Эхо было здесь. Оно никуда не делось.
Я почувствовал, как волна одиночества накатывает на меня. Мне отчаянно нужно было с кем-то поговорить. С кем-то, кто был в теме, кто мог бы разделить этот груз.
С Алисой. Может, она не очень занята? Может, у нее есть время?
«Алиса, привет. Как дела? Какие планы на вечер и выходные?» – мое сообщение выглядело до смешного банальным на фоне тех открытий, которые бурлили у меня в голове.
Ответ пришел не сразу, и это уже было плохим знаком.
«Привет, Леша! Дела нормально, но я на выезде. За городом. Проверяем один из удаленных ретрансляторов. Похоже, застряну тут до понедельника. Связь ужасная. Что-то срочное?»
Выезд. Ретранслятор. За городом. Каждое слово было маленьким гвоздем в крышку гроба моей надежды. Я был один на один с этим знанием.
«Нет, ничего срочного. Просто так. Удачной работы, алхимик», – напечатал я и закрыл мессенджер.
Идти домой не хотелось.
Мысль о том, чтобы остаться в пустой квартире наедине с этим знанием, была невыносимой. Мне нужно было… заземление. Мне нужно было что-то абсолютно нормальное, абсурдное, что-то, что могло бы на время выбить из головы все мысли об информационных призраках и резонансных контурах. Я достал телефон и набрал номер Кирилла.
– Кир, привет. Это Леха. Не занят? Есть предложение, от которого невозможно отказаться. Пиво.
– Лёха, здорово! – прокричал его голос в трубке, как всегда, полный неудержимого энтузиазма. – Ты как мысли мои читаешь! Я как раз инвесторам свой новый питч заворачивал, мозг кипит! Конечно, пиво! Я знаю одно место…
Через час я сидел в шумном, прокуренном баре, пил холодный, горьковатый эль и слушал про очередной гениальный стартап Кирилла. На этот раз это был «Tinder для домашних питомцев».
– Прикинь, Лёх, это золотая жила! – вещал он, размахивая руками так, что чуть не сбил кружку со стола. – Мы создаем платформу, где хозяева могут свайпать анкеты других питомцев для своих кошечек и собачек! Больше никаких одиноких вечеров для твоего Барсика! Нейросеть будет анализировать совместимость по девяноста семи параметрам, от породы до любимого вкуса корма! Уже есть предзаказы на премиум-подписку!
Я слушал его, кивал, улыбался и пил пиво.
Его мир был таким… простым. Таким понятным. Мир, где самой большой проблемой было найти инвестиции под приложение для знакомства кошек. И эта абсурдная нормальность действовала как бальзам на мой воспаленный мозг. Я чувствовал себя человеком, стоящим на мосту между двумя мирами. На одном берегу был мир Кирилла, с его стартапами и инвесторами. На другом – мир НИИ, с его призраками, артефактами и двойниками. А я был посередине, и оба мира казались мне одновременно и реальными, и совершенно безумными.
Выходные прошли в пассивном, почти анабиотическом режиме.
Выполнив обещание, данное Кириллу, – подумал над его предложением (и вежливо отказался в сообщении), сделал то, что всегда помогало мне сбежать от реальности – купил на одном из книжных порталов новый, длинный цикл в жанре ЛитРПГ. Десять томов. «Архимаг в отставке».
Я с головой погрузился в этот мир. Мир, где характеристики персонажа были важнее его характера, где квесты были понятнее человеческих отношений, а логика мира была прописана в системных сообщениях. Я читал запоем, почти не отрываясь, поглощая книгу за книгой. Я следил за тем, как главный герой, обычный офисный работник, попавший в игровой мир, пытается выжить, прокачать свои навыки, разгадать тайны этого мира. И эта простая, понятная структура, эта логика развития, этот переход от первого уровня к сотому – все это было именно тем, что мне было нужно. Я провалился в чужую, выдуманную реальность, чтобы на время забыть о своей собственной, которая становилась все более странной и непредсказуемой.
Это был эскапизм в чистом виде. И он работал. На время.
Глава 6: Два лагеря
Понедельник вползал в город через серую, моросящую хмарь, цепляясь за мокрые крыши и размазывая огни светофоров по асфальту.
Это была типичная питерская меланхолия, которая обычно действовала на меня усыпляюще, заставляя глубже кутаться в одеяло и проклинать изобретателя будильников.
Но сегодня все было иначе. Выходные, проведенные в пассивном анабиозе за чтением фэнтези, перезагрузили систему, но не стерли основной файл. Он крутился в оперативной памяти, требуя немедленной обработки. Я нашел Эхо. И эта мысль, этот факт, перекрывал все – и плохую погоду, и необходимость выходить из дома, и даже мучительный выбор между двумя почти одинаково грязными парами джинсов.
Город, как и ожидалось, был перегружен.
Приложения такси показывали повышенный спрос и предлагали подождать вечность или заплатить за поездку как за билет на самолет. После нескольких минут безуспешных попыток система наконец сжалилась и выдала вариант из класса «эконом». Через десять минут к подъезду, громко скрипя и чихая выхлопной трубой, подкатила видавшая виды «Нексия» неопределимого грязно-бежевого цвета.
За рулем сидел невысокий, плотный мужчина с лицом, на котором, казалось, отражались все тяготы мира, и темными, усталыми глазами. Приложение услужливо подсказало его имя: «Махарбек». Или «Мариахар»? Я не успел разобрать. Он коротко кивнул мне, не произнеся ни слова, и я, стараясь не задеть свисающую с потолка бахрому, протиснулся на заднее сиденье.
Это был не просто салон автомобиля. Это был филиал какой-то восточной лавки специй на колесах.
Воздух был густым, плотным, пропитанным тяжелым, пряным, сладковатым ароматом, в котором смешались кардамон, гвоздика, куркума и что-то еще, совершенно незнакомое, чужое и всепроникающее.
Продавленные сиденья были покрыты цветастым, потертым ковром, а из динамиков, которые, казалось, вот-вот выплюнут остатки диффузоров, неслась громкая, надрывная музыка. Это не было похоже на привычные радиостанции. Это были гортанные, тягучие мужские напевы, сопровождаемые дробным, лихорадочным ритмом какого-то барабана и пронзительными, как крик орла, трелями духового инструмента.
Машина скрипела и трещала на каждом повороте, пластик приборной панели жил своей жизнью, а мой водитель, казалось, совершенно не замечал всего этого, ведя машину с отрешенным выражением лица человека, давно смирившегося со своей участью.
Я понял, что разговора не будет. И это было к лучшему. У меня не было ни сил, ни желания на дежурные беседы о погоде и пробках. Я достал наушники – свое личное убежище, свою портативную капсулу тишины. В ушах зазвучал знакомый, меланхоличный голос Васильева. «Орбит без сахара».
Идеально. Музыка «Сплина», с ее сложными, рваными ритмами и текстами, полными странных, сюрреалистичных образов, всегда помогала мне настроиться на нужный лад, создать вокруг себя кокон, отгораживающий от внешнего мира.
Откинувшись на скрипучее сиденье, я достал телефон. Еще в дороге, не теряя времени, отправил короткое сообщение Орлову.
«Игорь Валентинович, доброе утро. Есть результат. Важный. Нужно доложить немедленно».
Я смотрел на три точки, означавшие, что собеседник печатает, и чувствовал, как сердце начинает отбивать свой собственный, ускоренный ритм. Музыка в наушниках пела про то, что «мы не знаем друг друга», а я думал о том, что вот-вот мне предстоит рассказать человеку о том, что он почти сто лет жил бок о бок с призраком, не зная его имени.
Ответ пришел почти мгновенно. Такой же лаконичный, как и мой запрос.
«Жду у себя. Заходите сразу, как приедете».
Такси ползло в утренних пробках.
Вокруг кипела обычная городская жизнь. Люди спешили на работу, вглядывались в свои смартфоны, пили кофе на ходу. А я сидел в этом пропахшем специями ковчеге, слушал депрессивный питерский рок и вез в своем рюкзаке доказательство существования чуда. Или чудовища. Я до сих пор не решил, что это было.
Наконец, мы подъехали к знакомому зданию. Выскочил из машины, вдохнул полной грудью прохладный, влажный воздух, который после атмосферы в салоне казался стерильно чистым, и почти бегом направился ко входу.
Проходная. Коридоры.
Все казалось иным, более резким, более значимым. Я больше не был просто сотрудником, идущим на работу. Я был гонцом, несущим весть, которая могла изменить все.
Я не стал заходить в наш кабинет. Прошел мимо, направляясь прямо к двери Орлова и постучал один раз – коротко и решительно.
– Войдите!
Орлов сидел за своим столом. Он был, как всегда, спокоен, но я сразу заметил, что это спокойствие было показным. Он не смотрел в монитор, не перебирал бумаги. Он просто сидел, сложив руки на столе, и ждал. В его глазах читалось напряжение.
– Алексей, – произнес он, кивнув на стул. – Рассказывайте.
Я не стал садиться. Подошел прямо к его столу, достал из рюкзака ноутбук, развернул его экраном к Орлову. Я ничего не говорил, а просто открыл файл с теми самыми двумя графиками. Верхний – рваная, хаотичная пульсация «Эха-0» из тридцать восьмого года. Нижний – тонкая, почти невидимая, но идеально синхронная вибрация, которую я вытащил из фонового шума современных сетей.
Орлов наклонился над экраном. Его обычная вежливая и немного отстраненная маска слетела, обнажив выражение предельной, абсолютной серьезности. Я видел, как его взгляд бегает от одного графика к другому, как он сравнивает пики, впадины, частоту. Он молчал, но это молчание было громче любых слов. Он был не просто руководителем. Он был ученым. И он видел то же, что и я. Не просто совпадение. Доказательство.
– Это… повсюду? – наконец произнес он, не отрывая взгляда от экрана. Его голос был тихим, сдавленным.
– Да. Во всей сети. Слабый сигнал, на грани погрешности, но он есть везде. Он проходит через все корпуса. Это не локальная помеха. Это… фон. Фон, на котором работает весь институт. Все эти годы.
Орлов откинулся на спинку кресла. Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел нечто новое. Это был не азарт исследователя. Это была тяжелая, мрачная решимость полководца, который только что получил донесение о том, что враг уже не у ворот, а давно живет в стенах его собственной крепости.
Он, не говоря ни слова, нажал кнопку на селекторе.
– Людмила, – его голос стал твердым, как сталь. – Срочно соберите у меня узкий совет. Иголкин, Кацнельбоген, Стригунов. Косяченко не звать. Скажите, что это протокол «Красный». Они поймут. Немедленно.
***
Кабинет Орлова, обычно просторный и тихий, за несколько минут превратился в эпицентр надвигающейся бури.
Протокол «Красный».
Я не знал, что это значит, но судя по тому, с какой скоростью начали материализовываться в дверях ключевые фигуры института, это было чем-то вроде сигнала тревоги высшего уровня. Атмосфера в комнате наэлектризовалась, стала плотной и тяжелой, как воздух перед грозой.
Первым, как ни странно, прибыл Иван Ильич Иголкин, начальник ОГАЗ и ХГ.
Он влетел в кабинет, энергичный и собранный, как всегда. Его серый костюм был безупречно отглажен, а знаменитая ленинская бородка казалась особенно заостренной. Он не поздоровался, а сразу уставился на меня и Орлова с острым, вопрошающим взглядом, в котором читалось нетерпение. «Что стряслось?» – беззвучно спрашивал весь его вид. Он сел на один из стульев, нетерпеливо побарабанивая пальцами по подлокотнику.
Следом, словно ледокол, пробивающийся сквозь паковый лед, вошла профессор Изольда Марковна Кацнельбоген, глава Отдела Прикладной Биофизики. Строгая, подтянутая, в безупречном лабораторном халате, который на ней выглядел как адмиральский китель, она окинула всех присутствующих холодным, пронзительным взглядом из-под очков в массивной оправе. Ее прическа-ракушка была идеальна, ни один волосок не выбивался. Казалось, даже если вокруг начнут рушиться стены, она сохранит эту несокрушимую осанку. Она молча села рядом с Иголкиным, ее тонкие губы были плотно сжаты в одну линию, выражавшую неодобрение по поводу этой внезапной суеты.
Затем появился Григорий Афанасьевич Меньшиков, глава ОКХ и АТ. Он был полной противоположностью первым двум. Высокий, сухой, похожий на старого, немного безумного аристократа, он двигался с какой-то небрежной, почти театральной элегантностью. Его волосы были растрепаны, словно он только что провел рукой по ним в порыве гениального озарения, а в глазах горел тот самый огонь, который я уже видел у Алисы. Он вошел в кабинет, уже на ходу начиная говорить:
– Игорь, надеюсь, причина для этого балагана действительно веская. У нас калибровка «Гелиоса» на самом интересном месте. Алиса говорит…
Он осекся на полуслове, увидев саму Алису, которая вошла следом за ним. Она была одета в свой обычный «полевой» наряд – джинсы и темную футболку, поверх которых был накинут лабораторный халат. Выглядела она уставшей, но глаза ее горели таким же огнем, как и у ее начальника. Она бросила на меня быстрый, вопросительный взгляд, но я лишь едва заметно покачал головой. Она села рядом со мной, и я почувствовал ее напряжение.
Последним вошел человек, которого я до этого не встречал. Он был высок, очень худ, с аристократически тонкими чертами лица и холодными, бесцветными глазами. Одет он был в идеально сидящий, но слегка старомодный костюм-тройку. Он двигался с экономной, выверенной точностью, а от всей его фигуры веяло таким ледяным высокомерием, что профессор Кацнельбоген на его фоне казалась душой компании.
– А, профессор Зайцев. Рад, что смогли присоединиться, – произнес Орлов с едва заметной иронией.
Кивнув, новоприбывший не пожал ничьей руки, а просто занял свободное место, окинув всех присутствующих, и меня в особенности, взглядом, полным брезгливого снисхождения.
– Михаил Борисович Зайцев, Отдел Теоретической Физики и Мета-Полевых Взаимодействий, – шепнула мне Алиса, едва заметно наклонившись. Ее голос был тише шелеста листвы. – Блестящий ум, один из лучших теоретиков в стране. Но абсолютный догматик. Он не верит ни во что, что не укладывается в его дифференциальные уравнения. Для него все, что мы делаем – это просто «шум» и «артефакты измерений». Осторожнее с ним. Он может съесть тебя живьем, даже не заметив.
В кабинете установилась тяжелая, напряженная тишина. Все ключевые фигуры были в сборе. Каждый из них был главой своей маленькой научной империи, со своей картиной мира, со своими амбициями. И я чувствовал, как в воздухе сталкиваются невидимые поля их интеллектов, их воли, их застарелых споров и разногласий. Я сидел в центре этого урагана, сжимая под столом ноутбук с доказательством существования призрака, и понимал, что сейчас мне предстоит не просто доложить о своем открытии. Мне предстоит бросить вызов всей их устоявшейся вселенной.
***
– Коллеги, – начал Орлов, когда последняя дверь закрылась и гулкое эхо шагов стихло в коридоре. Его голос был спокоен, но в этой тишине он звучал как удар гонга, возвещающий о начале чего-то важного. – Я собрал вас по чрезвычайной причине. Протокол «Красный», как вы знаете, объявляется только в случаях, когда мы сталкиваемся с угрозой или открытием, способным кардинально изменить наше понимание фундаментальных процессов. Сегодня, я полагаю, у нас второй случай.
Он сделал паузу, обведя взглядом всех присутствующих, и остановил его на мне.
– Алексей, прошу вас.
Это был мой выход. Встав, я почувствовал, как несколько пар самых умных и самых скептических глаз в этом институте устремились на меня. Подключил свой ноутбук к большому экрану на стене. На нем появились те самые графики. Я сделал глубокий вдох.
– Уважаемые коллеги, – начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более уверенно и по-деловому. – Несколько недель назад Сектор Интеллектуального Анализа получил задачу проанализировать массив данных по так называемой блуждающей аномалии, или «Страннику». Изначально мы рассматривали эти инциденты как серию разрозненных, не связанных между собой событий. Однако детальный анализ выявил четкую, статистически значимую закономерность. «Странник» движется по определенным маршрутам, которые коррелируют с расположением старых подземных коммуникаций и узлов энергосети.
Я вывел на экран карту города с нанесенными на нее маршрутами аномалии. В кабинете повисла тишина. Я видел, как Иголкин наклонился вперед, как Меньшиков нахмурился, как на лице Кацнельбоген промелькнуло что-то похожее на интерес.
– Но это была лишь вершина айсберга, – продолжил я, переключая слайд. На экране появились графики корреляции между «Странником» и работой установки «Гелиос». – Последующий анализ показал стопроцентную синхронизацию между проявлениями «Странника» в городе и работой резонатора в лаборатории ОКХ и АТ в определенных, нештатных режимах. Моя первоначальная гипотеза заключалась в том, что «Странник» является прямым побочным эффектом работы «Гелиоса».
– Это невозможно, – тут же отрезал Меньшиков. – Конструкция «Гелиоса» исключает любые побочные излучения такой мощности. Система контеймента…
– Система контеймента имеет уязвимость, основанную не на ее конструкции, а на физике самого процесса, – мягко, но твердо перебил я его, прежде чем он успел войти в раж. – Но даже не это главное. Я пошел дальше.
Я переключил слайд еще раз. Теперь на экране были три графика: «Странник», работа «Гелиоса» и та самая пульсирующая синяя линия, которую я вытащил из шума.
– Я предположил, что оба этих явления – «Странник» и сбои в «Гелиосе» – являются симптомами, а не причиной. Что существует некое третье, фундаментальное явление, которое влияет на них обоих. Используя паттерн, обнаруженный в архивах инцидента тридцатых годов, так называемого «Эха-0», я создал алгоритм для анализа фонового шума наших сетей. И я нашел его. Слабый, но идеально стабильный и регулярный сигнал, который пронизывает всю инфраструктуру института. Его сигнатура полностью идентична сигнатуре «Эха-0». Моя теория заключается в том, что мы имеем дело не с серией технических сбоев или побочных эффектов. Мы имеем дело с остаточной информационной сущностью, которая сохранилась в сетях института почти сто лет. «Странник» – это ее попытка взаимодействовать с внешним миром. А сбои в «Гелиосе» – это результат резонанса, когда работа резонатора случайно совпадает с частотой «сердцебиения» этого… призрака.
Я закончил. В кабинете воцарилось оглушающее молчание. Я стоял, чувствуя, как по спине стекает капля пота. Я выложил все. Всю свою безумную, невероятную теорию.
И тут раздался голос. Холодный, пренебрежительный, полный ядовитого сарказма. Это был профессор Зайцев.
– Восхитительно, – произнес он, медленно аплодируя кончиками пальцев. – Просто восхитительно. Давно я не слышал такой изящной научной фантастики. «Призрак в машине», «информационная сущность»… молодой человек, вы не ошиблись дверью? Может, вам стоит отнести свои выкладки не в научный совет, а в редакцию какого-нибудь бульварного журнала?
Он встал и подошел к экрану, глядя на мои графики с выражением хирурга, рассматривающего рисунок ребенка.
– Вы говорите о «статистической значимости». Позвольте мне, как специалисту по матфизике, объяснить вам, что такое настоящая статистическая значимость. То, что вы представили, – он указал на график, – это классическая статистическая ошибка новичка. Вы нашли ложную корреляцию. Вы взяли два несвязанных набора зашумленных данных, применили достаточно сложный алгоритм, и, о чудо, нашли совпадение! Это называется апофенией. Поиском паттернов в случайном шуме. Человеческий мозг, знаете ли, очень хорошо умеет это делать. Видеть лица в облаках и слышать голоса в треске помех.
Он говорил спокойно, методично, и каждое его слово было как удар скальпеля, вскрывающий мою теорию, выставляя ее на посмешище.
– Далее. Вы говорите об «уникальной сигнатуре». Позвольте вас разочаровать. То, что вы называете «сердцебиением призрака», на самом деле является ничем иным, как суммой гармонических резонансов от десятков, если не сотен, современных установок, работающих в этом здании. Вы просто не учли их комплексное взаимодействие. «Гелиос» Меньшикова, циклотрон в соседнем корпусе, даже мощные серверы самого СИАП – все они создают сложнейший электромагнитный фон. И то, что вы нашли, – это просто интерференционная картина, биение, которое возникает при наложении всех этих полей. Красиво. Сложно. Но абсолютно объяснимо с точки зрения классической электродинамики. Никакой мистики.
Он повернулся ко мне. В его холодных глазах не было злости. Было лишь чистое, незамутненное высокомерие интеллектуала, которому приходится объяснять очевидные вещи ребенку.
– Ваша погоня за привидениями, молодой человек, достойна уважения за свою… страстность. Но она не имеет ничего общего с наукой. Вы потратили время на создание красивой сказки, вместо того чтобы провести тщательный, кропотливый анализ реальных данных. Мой вам совет: вернитесь к основам. Изучите теорию полей, разберитесь в принципах работы нашего оборудования. И оставьте призраков писателям-фантастам. Мы здесь занимаемся серьезным делом.
Он закончил свою речь и сел на место, с видом человека, который только что восстановил порядок во вселенной. И его аргументы, нужно было признать, звучали чертовски правдоподобно.
Настолько правдоподобно, что я сам на секунду засомневался в своих выводах.
***
Ледяные, безупречно логичные аргументы Зайцева повисли в воздухе, как иней, замораживая саму возможность дискуссии.
Он не просто раскритиковал мою теорию. Он уничтожил ее, разложил на атомы, показав всем присутствующим, что король, то есть я, не просто голый, а еще и несет откровенную чушь. Я стоял, не зная, что ответить. Все мои графики, все мои выкладки внезапно показались мне наивными, детскими. Может, он прав? Может, я действительно просто увидел лицо в облаках?
Практически все в кабинете с вопросом смотрели на меня. Даже на лице Орлова я заметил тень сомнения.
И в этой звенящей тишине, наполненной триумфом Зайцева и моим унижением, раздался голос. Чистый, резкий, как звон стали.
– Профессор Зайцев, при всем уважении к вашим теоретическим познаниям, вы несете чушь.
Все головы повернулись в сторону говорившей.
Это была Алиса. Она сидела, наклонившись вперед, ее зеленые глаза горели яростным, недобрым огнем. Вся ее обычная сдержанность исчезла. Это была не просто ученый. Это была воительница, защищающая свою территорию.
– Вы говорите о гармонических резонансах, – ее голос был спокоен, но в нем вибрировала сдерживаемая ярость. – Я последние пять лет своей жизни занимаюсь этими «резонансами». Я знаю сигнатуру работы «Гелиоса» лучше, чем вы – свои любимые уравнения. Я могу отличить основной тон от обертона, паразитный шум от системного сбоя. И то, что я вижу на этих графиках, – она ткнула пальцем в сторону экрана, – не имеет ничего общего с гармониками «Гелиоса» или любой другой известной мне установки.
Зайцев посмотрел на нее так, словно перед ним было не его коллега, а какое-то неведомое, жужжащее насекомое.
– Девочка моя, – начал он своим снисходительным тоном, – я понимаю ваш энтузиазм практика. Но есть фундаментальные законы…
– К черту ваши фундаментальные законы, профессор! – оборвала его Алиса, и в кабинете снова повисла шокированная тишина. Так с Зайцевым не разговаривал никто. – Ваши законы прекрасно работают на бумаге. А я работаю с реальным железом. И я вам говорю: гармонический резонанс имеет совершенно другую структуру. У него есть четкий источник, его интенсивность падает пропорционально квадрату расстояния. А то, что мы здесь видим… это другое. Это поле. Оно не ослабевает. Оно… присутствует. Везде. Одновременно. Данные Алексея, с точки зрения практика, который каждый день имеет дело с этим «шумом», выглядят не просто убедительно. Они выглядят пугающе.
Наверное, это была уже не первая открытая стычка между ними, столкновение двух миров. Мира элегантных, но стерильных теорий, и мира грязной, непредсказуемой, но живой практики. Мира бумаги и мира железа.
Зайцев побагровел. Его холодное аристократическое лицо исказила гримаса гнева.
– Вы позволяете себе слишком много, Грановская! Вы – экспериментатор! Ваше дело – ставить опыты и поставлять нам, теоретикам, чистые данные, а не строить скороспелые, безграмотные гипотезы, основанные на… на интуиции!
– А вы, профессор, – не отступила Алиса, вставая, – настолько увлеклись красотой своих моделей, что перестали замечать реальность, которая в них не укладывается! Вы строите идеальные дворцы из формул, но отказываетесь признать, что за их стенами существует дикий, непредсказуемый лес! Может, вам стоит хоть раз выйти из своего кабинета и посмотреть, как на самом деле работает то, что вы описываете?
Конфликт достиг точки кипения.
Иголкин и Меньшиков с интересом наблюдали за перепалкой, словно за теннисным матчем.
Кацнельбоген выглядела так, будто сейчас вызовет санитаров для них обоих.
Орлов молчал, но я видел, как в его глазах снова появляется тот самый, едва заметный азартный огонек.
Я смотрел на Алису. На эту хрупкую, но несгибаемую девушку, которая, не колеблясь, бросила вызов главному догматику института. Она не просто защищала мои выкладки. Она защищала право на существование другого взгляда, другой науки, той, что не боится признать: мир гораздо сложнее и страннее, чем любая, даже самая красивая, теория.
И в этот момент я понял две вещи.
Первая – я был прав. Все мои сомнения, вызванные ядовитой логикой Зайцева, исчезли. Если она, практик до мозга костей, видела в моих данных то же, что и я, значит, это было реально.
А вторая… Вторая была гораздо важнее.
В этом споре, в этом столкновении двух титанов, я обрел не просто подтверждение своей правоты. Я обрел главного союзника. Человека, который не только говорил со мной на одном языке, но и был готов сражаться за наше общее видение мира.
Зайцев, поняв, что прямой атакой эту «выскочку» не взять, сменил тактику.
– Хорошо, – сказал он, снова обретая свое ледяное спокойствие. – Допустим. Допустим, вы правы. И это не резонанс. Что тогда? Вы всерьез предлагаете нам рассматривать гипотезу о разумном призраке, живущем в электропроводке, как рабочую научную теорию? Это же… это даже не средневековье. Это дешевый спиритизм!
Алиса усмехнулась.
– А почему нет? Если эта гипотеза объясняет наблюдаемые факты лучше, чем ваша, то да, предлагаю. Наука, профессор, это не религия. У нее не должно быть догм. Только факты. А факты говорят, что происходит что-то очень странное. И наша работа – понять, что именно. А не прятаться за удобными, но не работающими объяснениями.
Она снова села рядом со мной. Спина прямая, взгляд ясный и твердый.
Она не просто защищала меня. Она встала рядом со мной. Против всех.
Глава 7: Кошки-мышки
Воздух в нашем общем зале СИАП, казалось, звенел от невысказанного. Взрыв, устроенный Алисой на совете, и ядовитая отповедь профессора Зайцева создали в институте невидимый раскол. Теперь были «мы» – небольшая, разношерстная группа, верящая в говорящего призрака, и «они» – респектабельное научное сообщество, убежденное, что мы гоняемся за тенями. Косяченко, как только услышит о собрании, сразу же примкнет к большинству в надежде быть на стороне победителя и заклеймить проигравшего.
Орлов собрал нас – меня, Алису и Гену – прямо в вотчине нашего сисадмина. Среди гор разобранного железа, спутанных проводов и тихо гудящих самодельных серверов мы чувствовали себя в большей безопасности, чем в любом официальном помещении. Это был наш неофициальный штаб, наша «Пещера Бэтмена».
– Что ж, коллеги, – начал Орлов, присаживаясь на какой-то старый серверный корпус, который, очевидно, уже не раз служил стулом. – Первый раунд за нами. Мы отстояли право на существование нашей гипотезы. Но Зайцев, при всем его догматизме, прав в одном: корреляция – это не причинно-следственная связь. Нам нужны неопровержимые доказательства. Нам нужно доказать, что «Эхо» – не просто фоновый шум, а сущность, способная к взаимодействию. Нам нужно заставить его отреагировать.
Он посмотрел на нас в упор, и я понял, что игра переходит на новый уровень. Мы больше не были просто наблюдателями. Мы становились охотниками.
– Есть идеи, как его можно «пощекотать»? – спросил он, обращаясь ко всем нам.
– Давайте долбанем по общей энергосети микросекундным ЭМИ-импульсом определенной частоты! – тут же предложил Гена с горящими глазами. – Создадим искусственный всплеск и посмотрим, как оно отзовется. Это как пингануть сервер, только в масштабах всего института.
– И спалим половину оборудования, включая мой «Гелиос»? – тут же охладила его пыл Алиса. Она сидела на стопке старых жестких дисков, поджав под себя ноги, и вид у нее был решительный и немного воинственный. – Это как пытаться поговорить с кошкой, крича на нее через мегафон. Мы получим только испуг и хаос. Нет. Если оно реагирует, то на что-то более тонкое.
– На информацию, – тихо сказал я, и они оба повернулись ко мне. Эта мысль зрела у меня в голове всю ночь. – Вспомните допрос фрау Мюллер из архивов тридцать восьмого года. Комплекс не просто сбоил. Он утешал ее, показывая образы ее дочери. Он реагировал на ее мысли, на ее эмоциональное состояние. Он – информационная сущность. Он не поймет грубой силы. Ему нужно говорить на его языке.
– И какой же у него язык, теоретик? – в голосе Алисы был неподдельный интерес.
– Тот самый, на котором он был «написан», – я чувствовал, как идея обретает форму. – Протоколы работы комплекса «Эхо-0». Сигнатуры его датчиков. Формат данных, который он использовал. Что, если мы не будем в него ничего «кидать»? Что, если мы создадим… информационную приманку?
Я встал и начал ходить по тесной комнатке, жестикулируя.
– Мы возьмем фрагмент оригинальных логов из архива «Наследие-1». Небольшой, но характерный кусок, соответствующий штатному режиму работы старого комплекса. Затем, Гена, мы преобразуем этот пакет данных в специфическую полевую модуляцию, используя твои гиперизлучатели, и «транслируем» его в общую информационную сеть института. Это будет не всплеск энергии. Это будет шепот. Привет из прошлого. Мы как будто скажем ему: «Привет, мы знаем, кто ты. Мы говорим на твоем языке».
Я посмотрел на них. Гена слушал, затаив дыхание, его глаза блестели от восторга. Алиса хмурилась, явно просчитывая все риски и возможности.
– Это… как написать эксплойт для призрака, – наконец выдохнул Гена. – Создать специфический пакет данных, который вызовет отклик у дремлющей системы. Лёха, ты гений! Не важно, сработает это или нет, но я участвую! Я могу написать транслятор, который преобразует старые архивные данные в нужный полевой код. Мы можем «повесить» этот сигнал на несущую частоту одного из резервных каналов связи. Он будет очень слабым, никто его не заметит. Кроме, того, для кого он предназначен.
– Тихий, точечный, направленный сигнал… – задумчиво протянула Алиса. – Это не крик, это шепот на ухо. Идея элегантная. И, что главное, контролируемая. Но как мы зафиксируем ответ? Если он будет таким же тихим, мы можем его просто не услышать в общем шуме.
– А вот здесь вступаете вы, – сказал я, поворачиваясь к ней. – Нам нужен самый чувствительный «микрофон» в институте. Инструмент, способный уловить малейшие флуктуации в поле. И я думаю, ваш «Гелиос», работающий в режиме пассивного сканирования, подойдет для этого идеально. Он не будет ничего излучать. Он будет слушать. Вы сможете откалибровать его так, чтобы он отсекал все известные помехи и реагировал только на ту самую, аномальную сигнатуру.
Алиса на мгновение задумалась, а потом на ее лице появилась решительная, хищная улыбка.
– Хорошо, теоретик. Твоя самая безумная идея из всех. И она мне нравится, – сказала она. – Я подготовлю «Гелиос». Переведу его в режим сверхчувствительного пассивного мониторинга. Если ваше «Эхо» хоть как-то откликнется, мои датчики это уловят.
Орлов, до этого молча слушавший наш разговор, удовлетворенно кивнул.
– Итак, план есть, – подытожил он. – Алексей, вы готовите «приманку». Гена, вы обеспечиваете ее «доставку». Алиса, вы готовите «ловушку», чтобы зафиксировать ответ. Я же обеспечу вам прикрытие и решу вопрос с доступом к «Гелиосу» для проведения «плановых калибровочных работ». Начинаем немедленно. Но помните: мы вступаем в игру с неизвестным. И правила этой игры мы будем узнавать на ходу. Игра в кошки-мышки началась. Только пока неясно, кто из нас кошка, а кто – мышь.
***
Вторник выдался пасмурным и тихим, словно город затаил дыхание.
Вся наша троица снова собралась в берлоге Гены. Атмосфера была пропитана концентрированным ожиданием. Это было похоже на подготовку к запуску космического корабля, только вместо стартовой площадки у нас был заваленный проводами стол, а вместо корабля – цифровой фантом, сотканный из забытых протоколов и моей математической модели. Я сидел за отдельным терминалом, который Гена подключил напрямую к своему центральному серверу. Алиса расположилась рядом, ее ноутбук был соединен с системами мониторинга «Гелиоса». Сам Гена, в роли главного оператора, восседал на своем троне перед батареей мониторов.Я завершил последние приготовления. «Приманка» была готова. Это был небольшой, но идеально выверенный пакет данных, в точности имитирующий один из штатных циклов работы комплекса «Эхо-0» из тридцатых годов. Короткий, безобидный, как старая, выцветшая фотография. Но мы надеялись, что для нашего призрака эта «фотография» окажется зеркалом.
– Все готово, – сказал я, и мой голос в тишине прозвучал необычайно громко. – Пакет данных сформирован, сигнатура соответствует архивной с точностью до девяноста девяти и восьми десятых процента.
– «Гелиос» в режиме пассивного прослушивания, – доложила Алиса, не отрывая взгляда от своих графиков. – Чувствительность на максимуме. Если что-то шелохнется в эфире, мы это услышим.
– Ну, с богом, или с кем там у нас принято договариваться, – пробормотал Гена. Его пальцы зависли над клавиатурой. – Запускаю призрака в сеть. Трансляция на изолированный узел через резервный канал. Поехали.Он нажал на клавишу. На одном из его мониторов побежали строки кода. Всплеска энергии не было. Не было никаких эффектов. Мы просто отправили в информационное поле института тихий, едва заметный шепот из прошлого. И замерли, глядя на свои экраны.
Прошла минута. Ничего. Графики на мониторе Алисы оставались ровными. Мои системы мониторинга показывали обычный фоновый шум.
– Может, не сработало? – нарушила тишину Алиса. – Может, сигнал слишком слабый? Или он просто не реагирует на такое?– Терпение, огненная леди, – проворчал Гена, вглядываясь в свои консоли. – С призраками спешить нельзя. Они ребята неторопливые.
Прошло еще пять минут. Тишина. Я начал чувствовать, как укол разочарования пробирается сквозь броню моего азарта. Неужели Зайцев был прав, и мы просто ищем смысл в случайном шуме?
И тут на одном из моих экранов, который отслеживал общую диагностику второстепенных систем института, мигнула крошечная красная точка. Тревога из буфета на третьем этаже корпуса «Дельта». Сбой в работе кофейного аппарата. Я бы не обратил на это внимания, списав на обычную поломку, но через секунду пришло еще одно сообщение. Из лаборатории Степана Игнатьевича. «Ошибка рендеринга графического интерфейса. Кратковременная инверсия цветовой схемы».
– Странно, – пробормотал я. – Какие-то мелкие, не связанные сбои…
– У меня чисто, – тут же отозвалась Алиса. – По основному контуру – полный штиль. «Гелиос» молчит.
В этот момент у Гены на столе пискнул внутренний коммуникатор. Он лениво нажал на кнопку.
– Гена, это Зоя Петровна из столовой! – раздался из динамика возмущенный женский голос. – У нас тут кофейный аппарат взбесился! Вместо американо выдает горячую соленую воду! Мне люди жалуются!
Гена нахмурился, отключил связь. И тут же пришло сообщение от Игнатьича. «Геннадий! Что происходит с системой визуализации?! Мои идеально выверенные схемы на мгновение превратились в какой-то негатив! Это саботаж!»События начали сыпаться, как из рога изобилия. Автоматические двери в главном холле начали хаотично открываться и закрываться. В одной из библиотек система пожаротушения выдала ложную тревогу. У кого-то в бухгалтерии принтер начал печатать страницы, заполненные одним и тем же символом – руной, похожей на стилизованное ухо.
– Оно играет с нами, – тихо сказал я, лихорадочно нанося точки инцидентов на карту института на своем мониторе. – Оно не клюнуло на приманку. Оно заметило удочку.
Алиса подошла ко мне и заглянула через плечо. На ее лице было написано изумление.
– Что это значит?
– Посмотри, – я указал на карту. – Сбои не хаотичны. Они происходят по всему институту, но обходят стороной наш сектор и твою лабораторию. И они бьют по самым уязвимым, самым незначительным системам. Это не просто реакция. Это… насмешка. Оно как будто говорит: «Я вас вижу. Я знаю, что вы делаете. И я могу достать вас где угодно».
Гена, до этого молча наблюдавший за происходящим, откинулся на спинку своего кресла и расплылся в широкой, хищной улыбке.
– Игра началась по-взрослому, ребята, – сказал он, и в его глазах плясали азартные чертики. – Этот призрак умеет не только шептать, но и показывать зубы. Он не просто сущность. Он – игрок. И он только что сделал свой ход.
***
Среда началась с густого, как вчерашний кофе, напряжения.
Вся наша троица собралась вокруг моего компьютера. На экранах, словно карта боевых действий, были разбросаны точки вчерашних аномалий. Они образовывали причудливый, но отчетливый узор – змея, проползшая по самым уязвимым местам института, оставив за собой шлейф из мелкого, но раздражающего хаоса. Мы чувствовали себя одновременно и победителями, и нашкодившими детьми, которые разбудили древнего, непредсказуемого духа, и теперь не знали, чего от него ждать.
– Итак, какие выводы? – спросила Алиса, задумчиво глядя на карту. – Оно разумно. Или, по крайней мере, демонстрирует сложное адаптивное поведение. Оно избегает прямого наблюдения, но при этом четко дает понять, что знает о нас.
– Оно изучает нас так же, как мы изучаем его, – добавил я. – Только его методы более… элегантны. Оно не ломится в дверь, оно заставляет заедать замок.
– Оно тролль, – подытожил Гена, отхлебывая из кружки что-то дымящееся и явно бодрящее. – Причем тролль восьмидесятого уровня. Оно нашло самые слабые, самые незащищенные узлы нашей сети и ударило по ним. Принтер в бухгалтерии… да он работает на драйверах двадцатилетней давности! Конечно, его легко было взломать. Но сама идея! Заставить его печатать руны! Это… это чувство юмора. Очень специфическое, но все же.
Мы сидели и размышляли над следующим шагом. Нужно ли повторять эксперимент? Или попытаться вступить в какой-то более осмысленный диалог? Как общаться с сущностью, которая говорит на языке сломанных кофеварок и инвертированных цветов?
Наши размышления были прерваны самым грубым и бесцеремонным образом.
Дверь в общий зал СИАП распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. На пороге, красный от ярости, стоял Ефим Борисович Косяченко. Его идеально уложенная прическа была слегка растрепана, дорогой костюм, казалось, сидел на нем как-то криво, а в глазах полыхал праведный гнев. За его спиной, бледный и перепуганный, семенил верный Семён, сжимая в руках планшет.
– Саботаж! – провозгласил Косяченко, и его бархатный голос звенел от негодования. – Я называю это неприкрытым саботажем и вопиющей некомпетентностью!
Он прошел прямо в центр зала, испепеляя нас взглядом. Толик и Игнатьич, оторвавшись от своей работы, уставились на него с недоумением.
– Вы! – Косяченко ткнул пальцем в сторону двери Гены. – Вы, гений наших сетей! Что у вас здесь происходит?!
Гена обернулся к нему, держа в руках кружку с кофе.
– Конкретизируйте проблему, Ефим Борисович. Я экстрасенсорными способностями не обладаю. Пока.
Эта наглость, казалось, лишила Косяченко дара речи.
– У меня сорвалась стратегически важная презентация! – наконец выдавил он. – Видеоконференция с вышестоящим руководством! И в самый ответственный момент, когда я демонстрировал слайд с нашей новой концепцией синергетического развития, вся ваша хваленая мультимедийная система просто погасла! Экран, проектор, звук! Все! Вы понимаете, какой репутационный ущерб это нанесло нашему институту?! Мне?!
– Протоколы чистые, – невозмутимо ответил Гена. – Скачков напряжения в сети не было. Каналы связи работали в штатном режиме. Может, у вас просто шнур из розетки выпал? Или презентация оказалась слишком тяжелой для вашего модного ноутбука?
– Хамство! – взвился Косяченко. – Вместо того чтобы немедленно решить проблему, вы еще и хамите! Я требую объяснений! Я буду ставить вопрос о вашем профессиональном соответствии!
– Ефим Борисович, успокойтесь, – раздался спокойный голос Орлова. Он пришел в зал СИАП, видимо привлеченный шумом и встал между разъяренным начальником и своей командой. – Что именно произошло?
– Произошел позор! – не унимался Косяченко. – Ваш отдел, отвечающий за всю информационную инфраструктуру, не в состоянии обеспечить работу одного несчастного проектора!
– Я понимаю ваше расстройство, – Орлов сохранял ледяное спокойствие. – Однако, если вы хотите разобраться в причинах, предлагаю действовать по протоколу. Составьте, пожалуйста, официальную служебную записку с подробным изложением инцидента. Приложите к ней системные логи с вашего компьютера. Мы создадим специальную комиссию, в которую войдут наши лучшие специалисты, а также представители службы безопасности. Они проведут полное техническое расследование и представят вам подробный отчет.
При слове «комиссия» Косяченко осекся.
Он не был идиотом. Он прекрасно понимал, что любая комиссия, скорее всего, обнаружит, что причиной сбоя был не саботаж, а, например, его собственная неспособность правильно подключить кабель или запустить программу. Его целью было не расследование, а публичная порка виновных и вымещение злости.
– Я… я… – он на мгновение растерялся, но быстро нашелся. – Я этого так не оставлю! Я доложу о вопиющей ситуации на самый верх! Я добьюсь того, чтобы в вашем отделе навели порядок!
С этими словами он резко развернулся и, бросив на нас последний испепеляющий взгляд, вылетел из кабинета, увлекая за собой верного Семёна.
На несколько секунд в зале повисла тишина.
– Ну вот, – нарушил ее Толик. – А говорили, у нас в НИИ скучно. Представления дают похлеще, чем в Мариинке.
Орлов тяжело вздохнул и посмотрел на нас. Его лицо было серьезным.
– Теперь вы видите, коллеги, – сказал он тихо. – Мы не просто играем в игру. У наших действий есть последствия. Реальные, бюрократические, неприятные. Эхо не понимает разницы между кофейным аппаратом и проектором для высшего руководства. Оно просто играет. А расхлебывать будем мы. Так что в следующий раз… будьте еще осторожнее. Наша охота только что привлекла ненужное внимание.
***
Пятница выдохнула из института остатки дневной суеты, оставив после себя гулкую тишину и звенящую в ушах усталость. Мы с Алисой вышли из НИИ последними. Толик сбежал ровно в шесть, недовольно проворчав что-то о «трудоголиках, не уважающих святость пятницы». Игнатьич степенно откланялся часом позже, оставив на доске очередную гениальную схему, объясняющую все на свете. Мы же просидели до глубокого вечера, пытаясь облечь хаос событий этой недели в форму предварительного отчета для Орлова.
Воздух на улице был прохладным и влажным. Пахло мокрым асфальтом и уставшим городом, готовящимся к двухдневному отдыху. Мы стояли у ворот, и впервые за все время я не думал о том, чтобы поскорее вызвать такси и спрятаться в своей квартире.
– У меня такое чувство, будто я неделю питался одним только кофейным осадком и нервным напряжением, – сказал я, нарушая молчание.
– А я, кажется, установила личный рекорд по потреблению кефира, – усмехнулась Алиса. Ее лицо в свете уличных фонарей выглядело уставшим, но живым, а глаза, казалось, светились изнутри. – Мой желудок скоро забудет, как переваривать что-то тверже яблока.
– Может, пройдемся? – предложил я, сам удивляясь своей смелости. – По набережной. Здесь недалеко.
– Давай, – она посмотрела на меня, и в ее взгляде не было ни удивления, ни сомнения. Только легкая, понимающая усталость.
Мы пошли по набережной Черной Речки.
Вдоль темной, почти черной воды, в которой дрожали отражения старинных фонарей и окон домов на противоположном берегу. Здесь было тихо, почти безлюдно. Шум большого города доносился сюда лишь приглушенным гулом. Мы шли молча, и эта тишина не давила, а наоборот, успокаивала. Она была как мягкое, теплое одеяло, укрывающее от безумия прошедшей недели.
– Ты всегда жила в Питере? – спросил я, чтобы нарушить затянувшееся молчание.
– Нет, – покачала она головой. – Я из небольшого наукограда под Новосибирском. Академгородок. Приехала сюда поступать на химфак. Думала, что это город ученых и поэтов.
– И как, оправдались ожидания?
– И да, и нет, – она пожала плечами. – Ученые оказались в основном бюрократами, а поэты – пьяницами. Но сам город… он волшебный. В нем есть какая-то тайна. Какая-то изнанка. Я это всегда чувствовала, даже когда еще не знала про НИИ. А ты?
– А я коренной. Всю жизнь в радиусе пяти станций метро отсюда. Для меня Питер всегда был просто… домом. Немного серым, немного депрессивным, но своим. Только сейчас я начинаю понимать, что ты имеешь в виду под «изнанкой».
Мы говорили о каких-то простых, не связанных с работой вещах. О любимых книгах, о музыке, которую слушали в детстве. Оказалось, что мы оба в подростковом возрасте зачитывались Стругацкими, и что у нас обоих есть дурацкая привычка разговаривать с техникой, когда она начинает капризничать. Она рассказала, как в детстве пыталась собрать в сарае настоящий химический реактор из бабушкиного самогонного аппарата, а я – как пытался написать свою первый ИИ на стареньком «Пентиуме», который должна была предсказывать погоду.
Мы дошли до небольшого мостика и остановились, оперевшись на холодные чугунные перила.
– Знаешь, – тихо сказал я, глядя на темную воду. – Несмотря на все это безумие, на Косяченко, на эти сумасшедшие данные… я никогда не чувствовал себя так… на своем месте.
Алиса долго молчала, а потом ответила так же тихо, не глядя на меня:
– Я тоже. Иногда мне кажется, что я родилась не в то время или не в том мире. Меня всегда считали странной. Слишком резкой, слишком увлеченной своими колбочками и формулами. А здесь… здесь я просто дома.
Она повернула голову и посмотрела мне прямо в глаза. И в этот момент я понял, что смотрю не просто на коллегу, не просто на союзника. Я смотрю на человека, который понимает меня так, как не понимал никто другой. Потому что она была из того же мира. Из того самого, который мы оба так долго искали и наконец нашли за стенами этого странного института.
Мы простояли так еще несколько минут, наслаждаясь тишиной и этим новым, хрупким ощущением близости. Холодный вечерний ветер трепал ее рыжие волосы, и мне отчаянно захотелось протянуть руку и убрать выбившуюся прядь с ее лица. Но я не посмел.
– Пора, наверное, – сказала она, словно прочитав мои мысли.
– Пора, – согласился я.
Мы дошли до метро. Попрощались короткими, почти небрежными фразами. Но в этом «до понедельника» теперь было гораздо больше смысла, чем в любом длинном разговоре.
Глава 8: Новый взгляд
Субботнее утро навалилось на меня серой, промозглой хмарью, сочившейся сквозь жалюзи и наполнявшей квартиру неуютным полумраком.
Я проснулся не от будильника, а от давящей тишины, которая, после интенсивной недели в институте, обрела физический вес. Она была не просто отсутствием звука, а присутствием пустоты.
Мозг, еще вязкий ото сна, лениво перебирал вчерашние события. Прорыв с информационной приманкой, мелкие, но издевательски точные сбои, гнев Косяченко… Мы доказали, что «Эхо» – не пассивный сигнал, а игрок. Но эта победа ощущалась как взятие одной-единственной пешки в партии с гроссмейстером, который видит всю доску и смеется над нашими попытками. Мы заставили его отреагировать, но не приблизились к пониманию его логики. Я чувствовал, что мы зашли в ментальный тупик, как программист, который часами смотрит на код, зная, что ошибка где-то есть, но не в силах ее увидеть. Наши методы провокации давали слишком зашумленные, хаотичные данные.
Я встал и прошелся по комнате. Нужно было что-то делать, иначе это вязкое ощущение бессилия поглотит меня.
Инстинктивно, почти не задумываясь, я потянулся к телефону. Мне отчаянно нужно было услышать живой, нормальный голос из мира, где самой большой проблемой были сорняки на грядках. Я набрал маму.
– Лёшенька, сынок! – ее бодрый, жизнерадостный голос ворвался в тишину моей квартиры, как луч солнца. – А я как раз пирог с яблоками в духовку поставила! Запах – на всю дачу! Жаль, погодка сегодня совсем не дачная, дождь моросит, а то бы приехал, отведал.
– Привет, мам. Да, погода так себе, – ответил я, глядя в окно на серые струи, полосующие стекло. – Просто так звоню. Узнать, как вы.
– Да у нас все по-старому, – защебетала она, и я почти физически ощутил тепло и уют их дачного домика. – Отец твой возится с насосом для полива, опять у него что-то барахлит. Говорит, что-то в твоих схемах не так. Дай-ка я ему трубку передам, он тебе сам расскажет.
Через секунду в трубке раздался спокойный, немного басовитый голос отца.
– Лёш, привет. Слушай, я тут по твоей схеме… гениально, конечно, все эти потоки, клапаны, ты мне прямо как для космического корабля нарисовал. Но я вот что подумал… Я все утро смотрел на твой чертеж как на плоскую картинку, и не мог понять, почему этот патрубок должен идти сюда, а не туда. А потом до меня дошло – ее же надо в объеме представлять! В голове! Как оно все внутри на самом деле соединяется, а не на бумаге! И сразу все стало на свои места.
Он еще что-то говорил про прокладки и давление, но я его уже почти не слушал. Его последние слова ударили меня как разряд тока.
«Смотрел как на плоскую картинку… Надо в объеме представлять…»
Я попрощался с отцом, пообещав подумать над его насосом, и медленно опустил телефон. Я стоял посреди комнаты, и в моей голове, как будто прорвало плотину. Мысль, простая и очевидная, как закон всемирного тяготения, озарила все.
Мы все это время гнались за тенями.
Мы анализировали отдельные инциденты – электромагнитный сбой здесь, акустический феномен там, гравитационную флуктуацию через час в другом районе. Мы наносили их на карту как плоские, двухмерные точки. Мы соединяли их линиями, пытаясь найти маршрут. Но мы смотрели на следы, а не на зверя. Мы анализировали его тень, отбрасываемую на стену нашей реальности, но не пытались понять форму самого объекта, который эту тень отбрасывает.
Что, если «блуждающая аномалия» – это не последовательность событий? Что, если это единый, сложный, многомерный объект, который движется сквозь наш трехмерный мир? А все эти разрозненные инциденты – это не что иное, как разные его «проекции» или «сечения», которые мы наблюдаем в тот момент, когда он соприкасается с нашей реальностью. Электромагнитный сбой – это его «полевая оболочка» задевает ЛЭП. Гравитационная аномалия – это его «ядро массы» проходит слишком близко к поверхности. Акустический феномен – это вибрации, которые он создает в «эфире».
***
Это меняло все. Мы пытались предсказать следующий шаг в двухмерной плоскости, а нужно было моделировать движение трехмерного, а может, и четырехмерного объекта в пространстве.
