Хрустальный сон Империи
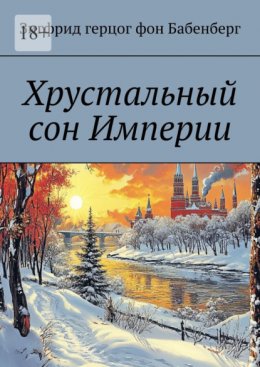
© Зигфрид герцог фон Бабенберг, 2025
ISBN 978-5-0068-3230-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ
О ТЕХ, КТО ДЕРЖАЛ НЕБО
Дорогой читатель, В твоих руках – сборник повестей. Это ключи. Три ключа от трёх разных дверей, ведущих в одну и ту же Россию – ту, что мы знаем по учебникам, но почти не узнаём сердцем. В ту Россию, что пребывала в своём «Хрустальном сне Империи» – прекрасном, ясном и роковым образом лишённом самоосознания. Это был сон о вечности и незыблемости. Сон, в котором гигантский, идеально отлаженный механизм – от купеческой лавки до монастырской обители – работал, не задаваясь вопросом о своей природе. Он был слишком органичным, чтобы усомниться в себе. Слишком прочным, чтобы разглядеть собственную хрупкость. И в этой блаженной, «безмятежной отсутствии рефлексии» и таилось семя будущего краха. Империя не видела трещин, потому что не искала их. Она видела лишь свой блеск. Первый ключ – железный, от лабаза – отопрёт дверь в московский купеческий театр. Здесь созидали, не рефлексируя: мостили улицы, строили театры, спасали города от голода, потому что иначе нельзя. «Тёмное царство» было царством действия, а не самоанализа. Его сила – в воле и рубле – была и его слепым пятном. Второй ключ – деревянный, пахнущий воском и хлебом – ведёт в Русь монашескую. Здесь освящали быт, не сомневаясь в своём пути. Молились и кололи дрова в едином, неразрывном ритме. Эта вера была несокрушимой опорой, но её органичная, взятая как данность цельность, делала её уязвимой для мира, который уже научился сомневаться. Третий ключ – каменный, от московской мостовой – проведёт тебя по Московской Атлантиде. Это город-сновидение, который жил, не ведая, что его скоро не станет. Его дома смеялись, его переулки хранили тайны, но он не осознавал себя уходящей натурой, не готовился к прощанию. Что связывает эти три мира? Диалог, но диалог глухих. Яростный, полный любви и непонимания, но лишённый главного – общего вопроса: «А что же мы такое? Куда идём?». Купец, монах и горожанин были деталями одного хрустального механизма, слишком занятыми своей работой, чтобы услышать первый тихий хруст. Этот сборник – попытка разгадать не только красоту этого сна, но и причину его окон. Увидеть, как органичность и отсутствие рефлексии стали и силой, и фатальной слабостью. Как одна Россия, «продавая сардины, строила театры», не спрашивая, зачем, а другая, «коля дрова, возводила храм в душе», не сомневаясь в прочности стен. Перелистни страницу. Услышь звон елисеевских витрин, стук топора в обители и шёпот кривых переулков. Вслушайся в этот хрустальный перезвон – в нём не только очарование утраченного рая, но и горький урок о том, что даже самый прочный мир рушится, если те, кто в нём живёт, забывают спросить себя: «Не сон ли это?». Автор
Русь монашеская
ПРЕДИСЛОВИЕ
«О БЫЛЫХ КАМНЯХ И ЖИВЫХ СЕРДЦАХ»
Дорогой читатель,
Когда мы слышим слова «монастырь», «схима», «послушание» – воображение рисует нам неприступные стены, за которыми течет жизнь, полная непостижимого мистицизма. Кажется, что там, за вратами, время застыло в вечном «ныне и присно», а люди – лишь тени, движимые одной лишь молитвой. Мы видим величественные иконы, строгие лики фресок, слышим перезвон колоколов, доносящийся как эхо из глубины веков. И думаем: «Вот он – остров святости, отгороженный от суеты мира сего».
Но позвольте приоткрыть вам маленькую тайну, выстраданную личным опытом. Я, как и многие из вас, знал одесских семинаристов. Видел, как они, сбив клобук набекрень, с азартом гоняли мяч во дворе после лекций. Слышал их споры у кипящего самовара – не о тонкостях исихазма, а о том, чья очередь мыть котлы в трапезной или как починить протекающую крышу над кельей. Помню, как один юноша, весь в чернильных пятнах, отчаянно зубрил греческий перед экзаменом, шепча: «Господи, помоги, ибо филология – крест мой тяжкий!».
Именно тогда я понял: монастырская жизнь – не фреска. Она – живая акварель, где священное неотделимо от простого: – Ладан смешивается с запахом свежеиспеченного хлеба из пекарни. – Звон колокола будит не только к заутрене, но и к тому, что коровам в хлеву пора менять подстилку. – Молитвенное правило прерывается стуком топора: надо колоть дрова, ибо зима не спросит, закончил ли ты «Отче наш».
В этих рассказах вы не найдете пафосного отрешения от мира. Здесь – люди. – Будильник, чей дубовый молоток стучит не только в двери келий, но и по его собственной усталости. – Иконописец, терзающийся не искушениями дьявола, а тем, что синяя лазурь на палитре внезапно закончилась. – Пчельник, для которого жужжание пчел – не метафора молитвы, а насущная забота: улей может простудиться от северного ветра.
Да, их день расписан молитвами. Но он же расписан: – Ведрами воды из колодца, – Счетами за сено, – Поиском пропавшей коровы в лесной чаще, – И даже тихим смехом в трапезной, когда келарь нечаянно пересолил щи.
Семинария в Одессе научила меня главному: святость – не в избегании быта. Она – в умении освятить быт. В том, чтобы видеть Божий промысел не только в сиянии куполов, но и в тепле печки, натопленной своими руками. В том, чтобы кусок черного хлеба с солью на трапезе стал таким же таинством, как Чаша с вином.
Поэтому читайте эти истории не как жития святых, а как летопись живых. Где монах может споткнуться на ступенях храма, а игумен – переживать, хватит ли зерна до весны. Где за каждой «должностью» из устава – стоит человек с его немощами, юмором, страхами и надеждой.
Потому что монастырь – это не стены. Это – дыхание тех, кто внутри. Их пот, их молитвы, их грубые руки, их тихие сомнения… и их несокрушимая вера в то, что даже в самом малом послушании – уже путь к Небу.
С уважением и памятью об одесском самоваре, Автор.
- [Verse 1]
- Белый ангел во Вселенной
- Ты покинул нашу землю
- Я прошу не улетай
- Навести родимый край
- [Verse 2]
- Видишь черное ползёт
- Сквозь озоновые дыры
- На границах ноосферы
- Не видать уж нам победы
- [Chorus]
- Дай хоть раз глоток свободы
- Среди звезд и меж планет
- Ты принес бы нам надежду
- Отыщи наш верный след
- [Verse 3]
- В бесконечных небесах
- Ты как светлый лучик счастья
- Поведи нас за собой
- Ты спаситель ангел мой
- [Bridge]
- В чистоту твоих крылов
- Верим без обиняков
- Освободи нас от оков
- Раскрой двери всех миров
- [Chorus]
- Дай хоть раз глоток свободы
- Среди звезд и меж планет
- Ты принес бы нам надежду
- Отыщи наш верный след
Камень, Пёрышко и Незапертые Врата
Часть первая: Камень (Киево-Печерская лавра, XI век)
Влажный туман лип к Днепру, как монашеская ряса к мокрому телу. Юный Давид, сын боярский, стоял у врат обители, сжимая в руке камень – символ отречения от мира. Ему шестнадцать. Вчера он гонял коней по полю, сегодня принёс в дар монастырю мешок пшена и серебряный крест.
Старец Никодим (разглядывая камень): – Опять камешек? Третий за неделю. Давид, чадо, не в камне сила. Сила – в воле. Ты жениться собирался, слыхал я…
Давид (краснея): – Анна… дочь сотника. Но вчера сокол мой, Белогрудый, улетел в лес. Я понял: это знак. Мир – как сокол: красив, да не вернётся.
Никодим (вздыхая): – Постричься – не от горя убежать. Вот, гляди…
Он повёл Давида в трапезную. Дымящиеся щи с снетками, ржаной хлеб, клюквенный взвар. У печи «будильник» – монах-часобойник – бил в колотушку: – Бдит-бдит! К молитве, братия!
– «Будильник», – пояснил Никодим, – не даёт душе проспать Вечность. А в келье? Ни иконок лишних, ни ковриков. Разве что пучок сухого зверобоя – от скорбей земных.
Часть вторая: Пёрышко (Новгород, XV век)
В Георгиевском монастыре всё звенело от мороза. Марфа-посадница, заточённая сюда Иваном III, писала пером на бересте: «Князю Михаилу…» Бумагу отобрали – бересту дозволяли.
Инок Серапион (подавая миску с тёплым толокном): – Опять письма, госпожа? Бесполезно. Здесь стены – не градские. Насильный постриг – крест без распятия.
Марфа (остро отточенным пером чертя узоры на лавке): – Знаешь, Серапион, почему в келье икона без оклада? Чтобы золото не застило лик. Я теперь – как та икона. Без оклада. Без Новгорода…
Вдруг ворвался послушник Гавриил с радостной вестью: – Брат игумен разрешил! На Рождество подали икру белужью и вино португальское! В честь митрополита!
Марфа (горько): – Икра? В моём Новгороде её бочками ели. А вино… Помнишь, как купцы говорили: «Португальское – для веселья, монастырский мёд – для души»?
Серапион (тихо): – Радость – тоже подвиг, госпожа. Особенно здесь.
Часть третья: Незапертые Врата (Москва, XVIII век)
Новодевичий монастырь. После петровских указов обитель опустела. Бобылка Фекла, 52 года, стучала в ворота: – Постригите! Муж помер, дети вышли. Хочу молиться!
Игуменья Серафима (сверяясь с «Указом о монашестве» Петра I): – Возраст подошёл… Но где увольнительная от помещика?
Фекла (доставая из узелка восковую свечу и гребень): – Я – вольная! Свечу – в дар Богородице. Гребень… (смущённо) – для сестёр. У вас ведь «в свободное время» – только молитва да плетение поясов?
Игуменья смягчилась. В тот же вечер в трапезной, среди постных грибов с луком, Фекла спросила: – А правда, батюшка Пётр Алексеевич запрещал молодым постриг?
Старица Евпраксия (смеясь): – Он думал: бегут от податей! А кто бежит – так тому и 30 лет мало. Вот брат Елисей… В 25 лет пришёл – семинарию кончил. Теперь фрески пишет в Успенском соборе. Это ли не подвиг?
Эпилог: Камень и Пёрышко
Новодевичий монастырь. Два старика у пруда. Давид (теперь – отец Досифей) перебирает чётки. Рядом – Фекла (мать Феодора).
Давид: – Помнишь, Феклуша, будильника нашего в Киеве? Как он сердился, если щи пересолишь! Говорил: «Соль – символ мудрости, а не гортани жжения!»
Фекла (доставая берестяную грамоту): – А это… от Марфы-посадницы. Нашла в архиве. Пишет: «Перо выронила – его монах поднял. Пусть хранит того, кто волен даже в неволе».
Она кладёт перо на камень у воды. Закат красит купола в цвет португальского вина.
«Монастырь – не стены. Это – камень отчаяния, ставший фундаментом веры. Перо скорби, пишущее летопись надежды. И врата, что заперты лишь для тех, кто сам потерял ключ».
Антоний
Семя, Упавшее во Тьму (ок. 1051 г.)
Пещера. Сырость. Мрак, едва разгоняемый светильником. Антоний (в миру – Антипа из Любеча), муж сурового лика, с руками, привыкшими не к мечу, а к молитвенным четкам. Он вернулся с Афона, где принял постриг. Не в богатый монастырь идет он – а в выкопанную пресвитером Иларионом пещеру.
Антоний: (Молясь, ударяя лбом о каменный пол) Господи… не дай душе моей возжелать покоя сего мира. Дай сил… выкопать здесь не яму, но… лествицу в Небо. Как старцы афонские. Вот – начало. Вот – Русская Фиваида. (Берет заступ) Копать буду… молитвой и железом. Тьма пусть сдавит тело – дабы дух воспарил.
Слух о «дивном старце, живущем в земле», разносится. Приходят первые последователи:
Никон-скопец (будущий игумен) – постригает желающих прямо в пещере. Варлаам (сын боярина!) – бросает мир ради тесной кельи. Ефрем (княжеский слуга) – меняет бархат на власяницу.
Князь Изяслав Ярославич: (Узнав, что его любимец Варлаам ушел к Антонию, в гневе) Выманить его! Силой! Пещеру завалить! Безумцы!
Антоний: (Встречая княжеских посланцев у входа, спокойно) Не силой берут Царствие Небесное… а смирением. Варлаам – не раб ваш. Раб Божий. Идите. Или… (смотрит вглубь пещер) …останьтесь. Место есть.
Князь отступает. Пещерная обитель растет. Но Антоний – не для управления толпой. Его путь – глубже.
Антоний: (Благословляя братию) Я – лишь семя. Друг придет… он взрастит древо. А мне… (указывает на новую, глухую пещеру) …туда. На затвор. Молитесь. Копайте. Не я – а Бог строит Лавру сию.
Тень Вторая: Феодосий – Древо Доброплодовитое (ок. 1057 г.)
В обитель приходит юноша с необычайно кротким, но твердым взором – Феодосий. Сын богатого курского посадника, он бежал от мира и властной матери, мечтавшей о его карьере.
Феодосий: (Падая ниц перед Антонием в новой пещере) Отче! Прими! Душа алчет иночества! Не ради покоя… ради труда и подвига!
Антоний: (Вглядываясь в него при свете лампады) Вижу… ревность не по разуму. Но… чистую. (Кладет руку на голову) Будешь игуменом. Не мне… а братии. Явлюсь… лишь в час нужды. Иди. Устав строгий заводи. По образу Студийскому (Константинополь). Без устава – не монастырь, а толпа.
Феодосий становится игуменом. Пещеры преображаются:
Устав: Железная дисциплина. Общие молитвы, трапезы, труды. Никто не смел есть вне общей трапезни, иметь лишнюю одежду. «Кто не трудился – да не ест!» – высек Феодосий над вратами. Милосердие: Рядом с пещерами вырастает странноприимный дом. Нищих кормят, больных лечат. Феодосий сам носит воду, колет дрова, ухаживает за прокаженными. «Монах – не для себя спасается, а для всех.»
Письмена: Основана первая на Руси библиотека и скрипторий. Переписывают книги – свет веры и знания. Непокорство Власти: Князь Святослав Ярославич изгнал брата Изяслава? Феодосий пишет обличительное послание: «Горе руце, напившейся крови братней!» Князь в ярости, но… не смеет тронуть святого. Монастырь – не придаток власти, а ее совесть.
Братия: (Ропщут порой на строгость) Отче Феодосий! Хлебцы сухие… работы много… сну мало!
Феодосий: (Тихо, но так, что слышно всем) Легко ли ангелам? Мы же – воинство Христово! Трудимся – дабы дух бодрствовал. Постимся – дабы плоть не бунтовала. Пещера – кузница душ. Не ждите покоя… ждите креста. И радуйтесь!
Тень Третья: Основание Вечности (1073—1074 гг.)
Антоний, провидев свою кончину, зовет Феодосия в затвор:
Антоний: (Слабый, но светящийся изнутри) Чадо Феодосий… пришел мой час. Лавра стоит. Не пещера уже… но Дом Пресвятой Богородицы. Ты – добрый строитель. Держи устав… не дай миру поглотить святыню. Копайте глубже. Не только пещеры… но и сердца. Ибо Лавра истинная – в душах ваших.
Антоний умирает. Братия хотят похоронить его в Великой церкви (еще деревянной). Но…
Знамение: Земля не принимает тело Феодосия, выбранное для погребения в Успенском соборе! Лишь когда вспомнили завещание Антония («где жил – там и схороните»), тело с почестями опустили в его пещеру-затвор. Знак: святость выше камня.
Феодосий: (Перед смертью, 1074 г., собрав братию) Не плачьте… радуйтесь! Иду… ко Господу и к отцу Антонию. Храните устав. Любите труды. Милуйте нищих. Не бойтесь сильных мира. Пещеры сии… станут духовным сердцем Руси. И из них… как реки… разойдется свет иночества по всей земле сей.
Эпилог: Лавра Нерушимая
Прошли века:
Пещеры разрослись в Киево-Печерскую Лавру – колыбель сотен святых, центр учености, твердыню православия. Мощи Антония и Феодосия почивают в Ближних (Антониевых) и Дальних (Феодосиевых) пещерах. Земля так и не приняла тела Феодосия – оно покоится в лаврском соборе, но дух его неразрывен с пещерами. Заветы: Антониева глубина – искание безмолвия, молитва как дыхание. Феодосиева широта – труд, милосердие, непоколебимость перед властью.
Чудо: Во время монгольского разорения (1240 г.) Успенский собор рухнул, погребя захватчиков… но пещеры устояли. Как устоял и дух, в них взращенный.
Голос из Глубины (в пещерных лабиринтах): «Мы, Антоний и Феодосий, не князья и не герои ратники. Мы – копатели. Копали пещеры – чтобы душам было где плакать о грехах. Копали сердца – чтобы найти в них Бога. Заложили не стены – традицию. Ту, что вела Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Оптинских старцев. Пещера мала? Но в ней – вся Русь. И пока в эту тесноту стучится чье-то сердце, ища света во тьме – Лавра жива. И мы… незримо подаем лопату новому копателю.»
Каждый, кто спускается в древние пещеры, чувствует: здесь время иное. Здесь XI век дышит в ухо. И слышится: «Возьми лопату. Копай свою пещеру. Найди в ней – свет. Как Антоний. И вынеси этот свет – в мир. Как Феодосий. Аминь.»
Парижские Краски Московского Неба
(рассказ о создании панорамы Индейцева глазами французского литографа)
Париж, типография Лемерсье. Апрель 1847 года. Жозеф Габриэль Обрен поправлял цилиндр, ворча: – «Mon Dieu, Дмитрий! Как можно рисовать дворцы без теней? Ваши купола плоски, как блин!»
Русский художник Индейцев, не отрываясь от кальки, улыбался: – У нас, месье, солнце иное. Оно обнимает златые главы, а не лепит объем. Вот смотрите…
Он провел пальцем по эскизу Чудова монастыря: – Здесь Василия Шуйского постригли насильно. Видите? Камень у алтаря – будто след от павшей короны…
Москва в памяти. Тайницкая башня, 1845 год. Дмитрий помнил, как ветер рвал бумагу. С Кремлевской стены открывался вид на 270 градусов:
Слева – Малый Николаевский дворец, где Николай I пил чай с медом. Прямо – Вознесенский монастырь, усыпальница цариц. Там инокиня Марфа, мать первого Романова, вышивала пелены. Справа – Спасская башня, чьи колокола звонили так, что дрожали воробьи на замерзшей Москве-реке.
Диалог с часовым: – Ты что, барин, шпиён? – хмурился стрелец. – Художник. Панораму делаю. – А… это как «райские картинки» в трактире? Только без чертей? – Без чертей, – смеялся Дмитрий. – Вот видишь монастырь? Там Гришка Отрепьев, самозванец, спал на пуховых перинах, пока мужики с голоду пухли…
Париж. Литографский станок гудит, как московская толчея. Филипп Бенуа, растирая киноварь: – Жозеф, посмотри! На листе №5 – церковь в Кадашах. Дмитрий написал ее… поверх крепостной стены. Будто ангел парит над тюрьмой!
Обрен хмыкнул: – По-французски так не рисуют. Но… (прищурился) это гениально. Как ваша «шествие на осляти» – царь на осле, народ в грязи, а вера – золотом на куполах.
Русская девчонка-раскрасчица, Катюша, шептала Бенуа: – Видите карету с дамами на листе №1? Это великие княжны! А в толпе – мой прадед, калачник. Он им пряник подал! – Откуда знаешь? – Дмитрий Иванович говорил: «В искусстве правда – в деталях». Вот здесь… – она тронула крохотную фигурку с подносом. – Он даже родинку на щеке вывел!
Тень Смуты. Вознесенский монастырь. Пока Бенуа выводил французские подписи («Monastère de l’Ascension»), Индейцев рассказывал: – Здесь в 1605 году Марина Мнишек примеряла свадебный кокошник. Лжедмитрий подарил ей жемчуга – украл из гробницы Годунова. А через год… (он резко чиркнул карандашом) ее же сына сбросили с той башни. «Колоколенка Воскресенская», зовут в народе. Обрен замер: – Вы рисуете историю кровью вместо туши? – Нет, – тихо ответил Дмитрий. – Памятью.
Финал: Лента длиной в вечность. Когда 10 листов склеили в 4.5-метровую панораму, Лемерсье воскликнул: – C’est un théâtre! Театр, где Москва – актриса, а зритель… весь мир!
Индейцев провел рукой по Набатной башне: – *Здесь колокол звонил в 1812-м, когда горел Кремль. Теперь он молчит… но на вашей литографии – вечно кричит «Пожар!»*
Эпилог. Санкт-Петербург, Президентская библиотека. Наши дни. Реставратор Анна, рассматривая панораму в лупу: – *Смотри, здесь Чудов монастырь… Его снесли в 1929-м. А на рисунке – живой. Даже трещина на колокольне видна, от пушек Наполеона.*
Ее коллега улыбается: – Знаешь, что смешно? Французы спасли Москву… на бумаге. Их краски пережили бетон.
«Москва 1848 года теперь вечна: – золото карет на листе №1, – слезы инокини Марфы в №5, – крик набатного колокола на №7. Париж подарил ей бессмертие…
А она – душу.»
День, сотканный из молитв и топора
Подзаголовок: Как будильник, иконописец и пчельник слышат один колокол
1. Будильник (Троицкий монастырь, предрассвет)
Темнота густела, как смола. Брат Агапит, будильник, шел по коридору, стуча дубовым молотком о дверь игумена: – Благослови, отче, день начать!
Из-за двери – хриплый шепот: – Благословляю… И скажи звонарю: бей не в «красный» звон, а в «постовой». Душа утром – глиняный кувшин: резкий звук разобьет.
Потом – кельи. У каждой свой стук: – Книгохранителю – трижды: «Твои фолианты ждут!» – Кузнецу – два удара в косяк: «Кузня не терпит сна!» – Монаху-живописцу (с листа №1 Нижегородского музея) – легкое касание: «Киноварь на палитре сохнет…»
2. Иконописец (после Утрени)
В мастерской пахло яичной темперой и яблоками с монастырского сада. Брат Кирилл растирал охру, напевая: – «Свете тихий…»
У окна юный послушник Феодосий точил кисть: – Брат, а правда, что лицо Спаса надо писать… натощак?
Кирилл (смешивая лазурь): – Не лицо, Федя. Взгляд. А он – как первый луч в келье. Если живот урчит – получится не Спас, а опричник. Держи!
Он протянул краюху хлеба с медом: – Пчельник Варлаам из Геннадиева монастыря привез. Ешь – и пиши лик так, будто сам Господь глядит на тебя через твою кисть.
3. Трапеза (полдень)
В столовой царил шелест: 50 монахов ели щи с груздями. Только чтец Порфирий нарушал тишину, вещая из «Пролога»: – «…и бес покаялся, укушенный смирением пустынника!»
Келарь Антоний (шепотом трапезарю): – Рыбу подай чтецу. Голос – золото, а золото кормить надо. Трапезарь (вздыхая): – А соленые грузди – художнику? Он вон, тени под глазами… – Всем! – строго кашлянул Антоний. – В Соловках и тюлений жир делили поровну.
4. Свободное время? (вечер)
«Свободное время» – звучало гордо. Но: – Брат-бухгалтер считал пожертвования при лучине. – Сестра-вышивальщица (как на полотне Горюшкина-Сорокопудова) штопала пелену Богородицы, роняя слезу на золотую нить. – Старец-духовник принимал исповедь у кузнеца: – Опять, Прохор, ругался? – Молоток уронил на ногу… «Чертяка», молвил. – *Накажи плоть: 50 поклонов с молитвой. И скажи молотку: «Брат мой железный»…
5. Пчельник (сумерки у Геннадиева монастыря)
Инок Варлаам проверял ульи. Его свободное время пахло воском и гречихой. К нему подошел послушник с букетом Иван-чая: – Брат, зачем пчелам молитва? Они ж не слышат…
Варлаам (поправляя дымарь): – Слышат, Савва. Мед – это слезы земли, что пчелы превращают в сладость. А слезы… они от Бога.
Издалека донесся звон к Вечерне. Варлаам снял клобук: – Иди. А я… побуду с «сестрами».
Эпилог: Колокол
Когда будильник Агапит гасил последнюю лампаду, он слышал: – За стеной иконописец шептал: «Господи, помилуй…» – В саду пчельник напевал псалом пчелам. – А в библиотеке книгохранитель ронял восковую каплю на переплет.
«Монастырский день – не круг. Это винтовая лестница в небо. Каждый шаг – послушание. Каждый поворот – молитва. И только усталость на последней ступени напоминает: ты все еще человек… а не ангел.»
I. РЯСОФОР: Трижды Отвергнутые Ножницы
(по мотивам картины Перова)
Келья. Свеча коптит, как грешная душа. Послушник Илья подает ножницы игумену. Рука не дрожит – вымуштрована годами послушания: мытьем полов, чисткой рыбьих тушек для трапезы, стоянием в храме до коленей.
Игумен Паисий (отстраняя ножницы): – В третий раз спрашиваю: зачем? Мир – не сладок?
Илья (голос ровный, выученный): – Мир – как лужа под монастырской стеной. Мутен. Мелок. – А любовь? – Была. Утонула в той луже.
Ножницы щелкают в третий раз. Прядь волос падает на плиту. Крест на темени – не рана, а печать. Паисий (обмакивая перст в елей): – Теперь ты – рясофор. Неси крест молчания. И помни: ряса – не щит. Она – саван для живого.
Илья касается грубой шерсти. Камилавка давит на виски. За окном – смех трудников, рубящих дрова. Они уйдут завтра. Он – никогда.
II. МАНТИЯ: Имя, Утонувшее в Кадильном Дыму
(по мотивам Нестерова)
Собор. Хор поет «Се Жених грядет в полунощи…». Рясофор Илья стоит на коленях. Мантия – тяжелее камня. Ее подали после ночи в гробу: лежал безмолвно, примеривая вечность.
Игумен (накрывая его полой мантии): – Отрекаешься ли от имени? – Отрекаюсь. – От воли? – Отрекаюсь. – От мира? – …
Тишина. В куполе бьется голубь. Илья (вдруг, с надрывом): – Он… ведь тоже Божья тварь?
Паисий (строго): – Отрекаешься? – …Отрекаюсь.
Ножницы стригут крест поверх старого. Клобук низко надвигают на глаза. Паисий (шепотом у самого уха): – Теперь ты – Серафим. Пламень. Но лишь внутри. Снаружи – пепел.
Новое имя обжигает, как чужая кольчуга. У алтаря плачет женщина в черном. Мать? Бывшая невеста? Серафим опускает взгляд. Его мир теперь – ширь мантии, пахнущей ладаном и пылью.
III. ВЕЛИКАЯ СХИМА: Дверь, Которую Не Открыть
(по мотивам Камзолкина)
Пустынька за кладбищем. Схимонах Серафим сидит на голой лавке. Аналав (парчовый крест на спине) жмет ключицы. Вчера он отдал даже мантию – схимнику полагается власяница.
Игумен (в дверном проеме): – Последний вопрос, отец. Готов ли стать… мертвецом?
Серафим (гладит куколь – остроконечный клобук, закрывающий лицо): – У мертвецов – нет страха. У меня – есть. – Чего боишься? – Что Бог… не узнает меня под этим. Он указывает на куколь.
Игумен кладет руку на его голову. Рука легче птичьего пера. – Он узнает. По ранам на коленях от молитв. По трещинам на губах от поста. По… страху. Только мертвые не боятся Бога.
Дверь закрывается. Щелк засова. Серафим смотрит в щель окна. Вдали – монастырь. Там братия несет послушания: печет хлеб, пишет иконы. Он же теперь – только молитва. Даже дыхание – лишь для слова: «Господи…»
На столе – последний дар мира: яблоко от матери. Он не возьмет его. Завтра – умрет. Не для неба. Для земли.
Эпилог: Звуки За Порогом
Через год. Новичок-послушник у кельи схимника: – Почему он не выходит?
Старый трапезарь (шепотом): – Он умер. В день пострига. Тело – здесь. Душа… – Где? – Стучи!
Послушник стучит. Из-за двери – тихий голос: – Кто? – Брат Игнатий. – Нет тут Игнатия. Есть мертвец. Молитесь за него.
Шаги удаляются. За дверью схимонах Серафим прижимает ладонь к щели. Тепло.
«Постриг – это не обряд. Это: – трижды уронить ножницы, – похоронить имя, – и запереться при жизни. Чтобы услышать, как за дверью
стучит Сам Бог.»
Детали-символы:
Ножницы Перова – не инструмент, а испытание. Три подачи = трижды «Отрекаюсь!»
Мантия Нестерова – не одежда, а кожа, которую меняют. Старое имя сбрасывают, как змеиный покров. Куколь Камзолкина – не головной убор, а саван для лица. Лик схимника – только для Бога. Яблоко – последняя нить с миром. Не тронутое – знак: разрыв свершился. Засова – звук гробовой доски. Но за ней – не смерть, а жизнь, сгоревшая дотла.
P.S. В Оптиной пустыни есть схимник, который 40 лет не выходил из кельи. Когда в 2003 году случился пожар, братья вынесли его на руках. Он плакал: «Зачем? Я уже предстоял Престолу…». Его вернули. В келью. К Богу.
День, сотканный из тишины и топора
Как будильник, иконописец и пчельник слышат один колокол
1. БУДИЛЬНИК (Троицкий монастырь, 3:00)
Темнота густела, как смола. Брат Агапит прижал ладонь к дубовому молотку – ледяному от ночной сырости. Его шаги эхом отдавались в каменных коридорах. У двери игумена замер: – Благослови, отче, день начать?
Из-за двери – шепот, похожий на шорох мыши: – Благословляю… Скажи звонарю: бей в «постовой» звон. Душа утром – роса: громкий звук её сотрясёт.
Дальше – кельи. У каждой свой стук: – Книгохранителю – трижды: «Твои фолианты ждут!» – Кузнецу – два удара в косяк: «Наковальня зовёт!» – Иконописцу (как на полотне из Нижнего Новгорода) – лёгкое касание: «Киноварь на палитре сохнет…»
2. ИКОНОПИСЕЦ (после Утрени, 5:30)
В мастерской пахло яичной темперой и воском. Брат Кирилл растирал лазурь, напевая: «Свете тихий…». Руки дрожали от холода и голода – до трапезы нельзя есть. У окна юный послушник точил кисть: – Брат, а правда, что лик Спаса надо писать… натощак?
Кирилл (смешивая охру с желтком): – Не лик, Федя. Взгляд. А он – как первый луч. Если живот урчит – получится не Спас, а сборщик податей. На, подкрепись!
Протянул краюху хлеба с мёдом: – Пчельник Варлаам из Геннадиева прислал. Ешь – и пиши так, будто Сам Господь глядит через твою кисть.
3. ТРАПЕЗНИК (полдень)
В столовой стоял шелест: 50 монахов ели постные щи. Только чтец Порфирий нарушал тишину, вещая из «Четий-Миней»: – «…и бес покаялся, ужаленный смирением пустынника!»
Келарь Антоний (шепотом трапезарю): – Рыбу подай чтецу. Голос – как колокол: без меди звона не будет. Трапезарь (вздыхая): – А солёные грузди – иконописцу? Он тени под глазами кладёт… – Всем! – кашлянул Антоний. – В Соловках и тюленью печень делили поровну.
4. ПЧЕЛЬНИК (Геннадиев монастырь, 16:00)
Инок Варлаам проверял ульи. Его послушание гудело жарким полднем. К нему подкрался послушник с букетом Иван-чая: – Брат, зачем пчёлам молитва? Они ж не слышат…
Варлаам (поправляя дымарь): – Слышат, Савва. Мёд – это слёзы земли, что пчёлы превращают в сладость. А слёзы… они от Бога. Издалека донёсся звон к Вечерне. Варлаам снял клобук: – Иди. А я… побуду с «сестрами».
5. МОНАХИНЯ (Женский монастырь, «свободное время»)
Сестра Ольга (как на полотне Горюшкина-Сорокопудова) штопала пелену Богородицы. Игла колола палец – капля крови легла на золотое шитьё. Игуменья (строго): – Сотри. Ольга (прижимая окровавленный палец к губам): – Нельзя, матушка. Это… как слеза Божией Матери. Игуменья смолкла. Потом достала платок: – Обвяжи. Святость – не в крови, а в терпении.
Эпилог: КОЛОКОЛ
Когда будильник Агапит гасил последнюю лампаду, он слышал: – За стеной иконописец шептал: «Господи, помилуй…» – В саду пчельник напевал псалом пчёлам. – В библиотеке книгохранитель (как на дагерротипе Гошко) ронял восковую каплю на переплёт. – А в женском корпусе сестра Ольга зашивала платок игуменьи.
«Монастырский день – не круг. Это лестница в небо: – ступени из топора и молотка, – перила из молитв, – а на вершине – тишина, где даже собственное сердце
кажется чужим колоколом.»
Будильник – не «будильщик». а дирижёр тишины, знающий ритм каждой души. Иконописец голодает до полудня не из аскезы, а чтобы рука не дрогнула на лике Спаса. Трапеза – где ложка скребёт миску громче слов, а рыба чтецу – «масло для светильника». Пчельник – единственный, кому позволено пропустить Вечерню. Его литургия – жужжание. Монахини – их «гибкий распорядок» строже мужского: игла не прощает ошибок.
P.S. В Соловках старец говорил новичку: «Ты думаешь, послушание – это когда тебе говорят „руби дрова“? Нет. Послушание – когда дрова уже рубятся в твоей душе, а ты лишь подбираешь щепки».
Белые Рясы на Красном Снегу»
Как соловецкие иноки трижды спасли Русь, не выпуская четок из рук
I. ЛИВОНСКАЯ ЗИМА (1582 год)
Ветер с Белого моря точил стены, как нож. На башне Орёл стоял инок-пушкарь Арсений, бывший новгородский стрелец. В подзорную трубу видны были шведские корабли, вмёрзшие в лёд у Заяцкого острова.
Настоятель Варлаам (в кольчуге поверх рясы): – Брат, сколько их?
Арсений (не отрывая глаз от трубы): – Три шнявы. Двести человек. Ждут оттепели, чтобы к стенам подойти. – А у нас? – Пять пушек да монахи с бердышами – те, что вчера картошку копали.
Вдруг со льда донёсся крик по-шведски. Арсений хрипло рассмеялся: – Смотрите! Икону Зосимы Соловецкого вынесли!
На стену поднялись иноки с чудотворным образом. Ветер рвал золото оклада. Шведы замешкались. А потом…
Арсений (удивлённо): – Крестятся! Отходят!
Варлаам (снял кольчугу, перекрестился): – Не пушками, а верой. Запиши в летопись: «Победа сия – от иконы, а не от железа».
II. СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1702 год)
Пётр I прислал указ: «Держать Соловки яко щит Архангельска». На бастионе «Государев» установили новые пушки. Но главной силой были не они.
Монах-разведчик Никодим (вернулся с материка, весь в сосульках): – Шведы у Нижмозера! Говорят, наш колокол хотят снять – на пушки перелить!
Казначей Иона (пересчитывая ядра): – Колокол? Да они знают ли, что он отлит из турецких пушек после Азова? Звон его – как гром победы!
Той ночью звонарь Савватий бил в набат без перерыва. Звук шёл по льду, гнал шведов прочь. А утром…
Никодим (смотрит в трубу): – Ушли! Видно, испугались, что колокол их переплавит.
III. КРЫМСКАЯ ВОЙНА (22 июня 1854 года)
Английские фрегаты «Бриск» и «Миранда» вошли в залив. На требование сдаться монахи ответили молебном.
Игумен Александр (на крепостном валу): – Братья! Помните: здесь нет солдат. Есть иноки с вековыми пушками. Артиллерист Паисий (80 лет, слепой): – Наведите орудие «Святитель Филипп» по моей руке… Выше! Бей по такелажу!
Залп! Ядро пробило парус «Миранды». Англичане ответили 1200 снарядами. Камни Святых ворот дыбились от ударов, но стены XVI века выстояли.
Монах-дагерротипист (пряча пластину под рясу): – Зачем снимаешь бой? – Чтобы мир знал: белые рясы не сдаются.
*После 9 часов обстрела фрегаты ушли. В монастыре – ни одного убитого. Лишь икона Богородицы на Спасо-Преображенском соборе дала трещину.*
КАМЕННАЯ ПАМЯТЬ (1923 год)
Красноармеец Петров (разглядывая стены): – Как уцелело, товарищ? Говорят, тут англичане били из корабельных пушек…
Бывший инок Феодосий (теперь – сторож музея): – Камень знает: его клали не рабы, а свободные. Хотите – потрогайте вмятину от ядра?
Солдат приложил ладонь к холодному шраму. Откуда-то донёсся звон – будто невидимый звонарь бил в тот самый колокол из турецких пушек.
«Соловки – это: – пушки, что молятся, – колокола, что стреляют, – и монахи, что умирают лишь в свой последний час. А крепость – жива.»
Пушка «Святитель Филипп» – отлита из меди, пожертвованной Иваном Грозным после взятия Казани. Монах-дагерротипист – реальный снимок боя 1854 года хранится в архиве монастыря. Трещина на иконе – её не стали реставрировать. «Рана Богородицы – честь обители», – говорил игумен. Слепой артиллерист – Паисий служил ещё при Александре I. Наводил орудия «по крику чаек».
P.S. В 1854 году 10 иноков и 20 послушников отбили атаку двух современных фрегатов. Англичане выпустили 1800 снарядов. Монахи – 60 ядер. Ни одно не попало в корабли. Но шум, дым и несгибаемость стен заставили флот отступить. Это не поражение – это чудо Соловецкой крепости, высеченной из веры.
ШРАМЫ НА КАМНЕ
(Соловки, июнь 1925 года)
Красноармеец Иван (проводит рукой по вмятине от ядра на Святых воротах): – Товарищ сторож, и не пробили? Да у них ж пушки, как избы!
Сторож Феодосий (бывший звонарь, в потертой рясе под телогрейкой): – Сорок пудов железа в борт – выдержало. Англичане потом в газетах писали: «Russian monks build forts from faith, not stone».
Иван (усмехаясь): – Верой? Не смеши. Камень есть камень.
Феодосий (подводит его к иконе Богородицы с трещиной у глаза): – Видишь щель? После боя игумен велел не реставрировать. Сказал: «Это – слеза Пресвятой. Пусть знают враги: даже Божия Матерь плачет, но не сдаёт Соловков».
Откуда-то донёсся звон – будто эхо давнего набата.
Иван (вздрагивая): – Колокол? Я ж слышал, их все сняли…
Феодосий (прикладывая палец к губам): – Тот колокол, что шведов в 1702-м прогнал, отлит из турецких пушек. Его в 18-м году утопили у Голгофы-горы. Но в шторма… (тихо) рыбаки слышат. Будто гудит: «Не-сда-дим!»
Молчание. Иван снимает фуражку, гладит холодный камень.
Иван: – Как же вы… 10 монахов против двух фрегатов?
Феодосий (открывая скрипучую калитку на кладбище): – Артиллерист Паисий, слепой, мне мальчишкой говорил: «Феодос, пушка – та же кадильница. Ядро – фимиам. А молитва… она разрывает жерла вражеских пушек».
Он указывает на могильную плиту, заросшую мхом: «Инок Паисий. Убиен англичанами 1854 г.».
Иван (читая дату): – Так он же умер в день боя?
Феодосий (зажигая свечу): – Нет. Когда фрегаты ушли, он приложился к орудию и сказал: «Благодарю, батюшка Филипп, послужил верно». А утром нашли… с улыбкой. Без ран. Сердце.
Ветер донес запах дыма с материка – где-то горел лес. Иван натянул фуражку.
Иван: – Ладно… я доложу: крепость годна под склад. Стены – монолит.
Феодосий (глядя ему в спину): – Иван! – Чего? – Когда будешь писать отчет… упомяни, что тут не просто стены. Тут – рясы вместо мундиров. Молитвы вместо штыков. И камень, что помнит каждый выстрел – и свой, и чужой.
Солдат кивнул. А старый звонарь, оставшись один, прошептал в трещину иконы: – Матерь Божия, прости их… Они не ведают, что творят с камнями. А камни-то – святые.
«Соловецкая крепость никогда не сдавалась. Её стены пали лишь однажды – когда в 1920 году
последний инок сам отворил ворота
и сказал: „Берите. Но знайте: наши пушки молились. Ваши – лишь стреляют“.»
Камни Короны
Три жизни Новоспасского монастыря и Крутиц
I. ПЕРВЫЙ ПЕРЕЕЗД (1330 год, Боровицкий холм)
Князь Иван Калита стоял на холме, сжимая в руке горсть земли с могилы отца – святого Даниила. Рядом игумен Митрофан крестил ветер: – Зачем тревожить прах основателя, княже?
Иван (бросив землю к подножию дуба): – Москва растёт. И монастырь должен смотреть ей в глаза. Здесь, – он ткнул посохом в землю, – у Преображенской церкви, будет новый дом для старых мощей. Работник Федька (тащивший икону Спаса), охнул: – Батюшка, дуб-то священный! Рубить?
Игумен (приложив ладонь к коре): – Не руби. Пусть растёт внутри стен. Будет напоминать: корни важнее крон.
Когда первый камень заложили, из дупла вылетела сова. Калита усмехнулся: – Видишь, Митрофан? Даже птицы переезжают с нами.
II. КРИПТА РОМАНОВЫХ (1647 год, усыпальница)
Царь Алексей Михайлович спустился в подклет с иконой «Всецарица» – дар инокини Марфы. В свете лучины лики предков казались живыми.
Зодчий Иван Кузнец (показывая фреску с Рюриковичами): – Вот древо, государь. Вы с отцом – с нимбами, как святые. Царь (резко): – Закрась нимбы. – ?! – *Мы – помазанники, а не святые. Грехи наши… – он тронул холодную плиту Никиты Романовича, – здесь, под ногами. Лучше пусть корни без нимбов, чем листья с фальшивым золотом.
Вдруг со сводов упала капля воды – прямо на нимб Михаила Фёдоровича. Краска поплыла. Кузнец (испуганно): – Перепишу!
Алексей (вытирая влагу рукавом): – Не надо. Пусть будет… слеза Небес. Так честнее.
III. КРУТИЦКИЙ ТЕРЕМ (Смутное время, каземат)
Протопоп Аввакум (царапая на стене крест): – Слышишь, Герцен? Вон за окном – изразцовый рай. А мы – в аду. Александр Герцен (смеясь): – *В 1954-м сидел тут Берия, говорят. Ад многолюден, батюшка.*
Луна освещала поливные изразцы Терема: синие птицы, золотые травы. Аввакум прошептал: – Знаешь, почему Крутицы уцелели? – Польша, Наполеон, большевики… – Нет. Потому что красота – это молитва камней. Её не убить.
На рассвете Аввакума повели на костёр. Он крикнул Герцену: – Смотри! Терем горит ярче моего огня!
ЭПИЛОГ: МУЗЕЙ (Наши дни)
Экскурсовод Катя (у витрины с мундиром Сергея Романова): – *А вот пуля, убившая Великого Князя в 1905-м…*
Мальчик Ваня (тыкая в стекло): – Смотри, тут вышитый орёл! А почему без короны?
Смотритель Фёдор (бывший алтарник), поправляя очки: – *Орёл улетел, Ваня. В 17-м году. Но… – он открыл потайной ящик витрины, достал ворох писем, – видишь? Князь писал жене: «Короны нет – крест остался».
За окном зазвонили колокола. Катя подвела группу к «древу Рюриковичей». Ваня (глядя на подтёк на фреске): – Это та самая слеза Небес?
Фёдор (кивая): – Она – как река времени. Течёт через князей, царей, узников… и до нас с тобой.
из жизни Чудова монастыря
во времена Смуты
Эпизод 1: Келья Лжи (1604 г. Предрассветный час)
Место: Узкая, душная келья в Чудовом монастыре. Стол, заваленный книгами и свитками. Горит одна свеча, коптящая черным дымом. Персонажи: Монах Григорий (Отрепьев): Молодой, нервный, с лихорадочным блеском в глазах. Пишет. Старец Пимен (Вымышленный, но типичный наставник): Седеющий, с проницательным и усталым взглядом. Стоит в дверях.
(Сцена начинается со скрипа пера Григория. Пимен молча наблюдает.)
Пимен: (Тихо, но властно) Опять не спишь, чадо Григорий? Ночь на исходе. Утреня скоро… Час нечеловеческий для мирских дум.
Григорий: (Вздрогнув, прикрывает рукой написанное) Отче… Я… переписывал Житие. Глаза устали. (Слишком поспешно)
Пимен: (Делает шаг в келью, взгляд падает на необычные книги – польские геральдические альбомы, карты) Житие? Сияет лик святого на пергаменте, а душу твою… омрачают иные лики. Княжеские гербы. Польские речи. (Подходит ближе) Что пишешь, Григорий? Истину или… иную быль?
Григорий: (Вскакивает, пытаясь заслонить стол) Не ваше дело, старец! Я… я учусь! Знания – свет!
Пимен: Свет? Или адское пламя, что сожжет тебя и многих? Слышал я шепот в трапезной… Шепот о мертвом царевиче. Шепот о… чудесном спасении. (Берет со стола лист, Григорий бессильно опускает руки) «Сигизмунду, королю польскому и великому князю литовскому, брату возлюбленному… Димитрий Иванович, царь всея Руси, законный наследник престола отца своего, Ивана Васильевича…» (Пимен смотрит на Григория с ужасом и жалостью) Господи помилуй! Безумец! Ты лепишь куклу из костей мертвеца и лжи! И думаешь сесть на престол?
Григорий: (С вызовом, но голос дрожит) А почему бы и нет?! Они там… бояре… щенки Шуйские… готовы поверить любому, кто даст им власть! Москва жаждет истинного царя! Я могу быть им! Я буду им! Лучше, чем пьяница Борис или хитрый Василий!
Пимен: (С горечью) Истинного? Ты начинаешь путь с великой лжи в сердце! Эти стены (ударяет кулаком по камню) впитали молитвы столетий. Они видят твою душу, Григорий! Они знают: ты не Димитрий. Ты – беглый дьячок, играющий с огнем. Уйди, пока не поздно! Сожги эту пагубу! Или… (понижает голос) …или монастырь станет тебе не кельей, а первой тюрьмой. Или могилой.
Григорий: (Дико смеется) Могилой? Нет! Корона ждет! А эти стены… (с презрением оглядывает келью) они слишком тесны для царя! Я уйду. И вернусь – с войском! Смотри же, старик, не перечь мне тогда!
(Григорий резко тушит свечу, хватает бумаги и выскальзывает в темный коридор. Пимен стоит в темноте, опершись о стену.)
Пимен: (Шепчет в пустоту) Вернешься… но не царем. Мертвецом в позолоченном гробу. И монастырь сей… запятнает твоя ложь. Господи, прости нас… и помилуй Русь.
(Звук далеких шагов затихает. Тишина. Где-то падает капля воды.)
Эпизод 2: Постриг Царя (1610 г. Поздний вечер)
Место: Трапезная палата Чудова монастыря. Грубо переоборудована. Стоят польские стражники в латах. Посредине – наскоро поставленный аналой. Дымят факелы. Персонажи: Царь Василий Иванович Шуйский: Некогда властный, теперь сломленный, с перевязанными глазами (после слухов об ослеплении). В дорогих, но помятых одеждах. Его поддерживают два монаха. Митрополит (марионетка поляков): Нервный, торопливый. Держит ножницы и требник. Польский Гетман Жолкевский: Холодный, надменный. Наблюдает с группой офицеров.
(Шуйского почти силой подводят к аналою. Монахи держат его под руки.)
Митрополит: (Заикаясь, обращаясь больше к полякам, чем к Шуйскому) По… по воле народа московского и… и для успокоения земли… Василий Иванович… отрекается от… от царского венца… и… принимает ангельский чин…
Жолкевский: (Резко, по-польски, переводчик тут же переводит) Быстрее, владыко! Не время для длинных речей. Снимите с него царское платье. Наденьте схиму.
(Слуги грубо стаскивают с Шуйского верхнюю одежду, набрасывают грубую монашескую рясу и куколь. Клобук надет криво.)
Шуйский: (Срывает повязку с глаз. Глаза воспалены, но яростны) Народа московского? Воля ваша, польская! Иуды! (Пытается вырваться, но монахи держат крепко) Я – царь! Помазанник Божий! Вы не властны!
Жолкевский: (Холодно) Властна сила, бывший царь. А сила – за нами. Ты – конченый человек. Монашество – твоя единственная защита. Хочешь жить? Прими постриг.
Митрополит: (Торопливо, дрожащими руками берет ножницы) Инок Варлаам… во имя Отца, и Сына…
Шуйский: (Резко отдергивает голову, смотря прямо в глаза Митрополиту) «Варлаам»? Ты даешь мне имя предателя? Того, кто первым признал вора?! (Горько усмехается) Знак судьбы? Или ваша насмешка? (Внезапно стихает, голос становится ледяным) Делайте, что хотите. Но знайте: ряса сия – саван. Клобук сей – колпак для мертвеца. Вы не постригаете монаха… вы хороните царя. И Русь этого не забудет. (Смотрит в сторону алтаря, где темнеет лик Спаса) Господи, виждь и суди!
(Митрополит, дрожа, отрезает прядь волос. Шуйский не сопротивляется, но стоит невероятно прямо. Его глаза горят ненавистью и безнадежностью.)
Жолкевский: (Кивком указывает монахам) В келью его. На хлеб и воду. Инок Варлаам… помолись за грехи свои. Особенно за грех царствования.
(Солдаты грубо берут Шуйского под руки и уводят. Он не оглядывается. Митрополит роняет ножницы. Жолкевский брезгливо вытирает руку о плащ.)
Эпизод 3: Заточение Слова (1611 г. Сырая подземная келья)
Место: Маленькая, темная, промозглая камера где-то в подземельях Чудова монастыря. Полуразвалившаяся кровать, табурет. На столе пустая миска, кувшин с водой и клочки бумаги, перо, чернильница. Узкая щель вместо окна. Персонажи: Патриарх Гермоген: Очень старый, изможденный, но глаза горят несгибаемой волей. Сидит за столом, пишет. Польский Офицер (Горновский): Наглый, раздраженный. Входит без стука с солдатом. Солдат держит миску с какой-то бурдой.
(Гермоген не поднимает головы, продолжает писать.)
Горновский: Опять пишешь, старик? Голодать сил хватает, а язык не отсох? И перо не сломалось? Удивительная живучесть… червяка. (Бросает миску на стол, брызги летят на бумагу) Жри! Король милостив – прислал похлебку. Хотя… зачем кормить того, кто кусает руку кормильца?
Гермоген: (Не глядя на миску, аккуратно промокает испачканный лист) Рука захватчика, душащего Русь Православную, не кормит. Она убивает. Я не приму подачки от убийц моих чад духовных.
Горновский: Чад? Твои «чада» режут наших солдат по всей Москве! Из-за твоих писулек! Где они? (Рывком выхватывает у Гермогена только что написанный лист) «Братие мои православные! Не верьте лжепастырям! Не щадите жизни вашей… за Дом Пресвятой Богородицы!» (Рвет лист в клочья, швыряет под ноги) Опять! Опять яд! Ты хочешь смерти? Мы можем устроить!
Гермоген: (Спокойно берет новый лист бумаги) Смерть? Она придет ко всем. Но страшнее смерти – предательство Веры и Родины. Ты требуешь, чтобы я благословил ваше господство? На разорение святынь? На поругание веры? (Впервые поднимает глаза, взгляд как сталь) Никогда. Благословляю вас… на исход из земли Русской! А верным чадам – на брань! Смерть лучше позорного мира с еретиками!
Горновский: (В ярости) Ты с ума сошел, старик! Ты здесь один! В сырой яме! Твоя Москва – наша! Твой царь – в плену! Кто тебя услышит?!
Гермоген: (Начинает писать с новой силой) Услышит Бог. Услышит земля Русская. Слово мое… как семя. Упадет в добрую почву – взойдет побег свободы. Упадет на камень – отзовется грозным эхом. (Пишет, не глядя на офицера) Уходи, слуга тьмы. Не мешай мне. Я должен написать… пока есть силы. Пока есть перо и чернила. А если их не станет… (указывает на сердце) слово будет здесь. И его услышат.
Горновский: (В бессильной злобе плюет на пол) Сиди же тут со своим словом! Голодай! Гний в этой яме! Слово твое сгниет вместе с тобой! (Кричит солдату) Убрать чернила! Убрать перо! Оставить воду! Пусть помрет тихо, как собака! И слово его умрет с ним!
(Солдат грубо хватает чернильницу и перья. Горновский в ярости выходит, хлопнув дверью. Гермоген сидит неподвижно. Потом медленно берет пустой лист бумаги. Опускает палец в пустую чернильницу. На пальце лишь пыль. Он смотрит на палец, потом на лист. Медленно, с невероятным усилием, он проводит пальцем по бумаге. Сначала одну линию… потом крест… потом начинает выводить буквы – кровью из пореза на иссохшем пальце или просто силой духа? Лист остается чистым, но Гермоген пишет, пишет… Его губы шепчут молитву и призыв. Тишина кельи наполняется незримым, страшным Словом.)
Гермоген: (Шепотом, но так, что, кажется, слышно за стенами) Восстаньте… за Веру… за Москву… Матерь-град… Не бойтесь… Смерть… лучше… рабства… Господи… прими дух мой… и даруй… победу… Руси…
(Он опускает голову на чистый лист. Свечи нет. Только слабый свет из щели падает на седую голову Патриарха-Мученика. Тишина. Но слово уже ушло.)
Эпилог (Голос за кадром): И слово его не умерло. Оно, как набат, прозвучало над Русью. Оно собрало ополчение Минина и Пожарского. Оно выгнало захватчиков из Кремля. И каждый русский царь, вступая под древние своды Чудова монастыря, слышал в тишине это шепот: «Восстаньте… Не бойтесь…". Память о трех тенях в его стенах – самозванца, свергнутого царя и непокорного патриарха – была вечным предостережением и напоминанием о цене власти и силе духа. До тех пор, пока камни Чудова стояли…
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ОБИТЕЛЬ
БЕЛЫЙ ПЛАЩ НАД КРОВАВЫМ ПОЛЕМ»
(Сказание о монастыре, где хоронили святых и рождали призраков)
Пролог: Камни и Платки
Вознесенский монастырь в Кремле – не просто молельня. Это женская крепость духа и лжи. Его белокаменные стены помнят:
Тихие шаги Евдокии-Евфросинии, святой основательницы, чья молитва была щитом Москвы. Горький шепот Марии Нагой, царицы-матери, продавшей правду за призрак сына. Чуждый смех Марины Мнишек, невесты-авантюристки, чья польская речь резала слух иконам. Твердый взгляд инокини Марфы, матери первого Романова, прятавшей власть под монашеским куколем.
Тень Первая: Призрак Царевича (1605 г. Трапезная палата)
Стол ломится от яств. Поляки в шелках. Бояре – с лицами застывшими. В центре – царица-инокиня Мария Нагая (в миру – мать убитого Дмитрия). Рядом – Лжедмитрий I, улыбающийся как кот у кринки сметаны.
Лжедмитрий: (Громко, целуя руку Марии) Матушка! Благослови сына! Видишь – Бог спас меня от рук убийц Борисовых! Я – Димитрий! Твой кровинушка!
Тишина. Все смотрят на Марию. Ее лицо – маска скорби и страха. Она видит польские сабли за спиной «сына». Чувствует ненависть Шуйских. Помнит Углич… кровь…
Мария Нагая: (Голос прерывается, она ищет глазами поддержки у иконы Спаса – не находит) Сын… мой… (Пауза. Она закрывает глаза, будто падая в бездну) Димитрий… Чадо мое… Чудом спасенное! (Обнимает самозванца, но тело ее деревянное) Господи… благодарю… за чудо.
Бояре ахают. Поляки ликуют. Лжедмитрий сияет. А в углу, тенью, стоит боярин Василий Шуйский (будущий царь), его шепот шипит как змея:
Шуйский: (Соседу) Видал, как мать родную правде изменила? За страх или надежду? Теперь он – «законный». А монастырь сей… (смотрит на гробницы княгинь) осквернен ложью у самых мощей Евфросинии. Горе дому сему!
Тень Вторая: Невеста Змеиная (1606 г. Келья для знатной гостьи)
Келья убрана по-польски богато: ковры, серебряный кубок. Марина Мнишек глядит в зеркальце, примеряя русский жемчужный кокошник поверх польских кудрей. Рядом – панна-служанка.
Марина: (Смеясь) Смотри, Ядвига! Как я похожа на московитскую княжну? Завтра венчание! Я – Царица Всея Руси! А этот… Дмитрий… (брезгливо сморщивает нос) Он воняет луком и хвастается, как лакей. Но трон… трон в Успенском соборе… он пахнет властью!
Ядвига: (Осторожно) Панна… а говорят, он… не настоящий. Что бояре шепчутся. Что народ ропщет…
Марина: (Резко оборачивается, глаза сверкают) Настоящий?! Что есть «настоящий»? Сила – вот что настоящее! Сабли отца, золото Сигизмунда… и моя корона! Пусть он – кукла. Я буду править! (Берет кубок) За Москву! За корону! И за то, чтобы эти дикие монахини перестали креститься, глядя на меня, как на исчадие!
Она отпивает. За окном слышен гул толпы – тревожный, злой. Колокола бьют неровно.
Ядвига: (Пугаясь) Панна… это не праздничный гул. Это… бунт?
Марина: (Холодно) Пусть бунтуют. У моего «мужа» есть стрельцы. А у меня… (гладит рукоять дорогого кинжала) … есть это. Вознесенский монастырь – моя крепость. Пока. Завтра мы войдем в Кремль царицей. Или… (внезапно срывается в шепот) …или эти стены станут нашей последней защитой. Или могилой.
Где-то близко крик: «Измена! Ляхов бей!» Звон разбитого стекла.
Тень Третья: Мать Государева (1613 г. Тихая келья у усыпальницы)
Простота. Чистота. Икона Казанской Божией Матери. Инокиня Марфа (Ксения Романова) неспешно плетет четки. Перед ней – юный Михаил Романов, новый царь. Он бледен, глаза испуганны.
Михаил: Матушка-инокиня… Земский Собор… избрал… Меня. Царем. Я… не готов. Страшно. Руина кругом. Казна пуста. Воры сильны…
Марфа: (Спокойно, без тени удивления) Господь не готовых не избирает, сын мой. Он дает крест по силам. (Кладет руку на его голову) Твой дед, Никита Романович, служил Грозному верой. Твой отец… (голос дрогнул на миг) … Филарет, в польском плену, молитвой держит Русь. Ты – кровь их. И кровь святой Евфросинии, чьи мощи здесь, под спудом. Она Москву от Тамерлана молитвой спасла. Ты спасешь – делом.
Михаил: Но как, матушка? Бояре – как голодные волки… Казаки своевольны… Шведы у Новгорода…
Марфа: (Твердо) Волков – кормить осторожно, но показывать кнут. Казаков – усмирять милостью да землей. Шведов – гнать молитвой и мечом ополченца Минина. (Берет его за подбородок, поднимая лицо) Слушай, Михаил: монастырь сей видел ложь Марии Нагой, безумие Марины. Видел, как падали венцы. Ты – не самозванец. Ты – избранник земли. И я, инокиня Марфа, буду здесь, у мощей, твоим щитом молитвенным. А Филарет… (глаза ее загораются) …Филарет вернется. Патриархом. Он будет твоей десницей.
Михаил: (С надеждой) Ты… благословляешь, матушка? Принять венец?
Марфа: (Встает, ее тень падает на лик Богородицы) Не благословляю. Повелеваю. Служение – не выбор. Долг. Иди. Коронуйся. А я… (смотрит в окно, на купола Чудова монастыря) …я останусь здесь. Белым камнем. Молитвой. Памятью. Чтобы Смута не вернулась. Чтобы призраки Чудова не перешли эти стены.
Эпилог: Белый Камень Поверженный (И Вечная Память)
Монастырь разрушили в 1929-м. Но:
Археологи, вскрывая склепы, нашли парчу цариц – истерзанную временем, но не тленом. Как их души. Тени все еще бродят в музее: Мария Нагая плачет у пустого саркофага – где ей положить свою непрощенную ложь?
Марина Мнишек смеется над витриной с черепком – где ее корона? Где кинжал?
Марфа незримо стоит у списка Романовых – строгая, неулыбчивая, настоящая властительница затвора.
Купола (теперь лишь на старых гравюрах) простираются над Кремлем: Один – осеняет Евфросинию. Другой – пронзен стрелой Марининой гордыни. Третий – держит молитву Марфы, как щит.
Вознесенский монастырь не воскреснет из камня. Но он жив:
– Смотрите, царицы: святость – тиха. Ложь – громка, но коротка. А власть… истинная власть – часто в тени, под белым платком инокини, чья молитва крепче трона. И крепче топора, ломающего стены.
Конец. Аминь?
Нет. Пока стоит Архангельский собор (где лежат цари) напротив места Вознесенской обители (где лежали царицы) – диалог Власти и Веры продолжается. А белый камень в основании Кремля помнит всё: и слезы святой Евфросинии, и жемчуг Марины Мнишек, и суровые четки Марфы Романовой.
ПОКРОВСКИЙ СОБОР: ДЕВЯТЬ ПЛАМЕН НАД ПОЛЕМ КАЗАНСКИМ
(Сказание о храме, что родился из победы и слез)
Пролог: Каменная Молитва
У самой Москвы-реки, где Набатная башня вскинула каменный язык, чтобы кричать о беде – стоит чудо. Не храм – восемь церквей, сплетенных в девятиглавый сон. Каждая глава – иной: то чешуей драконьей, то кокошником девичьим, то пламенем застывшим. Это Покровский собор. Или – храм Василия Блаженного. Его краски кричат о Казанской победе Ивана Грозного. Его стены шепчут кровавые тайны. А его спасение – окутано дождем и молитвой.
Акт Первый: Рождение из Грозы (1555—1561 гг. Леса да помосты)
Дым пожарищ Казани еще стелется над Русью. На рву у Кремля – невиданное: два зодчих, Барма да Постник Яковлев (имена спорны, как тень), творят невиданное. Рисуют в воздухе узлами веревок, режут камень, будто масло.
Иван Грозный: (Приехав на стройку, озирает чертежи, выбитые на влажной глине. Глаза горят) Выше! Пестрее! Чтоб каждый камень пел славу моему войску! Чтоб татарин, глядя, зубы грыз от зависти! Чтоб небо здесь… (ударяет посохом о землю) …сходилось с землею в молитве!
Барма: (Кланяясь, но с достоинством) Будет, государь! Восемь престолов – восьми победам твоим у стен Казани! А девятую главу – Покрову над Русью! Камень заговорит красками. Играть будет, как самоцвет на солнце!
Постник: (Тихо, только Барме) Играть-то будет… да выдержит ли? Такая высь… такая вязь… Грозный государь… не простит ошибки.
Барма: (Сжав руку Постника) Молчи. Сотворим чудо. Или… головы сложим. Иного не дано.
Прошли годы. Собор взметнулся. Народ ахал. Иноземцы крестились. Царь ликовал. Но в главе его – червь подозрения.
Иван Грозный: (На освящении, глядя в восторженные лица зодчих) Барма! Постник! Подойдите! Ваши руки… золотые. Ваши очи… зоркие. Сотворили красоту небесную… а ну как такую ж… да для султана турецкого? Или для короля польского? Чтоб Москва посмеянием покрылась? Хм?
Тишина. Зодчие бледнеют.
Чтобы Покровский собор – был един и неповторим! Камни вскричали тогда немым воплем.
Акт Второй: Призраки Смуты (Начало XVII века. Тени у стен)
Собор видел:
Лжедмитрий I, въезжающий в Кремль под ликование, уже боялся косых взглядов его пёстрых глав – будто они видели его ложь. Марина Мнишек, шествующая на венчание в Успенский собор, засмеялась, указав на храм: «Как весело! Точно пряничный домик для великана! Москва – дикарям не понять красоты!» Но в смехе ее слышался страх. Польские паны, пьяные после грабежа, пытались сорвать драгоценные оклады с икон в нижних церквях, но темнели лики святых, и кони панов шарахались у самых стен, будто натыкаясь на невидимую стену. Ополченцы Минина и Пожарского, идя на штурм Китай-города, молились у его стен – у Покрова, что защитит их от вражеской стали. И пёстрые главы сияли им в предрассветной тьме, как знамение победы.
Голос Собора (Шелест ветра в кокошниках): Видел я царей-самозванцев и цариц-иноземок. Видел кровь на мостовой. Видел страх и надежду. Но стоял. Ибо заложен на крови праведной – казанской. И на слезах… может быть, зодчих. А праведная кровь и невинные слезы – крепче любого камня.
Акт Третий: Наполеоново Бессилие (1812 г. Октябрь. Моросит дождь)
Французские саперы суетятся у подножия. Подтаскивают бочки с порохом. Наполеон стоит поодаль, закутавшись в серую шинель. Глаза его – смесь восхищения и ярости.
Наполеон: (Обращаясь к маршалу) Voyez-vous, c’est une folie de pierre et de couleurs! Une symphonie architecturale! (Видите ли, это безумие из камня и красок! Архитектурная симфония!) Такого нет в Париже! Такого нет в мире! Его надо… увезти!
Маршал: (Растерянно) Mon Empereur… Но как? Разобрать? Каждый камень – часть узора… Это невозможно! Только взорвать…
Наполеон: (Резко) Alors, faites sauter! (Тогда взорвите!) Если не может быть моим… не будет ничьим! Пусть прахом будет этот… этот кошмар варварской фантазии! Дабы не смеялся над классической строгостью Лувра!
Саперы закладывают заряды. Растягивают фитили. Наполеон отъезжает, в последний раз оглядываясь на пёстрое чудо. Вдруг – с неба хлещет ливень. Не дождь – потоп!
Французский Сапер: (Проклиная, пытается прикрыть фитиль плащом) Sacrebleu! Фитиль мокнет! Порох отсыреет! C’est impossible! (Черт возьми! Это невозможно!)
Старая Москвичка: (Стоя на коленях в грязи у стен храма, молится, не обращая внимания на солдат) Господи, Царице Небесная! Покровом Своим защити Дом Твой! Не дай осквернить святыню! Пошли ливень! Погаси злодейский огонь!
Голос из Толпы (Легенда): И услышала молитву Богородица! Ни один фитиль не занялся! Ни один заряд не рванул! Промокший порох лишь горько пах сыростью. Собор стоял, омытый дождем, как слезами облегчения. Его краски в промозглом тумане горели еще ярче – вызовом императору.
Наполеон: (В ярости, глядя на бессильных саперов) La superstition… et la pluie russe! Maudit soit ce pays! (Суеверие… и русский дождь! Проклята эта страна!) Уходим! Пусть стоит их уродливый храм! Он – как их душа: непонятная, упрямая, не поддающаяся разуму!
Эпилог: Вечный Пёстрый Страж
Прошли века.
Имена зодчих стерлись – то ли Барма с Постником, то ли один Постник Яковлев, то ли вовсе неведомый гений. Но разве камням нужны документы? Они помнят страх и боль. Чудо с дождем не подтверждено рапортами саперов. Но каждый ливень у Покрова – москвичи шепчут: «Смотри, Василий Блаженный плачет… и снова спасает себя». Сам собор – пережил пожары, реставрации, советские гонения. Стал символом России – такой же яркой, сложной, неукротимой и чудесно непредсказуемой.
Голос Камней (Сквозь шум туристов и звон колоколов): «Я – Память. Память о громе пушек под Казанью. Память о слезах, быть может, пролитых творцами. Память о страхе Наполеона перед тем, что он не мог понять. Я – не совершенство. Я – буйство. Я – дерзость. Я – молитва в камне. Я стою у Набатной башни. Пусть башня кричит о беде. Я же буду кричать о вечности. Пёстрым, как душа этой земли, пламенем, что не погасить ни дождям, ни войнам, ни времени.»
Митрофан Воронежский: Святой, Корабел и Упрямец
Жил да был в селе Антилохово (ныне Ивановская область) паренек Михаил. Родился в 1623 году, в семье священника. Жизнь шла своим чередом: женился, сына родил, служил где-то на приходе. Но в 40 лет судьба круто развернулась: Михаил овдовел. Горе-горем, да и подумал он: «А не пора ли душе о Боге подумать всерьез?» И шагнул Михаил в монахи, став Митрофаном в тихой Золотниковской пустыни.
От Игумена до Владыки: Трудный Путь на Юг
Строгий Настоятель: Молва о его благочестии и хозяйственной хватке разлетелась быстро. То в Яхромском монастыре игуменом поставили – храм новый выстроил! То в славный Унженский Троицкий монастырь (любимец царей!) перевели – опять храм каменный возвел, да с колокольней! Человек он был деловой: и патриаршие поручения исполнял (книги проверял, церкви инспектировал), и десятиной (целым церковным округом!) управлял. Не монах-затворник, а управленец от Бога!
Вызов Принят: В 1682 году – новый поворот. Только что учреждена Воронежская епархия. Край дикий, окраинный! Народ вольный, «по своей воле» живущий. Старообрядцы прячутся. Храмов мало, священники неграмотные. Кому такое «счастье» достанется? Выбор пал на опытного Митрофана. Прибыл он в Воронеж в конце лета 1682 года – и ахнул. Задачи – горы!
Воронежский Архитектор Душ и Храмов
Хозяин: Первым делом Митрофан – хозяйственник. Границы епархии очертил. Вместо обветшалого Благовещенского собора заложил новый, каменный, пятиглавый красавец (самое большое здание в городе тогда!). Храмов стало почти 250 – в два раза больше! Монастыри основал, в других порядок навел. Деньги епархии считал пуще своих (хотя своих-то у него и не было!). Пастырь: Но главное – души. Боролся с невежеством и расколом. Проповедовал просто и ясно. Школы в селах открывал (учителями часто были малороссы – грамотные!). Священников защищал от притеслений мирян, но и сам с них строго спрашивал. Дом его был открыт для всех: «странникам гостиница, болящим врачебница, убогим место упокоения». Настоящий отец своей огромной, неспокойной паствы.
Митрофан и Пётр: Дружба-Вражда у Верфи
Союзник Корабелов: А тут еще молодой царь Пётр I в Воронеже флот строит! Для Азова! Святитель Митрофан – первый помощник. Проповеди в поддержку говорит. Казну епархийную щедро на корабли жертвует (огромные суммы!). Ходатайствует, чтобы монастырские повинности уменьшили – и Петр, уважая владыку, идет навстречу! Казалось бы, идиллия. Бунт на Коленях: Но однажды… Петр зовет Митрофана во дворец. Владыка приходит – и видит во дворе… статуи античных богов! Украшение по царской воле. Митрофан разворачивается – и домой! Посланцы царя: «Иди!». Владыка: «Пока идолы стоят – не войду!». Царь в ярости: «Не придешь – казнить велю!». И слышит в ответ: «Жизнью твоей властен, государь. Но негоже православному царю языческих кумиров ставить да народ соблазнять!». Тишина. Гроза… А потом – Петр статуи убрать велит. Митрофан приходит благодарить, но в завещании своем позже строго-настрого накажет: Берегитесь чужеземного влияния! Удивительный союз: царь-реформатор и консервативный епископ, уважавшие друг друга за принципиальность и честность.
Уход Святого Старца и Вечная Память
Последние Дни: В августе 1703 года 80-летний владыка слег. Перед смертью принял схиму с именем Макарий (в память об Унженском монастыре). «А келейных денег у меня нет… не имам в келии своей ни злата, ни сребра», – написал он в завещании. Умер 23 ноября 1703 года. Царские Почести: Петр, узнав, спешно примчался в Воронеж. Отстоял панихиду. А потом сказал потрясенной толпе: «Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности… Итак вынесем его тело сами!» И царь-исполин сам понес гроб простого монаха-епископа. У опущенной могилы в Благовещенском соборе вздохнул: «Не осталось у меня такого святого старца». Святость и Память: Люди не забыли своего владыку. Чудеса у гроба множились. В 1832 году Церковь торжественно причислила его к лику святых. Мощи его (хоть и не «нетленные» в буквальном смысле, но глубоко почитаемые) стали центром паломничества. Пережили и вскрытие 1919 года, и скитания по музеям, и теперь покоятся в возрожденном Благовещенском соборе Воронежа. Он Везде: Именем Митрофана Воронежского названы: Храмы и монастыри (от Воронежа до Петрозаводска и Самары!). Памятники (в Воронеже, Самаре, а в 2024 году открыли совместный памятник Митрофану и Петру I на Адмиралтейской площади Воронежа!). Гимназии (Воронежская православная гимназия). Музей («Святые покровители Воронежа», 2024).
Чем же так поражает Митрофан Воронежский?
Сила Духа: Не испугался ни дикого края, ни гнева самого царя. Любовь к Людям: Открытый дом, забота о сирых и убогих, борьба за образование. Хозяйственная Мудрость: Превратил захолустную епархию в процветающую. Верность Принципам: Даже перед угрозой смерти не пошел против совести. Уникальные Отношения с Властью: Умел и помогать государю в великом деле (флот!), и резко осудить то, что считал грехом (идолы!), заслужив при этом не страх, а глубокое уважение.
Он был настоящим патриотом и земли Воронежской, и Веры Православной. И память о нем, как и его мощи, прошла сквозь века, войны и безверие, чтобы напоминать нам о силе духа, вере и любви к людям. Вот такой был святитель – и корабли строил, и с царями спорил, и святым стал!
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: ЛЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
(Сказание о старце, который носил рай в кармане)
Пролог: Тайна Соснового Бора
Глухие леса за Саровской обителью. XIX век на дворе – век пара и прогресса, а здесь время течет, как смола по коре вековой сосны. Здесь поселился дух, не знающий суеты. Подвижник, чьи слова были тише шелеста хвои, но достигали сердец громче царских манифестов. Имя его – Серафим («Пламенный»). Но пламя его – не пожар, а тихий свет неугасимой лампады.
Акт I: Подвиг Молчальника (Годы затвора. Келья-пещера)
Маленькая избушка в лесной чащобе. На пне – черный хлеб да вода в горшке. У двери – топор с зарубками (память о разбойниках, что изувечили его, но были им же прощены). В углу – гробовой камень вместо кровати. Серафим не говорит ни с кем. Лишь на дощечке пишет: «Молюсь».
Разбойник: (Врываясь с топором, тогда еще юному иноку Прохору – так звали Серафима в миру) Где деньги, чернец?!
Серафим: (Складывая руки на груди, без страха) Возьми. У меня только крест. (Он чудом выжил после побоев, но навсегда сгорбился. Разбойники, видя его кротость, пришли каяться. Он простил: «Бог простит». )
Братия обители: Отче! Зачем затвор? Мир нуждается в твоих речах!
Серафим: (Пишет на дощечке) «Слова – как листья. Шумят, но корня не дают. Молчание – корень молитвы. Сначала – стяжи дух мирен, потом – других наставляй».
1000 дней и 1000 ночей он молится на гранитном валуне в чаще: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Зимой – в снегу по пояс. Летом – под ливнем. Камень стал теплым от слез…
Акт II: «Радость Моя!» (Открытая келья. Толпы народа)
Через 15 лет затвора он выходит. Не как строгий аскет – как ласковый дедушка. В старом белом балахончике («Сирый Серафим»), с котомкой сухарей за плечами. Встречает всех:
Купец: Батюшка, дела горят! Убытки!
Серафим: (Кладет ему в руку сухарик) «Радость моя! Не тужи! Торгуй честно – Господь управит. А убытки? Это Ангел твой-хранитель крылом отмахивает беду худшую!»
Крестьянка: Дочка болеет, помри!
Серафим: (Целует ей лоб) «Христос Воскресе, матушка!» (И дитя выздоравливает). Скептик-интеллигент: Есть ли Бог, отче?
Серафим: (Берет за руку, ведет в лес. Указывает на муравейник, на сосну, уходящую в небо, на пчелу над цветком) «Вот тебе и три ответа, батенька. Вера, Надежда, Любовь. А большего и не надо».
Его «лесное богословие»:
Про медведицу: К нему ходила дикая медведица. Он кормил ее хлебом: «И зверье чувствует любовь. Не бойся тварей – бойся зла в себе». Про деньги: «Стяжал рубль – потерял покой. Стяжал дух мирен – обрел Царство Небесное». Про скорби: «Велик Господь! И тернии – цветы Его. Спасись сам – и вокруг спасутся тысяча».
Акт III: Преображение в Свете (Беседа с Мотовиловым. 1831 г.)
Зима. Лесная поляна. Николай Мотовилов (дворянин) сидит на пне. Серафим стоит перед ним – и вдруг озаряется светом, ярче солнца. Воздух теплеет, снег тает, запах весны…
Мотовилов: (В ужасе и восторге) Отче! Что это?!
Серафим: (Лик сияет) «То благодать Святого Духа, радость моя! Цель жизни христианской – в стяжании Духа Божия. Пост, молитва, милостыня – лишь средства. А вот Он – сам Свет Пасхи, в сердце живущий!»
Мотовилов: Как же стяжать Его, отче?
Серафим: «Люби. Молись без числа. Прощай сразу. Воскресай в радость каждое утро: „Христос Воскресе!“ – вот и вся наука».
Этот разговор – духовное завещание Серафима всей Руси.
Эпилог: Уход в Вечность (1833 г. Келья у иконы «Умиление»)
2 января. Он стоит на коленях перед иконой Божией Матери «Умиление» (которую называл «Радость всех радостей»). В руках – свеча. Лик спокоен. Умер в молитве, как жил. Нашли его с улыбкой. В кармане – сухарики для птиц да Евангелие.
Посмертное Чудо:
Его мощи обрели нетленными в 1903 г. при Николае II. Дивеево – основанный им женский монастырь – стал «земным уделом Богородицы». Слова его, записанные простыми людьми, лечат души вернее лекарств: «Спасись сам!»
«Христос Воскресе!»
«Радость моя!»
Голос из Сарова (Шёпот ветра в соснах): «Не ищите меня в мощах. Ищите – в тишине утренней молитвы. В терпении малой немощи (как мой горб). В щедрости последнего сухарика. В умении сказать «Христос Воскресе!» даже сквозь слезы. Я не уходил. Я сменил келью на сердца верных. Пока вы любите – я здесь. Пока прощаете – я говорю: «Радость моя!»
Аминь. И вечная радость. Каждому, кто, стоя у его иконы с медведем, вспомнит: святость – не в чудесах. Она – в простом умении видеть Христа в каждом встречном. Даже если этот встречный – разбойник… или медведица.
Малые Семьи в Большой Тюрьме
Как тайные монахини шили небо в подполье, а бухгалтер Зосима вёл счёт вечности
I. ЗНАМЕНСКИЙ СКИТ
(Москва, 1947 год)
Матушка Евпраксия (разворачивая икону из обёрточной бумаги): – Тише, Ксеньюшка! Соседи за стеной – как чекисты на исповеди. Монахиня Ксения (прислушиваясь к шагам на лестнице):
– Это не соседи… Это отец Никита с картошкой. Говорит, «мирская десятина» – лучшая маскировка.
В крохотной комнатке пахло воском и щами. На столе вместо лампадки – коптилка из гильзы. Архимандрит Никита, бывший зек Колымы, ставил мешок:
– Принято считать: монах бежит от мира. А мы… – он вынул просфору из-под вороха картофелин, – мир превращаем в келью без стен.
Евпраксия (крестясь на образ):
– Батюшка Игнатий завещал: «Молитва в утробе Левиафана – самый сладкий фимиам». За окном завыла сирена «скорой». Ксения вздрогнула:
– Опять кого-то…
Никита (разрезая просфору):
– Не «кого-то». Брата нашего во Христе. Молитесь.
II. БУХГАЛТЕР ЗОСИМА
(1953 год, контора «Главмука»)
Архимандрит Зосима в миру – Иван Петрович Нилов, главный экономист. На столе:
– Счёты – для муки, – Чётки – для души.
Секретарша Мария (заглядывая в кабинет): – Иван Петрович, вас в партком… Опять за «занижение плановых показателей». Зосима (поправляя пиджак поверх подрясника): – Скажи: «Осилим, как всегда».
В парткоме ему тыкали пальцем в отчёты:
– Нилов! Вы что, верите в «чудо-урожай»?
Зосима (тихо):
– Верю в чудо. Без кавычек. Вечером в подвале того же здания, где хранилась мука, он служил литургию на картонном «престоле». Монахиня-швея Анастасия шептала:
– Батюшка, как вы цифры с молитвой совмещаете?
Зосима (разливая вино из аптечного пузырька):
– А ты как иголку с молитвой совмещаешь?
III. ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТ (1978 год, квартира протоиерея Бориса)
Матушка Игнатия (разворачивая письмо 1935 года): – Отец Пафнутий… батюшка Игнатий писал: «Небесная семья не знает тюремных решёток». Мы дожили!
Иеромонах Пафнутий (бывший иподиакон, теперь – старик с тростью):
– Дожили. Но Знаменский скит… после Евпраксии и Ксении – опустел. Он подошёл к окну. Внизу гудел проспект Калинина.
Игнатия (подавая ему чётки):
– Что теперь делать?
Пафнутий (глядя на новостройки):
– То же, что и они. – Кивнул на стройку. – Класть кирпичи. Только не домов… Царствия Небесного.
Он достал из шкафа деревянную чашу – последний дар зосимовских старцев:
– Возьми. В ней – хлеб с картошкой Никиты, слёзы швей Анастасии, отчеты Зосимы. Наша Евхаристия.
ЭПИЛОГ: высокоПЕТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Наши дни)
Молодой послушник (разбирая архив): – Отче, а правда, что матушка Игнатия работала… ночным сторожем?
Игумен (показывая на выставку: пиджак Зосимы, ножницы швеи, чашу):
– Не сторожила. Она хранила время. Когда небо прятали в подполье. Он открыл дневник Игнатии на странице с засохшей картофельной кожурой:
«10.02.1959. Сегодня Зосима сказал: – Наш монастырь – не стены. Это – очередь в булочной, где каждая крошка хлеба становится частицей Тела Христова. Я спросила:
– Осилим?»
Он улыбнулся:
– Уже осилили
Послушник (трогая кожуру):
– И что… это и есть духовная радость?
Игумен (зажигая лампаду):
– Нет. Духовная радость – это когда читаешь их историю и понимаешь: твоя очередь в банке или метро – продолжение их литургии.
Как керосин Анны Беловой стал елеем помазания для монахини Иеремии
I. ЛАВКА АННЫ (Ванчур, 1905)
Анна Белова разливала керосин по жестяным бидонам. За прилавком – икона Николы Угодника с отбитым углом. Пахло керосином и сухими травами – собирала, знахаркой слыла.
– Мама, что это? – трёхлетняя Женя тыкала пальцем в бутыль с мутной жидкостью. – Слезы земли, дочка. – Анна капнула ей на ладонь. – Запомни: из грязи родятся звёзды. Керосин горел в лампах Свято-Никольской церкви, когда Женю крестили. Священник шёпотом: – *Род Беловых – корни берёз на кладбище. Крепкие. А по-нашему – семя выживших.*
II. ФАРТУК ПОЛНЫЙ ЗЕМЛИ (1921)
Евгения Лукашёва (по мужу), Матвеева (по отцу), Белова (по крови) копала могилу. Седьмую. Голодомор скрутил дитя в тряпичный узелок. Священник Стефан, тайком пробираясь через огороды, сунул ей мешочек с просфорой: – Женя, твоя мать… Анна… перед смертью завещала: «Не дай лампадке погаснуть». Евгения (сыпля мерзлую глину на грудь ребёнка): – Какая лампадка? У меня сердце – как пустой фитиль. – *А керосин – слёзы, – старик тронул её фартук. – Твои предки по материнской нити… они ледниковый период пережили. Выживешь и ты. Ночью она зажгла последнюю каплю керосина перед иконой. Пламя лизало лик Богородицы, а в окне маячили дочери. Две ниточки жизни на древнем генофонде.
III. ПОСТРИГ НА КАРТОШКЕ (1962)
Сарай. Запах мышей и проросших клубней. Отец Григорий дрожал:
– Чадо, мирское имя? – Евгения Алексеевна Лукашёва-Матвеева-Белова. – А в ангельском чине? – Иеремия… Плачущая. Ножницы щёлкнули. Седым волосам на картофельных ростках – быть удобрением. Иеремия (прижимая деревянный крест матери Анны
Утром дочери нашли записку в пустой керосинке: «Молитесь за схимонахиню Иеремию. Я теперь – живая лампада. А вы – моё масло»
ЭПИЛОГ: НИТЬ (Берёзово, 2023)
Правнучка-генетик показывает гистограмму на ноутбуке: – Видишь? Это наша мутация. Наша ветвь U4a2a2 прошла через голод и войны…
Внучка Марии, старушка-учительница, достаёт льняной платок: – *А это – мутация души. – Она разворачивает горсть земли с волосами. На столе – керосиновая лампа Анны Беловой. Учительница чиркает спичкой: – Наука скажет: у вас общие митохондрии. А я знаю: у нас общий огонь. *«Евгения-Иеремия – это: – керосин материнской лавки, – слёзы голодомора, – картошка Великого поста, сплетённые в ДНК-U4a2a2. Её монашество доказало: святость – не побег от рода, а погружение в его корни
до самой сердцевины земли»*
Керосин Анны – горючее для лампад Свято-Никольской церкви. 7 детских могил – холмики у речушки Березовки, поросшие полынью. Картофельные ростки 1962 года – проросли сквозь её волосы в мешке. mtDNA U4a2a2 – гаплогруппа мезолитических охотников Рязанщины. Льняной платок – выткан из её платья, хранит соль слёз.
P.S. В 2004 году в Берёзово отрыли колодец «Иеремии». Воду освятили землёй с её могилы. Анализ показал: высокое содержание серебра. Учёные недоумевают. Старики говорят: «Это её слезы. Они теперь святой родник несут». Как керосин Анны Беловой стал елеем помазания для монахини Иеремии
P.S. В 2004 году в Берёзово отрыли колодец «Иеремии». Воду освятили землёй с её могилы. Анализ показал: высокое содержание серебра. Учёные недоумевают. Старики говорят: «Это её слезы. Они теперь святой родник несут».
Лампадка Иеремии
Как керосиновая лавка стала скитом, а материнские слёзы – монашескими четками
I. ГОЛОДНЫЕ ВОРОТА (Берёзово, 1921 год)
Евгения хоронила третьего ребёнка. Могилка – размером с веник. Священник Свято-Никольской церкви, тайком пришедший ночью, шептал: – Женя, не плачь громко. Уполномоченный в селе…
Она сжала вышитый крестик – последний от матери Анны, что держала лавку у храма. В лавке пахло керосином и надеждой: – Батюшка, скажи… Господь детей забирает потому, что я грешница?
Священник набрал горсть мерзлой земли, насыпал ей в фартук: – Это – семена. Другие выживут. Ты их вымолишь.
В подполе Евгения зажгла лампадку перед тайной иконой – даром матери. Керосин горел синим пламенем, как глаза умершего сына.
II. ПОСЛУШАНИЕ: УЧИТЕЛЬНИЦЫ (1947 год)
Дочери вернулись из Рязани с дипломами. Мария разложила тетради на столе: – Мама, я буду учить ребят литературе!
Анна (доставая букварь): – А я – грамоте. Без Бога, конечно… как велели.
Евгения молча поставила перед ними чугунок с пареной репой. Потом провела пальцем по обожженной дверце печи – там были зарубки по числу похоронок: – *Учите. Только… – она открыла сундук, вынула две льняные рубахи, – носите под платьями. Мама ваша бабушка вышивала. На подоле – крохотные крестики. Вера прижала рубаху к лицу: – Как в церкви пахнет… – Это керосин, доченька. Наша семейная мирра.
III. ВЕЛИКАЯ СХИМА (1952 год, ночь перед Покровом)
Старый священник, отец Григорий, дрожал от холода в сарае. Евгения стояла на коленях на мешке с картошкой.
– Чадо, имя выбери… – Иеремия. – Мужское? – Пророк, что плакал о Иерусалиме. Я – о Берёзове.
Ножницы щёлкнули раз. Волосы упали на картофельные ростки. Отец Григорий (заворачивая крест в тряпицу):
– Принимаешь ангельский образ?
Евгения-Иеремия (глядя на луч луны в щель):
– Нет, батюшка. Материнский. Он тяжелее.
*Утром дочери нашли записку: «Молитесь за монахиню Иеремию». Мария заплакала: – Зачем она имя сменила?
Анна подошла к лавке, тронула засохшую керосинку: – Чтобы мы не забыли: она теперь молитва живая.
ЭПИЛОГ
Правнучка Юля (разворачивает ДНК-тест): – mtDNA U4a2a2… Смотри, это гаплогруппа древних славянок! Бабушка Женя-Иеремия несла историю на клеточном уровне!
Внучка Анны, седая учительница, достаёт льняную рубаху: – А это – её история души. Видишь?
Она высыпает на стол горсть волос – седых, спутанных с землёй. – Нашли в сарае… в мешке с картошкой, где её постригли. Это же мощи!
Катя подносит волосы к свету: – Как нить ДНК… только святая.
«Евгения-Иеремия из Берёзово доказала: – тайное монашество начинается не с мантии, а с материнского фартука, полного мерзлой земли; – святость – это не отсутствие слёз, а умение превращать их в лампадное масло для лампадки перед ликом Бога; – а ДНК – всего лишь карта, но маршрут к святости прокладывает душа.»
Детали-святыни:
Керосиновая лампа Анны Беловой – хранится в Свято-Никольской церкви как реликвия. Зарубки на печи – 7 отметин. 7 детских могил у реки. Льняные рубахи – дочери носили их под советской формой до пенсии. Картофельные ростки 1952 года – найдены засохшими в мешке с волосами. mtDNA U4a2a2 – гаплогруппа, характерная для женщин Рязанщины X века.
*P.S. В 2023 году в Берёзово поставили поклонный крест с надписью: «Монахине Иеремии (Лукашёвой) от внуков-учителей. Её последнее послушание: научить нас светить темноте». И каждый вечер в школьных окнах зажигают керосиновую лампу.
СОФРОНИЙ САХАРОВ: ЧЕЛОВЕК, ВЫШЕДШИЙ ИЗ БЕЗДНЫ К СВЕТУ
(Сказание о монахе, который сделал богословие воздухом для задыхающегося века)
Пролог: Век, Потерявший Бога
XX век. Мир разорван войнами, революциями, экзистенциальной пустотой. На Афонской горе, этом «корабе спасения», стоит человек, в глазах которого – вся скорбь современного человечества. Он не родился в рясе. Он пришел в монастырь с чемоданом боли и вопросов без ответов. Его имя в миру – Сергей Сахаров. В монашестве – Софроний. Его книги станут кислородными масками для душ XX и XXI веков.
Акт I: Путь в Бездну и Обратно (До Афона)
*Париж, 1920-е. Молодой художник Сергей Сахаров – успешен, талантлив… и безнадежно одинок. Его искусство – крик в пустоту:*
«Зачем жить, если смерть все поглотит? Зачем красота, если она тленна?»
(Он пишет автопортреты в духе экспрессионизма – искаженные лица, цвета гниющей плоти.)
Кризис: Однажды ночью в мастерской его настигает экзистенциальный ужас – физическое ощущение Абсолютного Ничто. «Я стоял на краю бездны… и понял: там – не тьма. Там – НИЧТО. И я сам – ничто». Этот опыт станет ключом ко всему его будущему богословию.
Прозрение: В отчаянии он кричит в пустоту: «Если Ты есть – явись!» – и… ощущает присутствие Бога Живого как бездонную Любовь. Это не ответы. Это – встреча. «Я не искал Бога. Он нашел меня на дне моего отчаяния». Он сжигает картины. Едет на Афон.
Акт II: Ученик Молчаливого Старца (Афон. Встреча с Силуаном)
В русском монастыре св. Пантелеимона он становится учеником старца Силуана – простого монаха-крестьянина с невероятным духовным опытом. Силуан редко говорит. Его молитва – как тихий атомный взрыв:
Софроний: «Отче, как стяжать смирение? Как победить гордость?»
Старец Силуан: (После долгого молчания) «Держи ум во аде… и не отчаивайся». Софроний: (Потрясен) «Как?!»
Силуан: «Познай бездну своего падения… но и бездну Божия милосердия. Бойся ада отступничества… но веруй, что Любовь Христа – глубже любой бездны».
Этот парадокс станет стержнем богословия Софрония:
Не беги от тьмы в себе – пройди через нее, освещая Христом. Аскетизм – не самоистязание, а путь к обостренному чувству Живого Бога. Молитва Иисусова – не механическое повторение, а встреча Личности с личностью.
После смерти Силуана (1938 г.) Софроний 15 лет пишет книгу о нем – «Старец Силуан». Это не биография. Это карта пути из современного ада к Богу.
Акт III: Откровение о Молитве (Книга «О Молитве»)
Софроний уезжает с Афона (больной, почти умирающий). Но его изгнание становится миссией на Запад. В основанном им монастыре св. Иоанна Предтечи в Англии он пишет главные книги:
*«О Молитве» – это не инструкция. Это – путеводитель по космосу души:
«Молитва – дыхание вечной жизни в тленном теле». «Бог не слушает слов. Он слышит крик сердца». «Современный человек задыхается без молитвы, даже не зная этого. Его астма духа – следствие не-встречи с Богом». «Слеза покаяния – важнее всех богословских степеней мира».
Революционность: Он говорит о молитве за весь мир (даже за врагов!) как о единственном спасении от глобальной катастрофы. «Молиться за Бин Ладена? Да! Ибо если он не покается – мир взорвется».
Акт IV: Видение Незримого («Видеть Бога как Он есть»)
Главный труд – «Видеть Бога как Он есть». Это не абстракция. Это отчет о личном опыте:
«Бог – не „высшее существо“. Он – Троица Любви. Вне времени. Вне причин. Он – Абсолютная Личность, жаждущая диалога с тобой».
О страдании: «Бог страдает вместе с тобой. Его Крест – вечное со-страдание миру». О свободе: «Бог мог создать роботов. Он создал свободных – даже ценой их бунта. Ибо Любовь без свободы – ложь». О конце мира: «Апокалипсис – не кара. Это рождение Нового Мира в муках, как рождается ребенок. Надо учиться светить во тьме – тогда и тьма станет светом».
Его Свет: Он пишет о Фаворском свете – нетварной Божественной энергии, которую может видеть каждый очищенный сердцем. «Это не галлюцинация. Это реальнее яблока в руке».
Эпилог: Наследие Огненного Старца
Умер в 1993 г. в английском монастыре. Но его слово живее многих живых:
Книги переведены на 30+ языков. Их читают: Православные монахи в Сибири
Католические богословы в Риме
Протестантские пасторы в Америке
Атеисты в депрессии в мегаполисах
Центральная мысль: «Познай свою бездну – и найдешь бездну Божией Любви. Не бойся тьмы в себе. Принеси ее Христу – и тьма засияет. Ты создан для Вечности. Живи так, словно уже видишь Его свет – и ты его увидишь». Пророчество: «XXI век будет веком или безумной святости, или безумного самоуничтожения. Спасти может только молитва, рожденная из бездны».
Голос из Вечности (Отзвук Афонского колокола): «Не ищи меня в книгах. Ищи – в молчании после прочитанной страницы. В вопросе, рожденном болью, который ты впервые осмелился задать Богу. В слезе раскаяния за равнодушие. В желании молиться за врага. Когда ты, стоя над бездной отчаяния, вспомнишь: „Держи ум во аде… и не отчаивайся“ – это я шепчу тебе с Афона. Когда полюбишь чужую боль как свою – это Силуан улыбнется через тебя. Мы живы. Пока ты веришь, что Любовь сильнее Ничто».
Аминь. И да увидит каждый Бога – как Он есть: Любовью без берегов.
«БЕЛЫЙ ПЛАТОК НА КРАЮ АДА: ПУТЬ СХИМОНАХИНИ АННЫ»
Село Срезнево, 1920-е. Матушка Анна стоит у киота чудотворной иконы «Споручница грешных». Лампада дрожит от её тихих слов: – Матерь Божия… как уберечь Тебя?
За окном уже слышны шаги ЧК. Её духовник, отец Филарет, крестит её в последний раз: – Храни икону… как сердце. Они возьмут нас – но не возьмут Её.
1930 год. Пересыльная тюрьма. – *Статья 58—10! Агитация!* – кричит следователь, швыряя в лицо бумаги. Матушка молчит. Руки её, стиснутые наручниками, мысленно гладят оклад иконы. Рядом рыдает иеромонах Сергий: – За что?! Мы же только молились!.. – Молитва – это контрреволюция! – хрипит конвоир.
Камчатка, лагпункт «Сопка». 1938 год. – Ещё пять тонн породы! Или паёк – на помойку! – бьёт прикладом надсмотрщик. Матушка, с лицом, почерневшим от мороза и голода, тащит вагонетку. Шепчет сквозь обмороженные губы: – Господи… сподоби выстоять…
Ночью в барак пробирается священник-заключённый. Исповедь – шёпотом под храп охранника. Вдруг он вздрагивает: – Тебя Господь сохранит! Выйдешь… встретишь девицу Марию… И умрёшь у неё на руках…
Она смотрит на него, как на ангела: – Смерть – радость… но как выжить? – Икона твоя… Она молится за тебя…
Срезнево, 1950 год. В Казанский храм, полуразрушенный, входит худая женщина в стёганой куртке. Монахини плачут: – Матушка! Да вы живы?!
Она подходит к «Споручнице грешных», касается ризы, как дитя матери: – Вернулась… как обещала. Восемь лет они живут здесь по уставу:
4:00 – Повечерие при коптилке
6:00 – Чтение Псалтири у иконы
День – Ремонт храма, огород
Вечер – Письмо лагерных воспоминаний (рукопись сожгут в 1961-м при обыске)
1963 год. Последние дни. Монахиня Мария (будущая Мариамна) моет ей лицо. Матушка вдруг улыбается: – Видишь? Царица Небесная… у окна стоит… Ждёт. – Не уходите! – рыдает Мария. – Ты же знаешь… обещано. Она умирает на её руках, глядя на икону. Лик Богородицы в луче заката кажется живым.
Эпилог: 2003 год. Мощи схимонахини Анны обретаются нетленными. Монахиня Мариамна кладёт у раки белый платок – тот самый, что ловил слёзы матушки в лагерях. – Теперь вы – Споручница наша… – шепчет она.
Тропарь: «Страждущую Русь слезами омывала еси, / лагерным ветром душу опаляющи, / но иконой „Споручницы“ сердце согревающи. / Преподобномученице Анно, / моли Христа Бога // спастися душам нашим».
P.S. Её лагерная телогрейка хранится в храме. На кармане – вышитый крест. «Это я иглой делала… по ночам», – говорила матушка. Такой крест не отнять.
два весла
Сцена: Река. Лодка. Монах (М) гребет. Пассажир (П) – любопытный тип.
П: (глядя на весла) О, интересно! «Трудись» – это понятно, без работы никуда. А вот «Молись»… (слегка скептически) Ну, серьезно? Разве без этого совсем никак? Я вот гвоздь вбил сегодня – не молился, и норм!
М: (молча, философски подняв бровь) Хм-м…
П: Ну правда! Молитвы, ритуалы… Может, это просто для атмосферы? Чисто психология? Как чай с мятой – приятно, но без него не помрешь!
М: (ни слова не говоря, аккуратненько кладет весло «Молись» на дно лодки. Берется за весло «Трудись» и начинает грести им что есть мочи. Изо всех сил).
Лодка: (послушно делает резкий вираж… и начинает упорно крутиться на месте, как собака, гоняющаяся за хвостом).
П: (хватаясь за борт, глаза по пять копеек) Эй! Что происходит?! Куда нас несет? Ты же гребёшь!
М: (продолжает усердно махать одним веслом, лодка кружит еще быстрее. Спокойно): Гребу. Тружусь. Очень усердно. Как ты и советовал. Без лишней… «атмосферы».
П: (укачивает, голос дрожит) Да я вижу, что трудишься! Но мы же… мы же как белка в колесе! Только мокрые! Или как тот утюг в рекламе… который по кругу! Останови! Или дай второе весло! Срочно!
М: (останавливается, медленно поднимает со дна лодки весло «Молись». Смотрит на П):
– Ага. «Атмосфера», говоришь? «Психология»? (берется за оба весла, лодка сразу выравнивается и плывет вперед).
П: (вытирает лоб, смотрит на вёсла, потом на монаха, потом снова на вёсла. Молчит. Потом тихо): …Ладно. Допустим, чай с мятой… иногда очень даже к месту. Особенно когда кружит. Сильно кружит.
М: (легко гребет обоими веслами, на лице – едва уловимая улыбка): Гм-м. Допустим.
(Лодка плывет дальше. П пассажир задумчиво смотрит то на одно весло, то на другое. Молчание. Только всплески вёсел – «Молись» и «Трудись», «Молись» и «Трудись»…)
Байка про Солянку
Марфа Потаповна (размахивая зонтиком-тростью у Варварских ворот):
– Ну, птенчики, ступайте за мной, да не зевайте! Вот она, бабушка Солянка – не суп, а улица-загадка! Видите стену Китайгородскую? Кирпичик к кирпичику, как деды наши соль в амбары таскали! Тут, голубчики, не только селедку солили – тут тайны, как селедки в бочке!»
Петька (зевая):
– Та-а-ак, Марфа Потаповна. Соль, стена… Ну и что? Вон, Макдональдс светит. Чем меня удивите-то?»
Любаша (тыча пальцем в громадину Доходного дома «Россия»):
– Ой, смотри, Петь, грифоны! Как в кино! А правда, что они ночью летают и купеческое золото стерегут?»
Марфа Потаповна (подмигивая):
– Правда, милушка, чистейшая! Да не просто стерегут – заряжаются! Чем? Да солью, разумеется! Скажу тебе по секрету: кто грифону на хвост щепотку соли бросит – тому он в полночь золотой червонец принесет! Только вот… (понижает голос) соседний кот Васька, рыжий пройдоха, все щепотки слизывает. Обжора!»
Петька (фыркая):
– Червонец… Васька… Сказки! Вот если б тайную комнату показали, или ход подземный! Вот это да!»
Марфа Потаповна (загадочно улыбаясь у Палат бояр Романовых): -Ах, Петруша, язык-то твой – враг твой! Коли про тайны заикнулся – держись! Видишь палаты белокаменные? Тут не только бояре кашу с солью хлебали. Тут Монах Белый бродит – призрак! Слышишь, как скрипит?
Из распахнутого окна ветер доносит жалобный скрип.
Любаша (цепляясь за Петьку):
– Ой-ой-ой! А он чего хочет?»
Марфа Потаповна (важно):
– Соли хочет, родимая! Да не простой, а заговоренной! По старому рецепту – с тмином да с молитвой. Говорят, в Смуту его поляки без соли в щи пустили, вот он и тоскует. Кинь щепотку в окошко – и услышишь шепот:
– Спасибо, душечка…
– А теперь в «Подвал» спускайся, там главное чудо!
Петька (заинтересованно):
– В ресторан? Ну, это я понимаю! Борща хочу! С солониной!»
Спускаются в ресторан «В подвале». Там темно, своды кирпичные, пахнет душистыми травами и мясом. К ним подкатывает улыбчивый монах, брат Ефрем, с подносом, полным хинкали.
Брат Ефрем (весело):
– Милости просим, путники! Хинкали? Хачапури? А может… (подмигивает) прогулку по монастырскому метро?
Петька (поперхнувшись квасом):
– Какое еще метро?! Вы что, монахи, на «Сапсане» под землей носитесь?»
Брат Ефрем (смеясь):
– Эх, Петр! Не Сапсан, а Сапожок Пешком! Ход старинный, от наших подвалов прямиком к сестрам в Иоанно-Предтеченский монастырь! Еще Иван Грозный им пользовался, когда от бояр сбегал! А мы… (понижает голос) …соль передаем! Наша игуменья – большая мастерица огурцы солить по царскому рецепту! Вот, гляди!»
Он отодвигает ковер у дальней стены. Там – потертая дверь с огромным замком в виде солонки.
Любаша (в восторге):
– Ой, правда! А можно туда?
Брат Ефрем (хитро):
– Можно-то можно, да путь непростой! Во-первых, кота Ваську задобрить надо – он тут страж порога. Во-вторых, пароль знать!»
Петька (оживившись):
– Пароль? Давай!
Брат Ефрем (торжественно): «Пароль – как сама Солянка: сыт да весел! Говоришь:
– Не суп, а улица – солона на диво! От Варварки до Яузы тайной нитью шито!» А Ваське…
(достает селедочный хвостик)
– …селедки дай. Он у нас гурман!
Рыжий кот Васька материализуется из темноты, мурлыча:
Васька (голосом Марфы Потаповны):
– Мур-мур-мур! Пароль? Селедку? Ладно, пущу! Только учтите: там брат Ефрем вечно монашек с изюмом проносит для сестер! А изюм… (брезгливо морщит нос) …это не рыба!»
Дверь со скрипом открывается, открывая темный, пахнущий сыростью и ладаном коридор. Вдалеке слышен перезвон колоколов Иоанно-Предтеченского монастыря.
Марфа Потаповна (подталкивая Петьку и Любашу):
– Ну что, скептики? Шагайте смело! Там вас игуменья Назария пирогами с солеными груздями угостит да расскажет, почему «Башня-падаль» накренилась – это ж не ветер, это монах Белый, когда ему соли не доложили, от обиды ногой топнул в 1612 году!»
Петька (шагая в темноту с ухмылкой):
– Ладно, Марфа Потаповна, ваша взяла! Тут и правда… СО-ЛО-О-НО!»
Любаша (шепотом):
– И ВЕСЕЛО!
А над Солянкой, на крыше Доходного дома «Россия», два каменных грифона тихонько постукивали хвостами, перешептываясь: «Опять брат Ефрем изюмом торгует… Эх, лучше б солью! Зато людишки наши… веселые пошли!» И старый кот Васька, доедая селедку у двери ресторана, довольно мурлыкал:
– Соль – не золото, а душу греет! Мур-мур-сказка!»
Так и живёт древняя Солянка: в кирпичах стен, в шепоте подвалов, в соленых пирогах монастырских да в веселых байках таких, как наша! Заходите в гости – соль всегда найдется!
«РУСЬ МОНАШЕСКАЯ: ОТ ПЕЩЕР ДО НЕБЕС»
(Послесловие к книге, вобравшей тысячелетний путь)
О содержании этой книги – это
• Дубовые доски скитов Соловков,
• Слепые стены Чудова монастыря,
• Пещерная глина Киево-Печерской Лавры,
• Слезы на веригах Серафима Саровского.
Её страницы написаны:
• Кровью Пересвета на Куликовом поле, • Чернилами из саровских сосен – для писем Серафима,
• Прахом сожжённых старцев Оптиной Пустыни в 1930-е, • Молчанием Антония Печерского, высекавшего молитву в камне.
Содержание – не главы, а Жития:
«Копатели Царства Небесного» – Антоний и Феодосий, превратившие берёстовые горы в духовную твердыню. «Схимники с мечами» – Александр Пересвет и Андрей Ослябя, чьи кресты стали щитами Руси. «Радость сквозь тернии» – Серафим Саровский, носивший рай в котомке с сухарями. «Затворники ГУЛАГа» – безымянные иноки, чьи тюремные нары стали новыми пещерами. «Афонские маяки» – от Силуана, молившегося за весь мир, до Софрония, нашедшего Бога в бездне отчаяния. «Белые платки над кровавым полем» – царицы и схимницы Вознесенского монастыря, прятавшие Русь в молитве.
Главный нерв книги – не подвиги, а Встречи: • Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на битву – но прежде на исповедь. • Серафим Саровский дарит Мотовилову Фаворский свет – как ребёнку дарят яблоко. • Софроний Сахаров слышит в парижской мастерской Божий ответ на крик в бездну: «Я есмь!».
Послесловие автора:
«Эта книга – не история. Это карта спасения. Когда Русь теряла всё – княжества, столицы, рассудок – её спасали те, кто добровольно потерял мир. Монахи не уходили от истории. Они копали под нею тоннель в Вечность. Их пещеры, скиты, лесные кельи – бомбоубежища духа для всех нас. Откройте любую страницу – и вы услышите: „Держи ум во аде… и не отчаивайся“ (Силуан Афонский). „Стяжи дух мирен – и вокруг спасутся тысячи“ (Серафим Саровский). „Радость моя!“ (Серафим). „Христос Воскресе!“ (Феодосий Печерский – нам, живущим после ГУЛАГа). Их слова – не бумага. Это донорская кровь для обескровленной эпохи».
Последняя строка книги: «Русь монашеская не закончилась. Она просто ушла в катакомбы сердца. И когда вам будет темно – зажгите свечу. Серафим Саровский уже несёт вам сухарик. Пересвет берёт копье. Софроний открывает книгу. Антоний подаёт лопату: – Копай свою пещеру. Рай – ближе, чем думаешь.»
Книга закрывается. Но её обложка – ваша жизнь. Напишите продолжение.
Москва купеческая
КАМЕННЫЕ ПАЛАТЫ И ТЁПЛЫЕ СЕРДЦА
Дорогой читатель,
Перед вами – не учебник по экономике, а приглашение в московский купеческий театр, где: – лабазы пахнут трюфелями и керосином, – счётные книги соседствуют с театральными афишами, – а «толстосумы» в поддевках творят историю, поплёвывая на усы интеллигентской спеси.
Эта книга родилась из парадокса: Москва звала купцов «тёмным царством», но именно они —
– вымостили улицы камнем вместо грязи, – возвели Художественный театр на деньги от «колониальных товаров», – а в голодные годы кормили города, когда казна опустела.
Вы встретите здесь: • Григория Елисеева, превратившего гастроном в дворец барокко – «чтобы мужик ананас потрогал и мир узнал»; • Константина Станиславского, которого клеймили стихами за «похороны Мельпомены», а он ответил «системой» гения; • Монахиню Иеремию (в миру – Евгению Лукашёву), чьи слёзы по семи детям стали елеем для тайного пострига в купеческом селе.
Почему их не любили? – Петербургский чиновник брезговал: «Торгаш!»; – Иностранные путешественники сочиняли небылицы о «врождённом жульничестве»; – Собственные писатели выводили их Кабанихами, забывая, что Савва Морозов спонсировал революцию тот самый Горький.
Но правда – в московском булыжнике, что помнит: – как купеческие обозы спасали город от чумы, – как в подвалах Елисеева рождалось русское шампанское, – как «бесчестный торгаш» Архип вернул англичанину три золотых, потому что «чужая копейка жжёт карман».
Эта книга – антидот против мифов. Она докажет:
«Русский купец – не Островский, не Уоллес, не Майерберг. Он – тот, кто, продавая сардины, строил театры. Кто, хороня детей, вышивал кресты на рубахах дочерям-учительницам. Кто отвечал на клевету не памфлетом – а честным словом и полновесным рублём».
Перелистните страницу – услышите звон елисеевских витрин, спор в клубе «аграриев» и тихий плач Иеремии над могилами. Москва купеческая ждёт. Она ещё пахнет апельсинами и совестью.
Редактор серии,
Зигфрид фон Бабенберг
Москва Купеческая
Звон Монет и Шум Пиров
Ступая по брусчатке Кузнецкого Моста, под сенью неожиданно густых лип («рощи», что наперекор Думе высадил упрямый хлеботорговец Елисеев – деньги-то свои!), ощущаешь дух старой купеческой Москвы. Не чопорный Петербург, а именно московское раздолье, где удаль, расчет и благочестие причудливо сплетались.
Где жили Боги Коммерции:
Особняки Морозовых громоздились в Замоскворечье и на ул. Воздвиженке. Рябушинские – на Пресне да на Мясницкой. Аренда в самом сердце, скажем, на Тверской? Пожалуйста!
Диалог в конторе Домажного ряда (управляющий – молодому приказчику): «У Подсосенском переулке, в доме Перлова, чаеторговца, освободилась анфилада. Шесть комнат, потолки лепные, печи изразцовые… Тысяч восемь в год просят. Не по карману нашему брату, а купцу первой гильдии – сущий пустяк! Вот ежели на Сретенке – там и за три тысячи сыскать можно, да уж вид попроще». Приказчик (вздыхая): «Эх, Иван Потапыч, мечтается мне на Тверской пожить…»
Управляющий (усмехаясь): «На Тверской? Там графья да князья селятся! Али ты наследство тайное получил? Там и пятнадцати тысяч мало будет! Купец там – либо как Морозов Савва, театр себе выстроивший, либо с векселями в кармане, да с долгами по уши. Лучше в доходном доме угол сними, на Пятницкой, за пятьсот целковых – и то роскошь!»
