«Ваш Рамзай». Советская военная разведка в Китае и хроника «китайской смуты». 1922–1930 годы. Книга 1
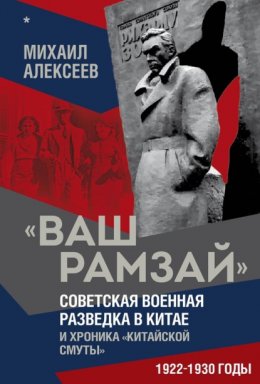
© Алексеев М., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
130-летию со дня рождения легендарного разведчика Рихарда Зорге, памяти военных разведчиков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, военных разведчиков, воевавших и воюющих на незримом фронте, участвовавших и участвующих в частных конфликтах и СВО посвящается.
Величие Родины в Ваших славных делах!
Автор выражает благодарность А. П. Алексееву, А. И. Сивцу, А. П. Серебрякову, О. В. Каримову, А. П. Аристову, А. И. Колпакиди, С. Ф. Макарову-Седову, В. Б. Леушу за содействие и поддержку при работе над монографией.
Отдельная благодарность Владимиру Степановичу Алексееву и Ирине Юльевне Куксенковой.
Кто Вы, доктор Зорге? (вместо предисловия)
«Об исторических личностях стоит судить с точки зрения её эпохи, а не спорных, а порою опасных критериев».
А. Перес-Реверте
В Москве, почти в самом конце Хорошёвского шоссе, недалеко от Мнёвников, в тени деревьев стоит внешне неброский памятник.
С невысокого постамента на прохожих сосредоточенно смотрит человек в тёмном плаще, выходящий как будто из стены или, точнее, проходящий сквозь неё. Кажется, ещё немного, и он присоединится к прохожим и степенной, но уверенной походкой пойдёт по своим делам…
Поворачиваем голову и на доме улицы, начинающейся от Хорошёвского шоссе, видна чёткая надпись: «Улица Героя Советского Союза Рихарда Зорге. 1895–1944».
Да, этот памятник ему, человеку-легенде, вернувшемуся к нам как бы из небытия в начале шестидесятых годов прошлого века благодаря кинофильму французского режиссёра Ива Чампи «Кто Вы, доктор Зорге?».
С той поры об этом человеке написано и опубликовано столько книг, статей, воспоминаний, что можно уверенно говорить о появлении «зоргеведения» как научной дисциплины. Но, как бы это не казалось странным, личность выдающегося советского разведчика остаётся не до конца раскрытой, разгаданной. На сегодня отсутствует систематическое описание жизни Рихарда Зорге; в первую очередь, не выверена хронология событий; не восстановлен исторический фон его деятельности; не проведён обстоятельный психологический анализ личности разведчика.
Довольно значителен разброс в оценках Зорге как профессионала-разведчика, что зачастую объясняется попытками судить о нём с позиций нашего времени, вне контекста той исторической эпохи, в которой он жил и действовал.
До сих пор вызывает изумление, что вся работа разведчика-нелегала проходила под его настоящим именем в течение длительного времени. А ведь он не был незаметным человеком: коммунист, революционер, учёный-марксист, ответственный сотрудник Коминтерна. Значит, были найдены определённые основания для подобного использования, которые кроются, видимо, прежде всего, в самом характере Р. Зорге. Это также говорит об умении руководителей советской военной разведки идти на смелые и нестандартные шаги при решении задач, стоявших перед ними в 30-е годы прошлого века.
На мой взгляд, если при жизнеописании Зорге исходить только из узкого поля биографических фактов, то такое одномерное пространство не позволит раскрыть логику развития этой личности. Древнегреческий философ Сократ утверждал, что в каждом человеке находятся как бы три человека: один из них соответствует тому, что сам человек думает о себе; второй соответствует тому, что о нем думают окружающие; и, наконец, третий таков, каков он на самом деле. Сочетание сократовского подхода к описанию жизни человека с раскрытием современного, и при необходимости предшествующего, исторического фона, даёт возможность увидеть конкретную личность объёмно и всесторонне.
Именно так подходит к биографии Рихарда Зорге известный исследователь истории российской военной разведки Михаил Алексеев в своей новой книге «Ваш Рамзай». Описание жизни советского разведчика подразделяется автором на два больших этапа: первый – от детства до прихода в разведку (конец XIX в. – 1929 г.), и второй – становление Рихарда Зорге как разведчика-профессионала в период работы в Китае (1930–1932 гг.). В перспективе ожидается продолжение книги, посвящённое деятельности Зорге в Японии…
Изначально жизнь Рихарда Зорге развивалась в атмосфере спокойствия, семейного и материального благополучия, формирования наивных взглядов на жизнь в рамках традиционных идеалов имперской Германии. На генетическом уровне ещё дремали корни русского происхождения по матери и социалистическое наследие прошлого от двоюродного деда Фридриха Адольфа Зорге – марксиста и корреспондента Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Но всё резко изменила Первая мировая война, превратившая молодого немца в радикально настроенную личность под впечатлением жестокой правды увиденного на фронте.
К этому следует добавить знакомство с идеями социализма, в которых, как представляется, он увидел мощный инструмент преобразования несовершенного мира. Складывается впечатление, что Рихардом под впечатлением вышеперечисленных факторов было принято осмысленное решение включиться в политическую деятельность, предварительно подготовив себя в образовательном плане в сжатые временные сроки.
Об этом свидетельствует следующая хроника событий: 1917 г. – получение документа о среднем образовании, 1918 г. – диплом о высшем образовании, 1919 г. – степень доктора права. И далее идёт разносторонняя деятельность в рядах Коммунистической партии Германии вплоть до перехода в 1924 г. на работу в Коминтерн.
Таков первый ключевой момент в жизни Рихарда Зорге.
Нельзя сказать, что этот жизненный поворот характерен исключительно для его судьбы. Напротив, идеи мировой революции и построения нового социалистического общества охватили в те годы не только массовое пролетарское движение, но и значительную часть интеллигенции, выходцев из обеспеченных слоёв населения. В их числе был и Рихард Зорге, ещё не ведавший своей дальнейшей судьбы.
Примечательно, что Зорге был не просто человеком, безраздельно преданным социалистическим идеям, но и на всём протяжении своей деятельности оставался нестандартно мыслящим аналитиком. Им написан ряд теоретических произведений и множество статей, представлявших интерес и в наши дни.
Следующим ключевым моментом в жизни Рихарда Зорге стал переход на работу в советскую военную разведку. Произошло это под воздействием различных причин, включая определённое разочарование работой в Коминтерне, не дававшей возможности реализоваться его деятельному и самостоятельному уму. Понимание того, что в складывающейся политической обстановке защита Советского государства выступает серьёзным фактором развития коммунистического движения; возникновение личного интереса к Востоку как определённой terra incognita, где разведка и предполагала использовать его силы.
Особое достоинство предлагаемой вниманию читателя книги Михаила Алексеева заключается в том, что рассказ о жизни «Рамзая» – Зорге органично вписан в канву исторических событий, происходивших в Китае. Его работа показана в динамике решения конкретных задач, различных по характеру и масштабам. И в каждом действии Рихарда раскрывается он сам – личность нестандартная, смелая, действенная, любящая людей и умеющая работать с ними.
Было много трудностей на пути Зорге. Сказывались и недостаток опыта агентурной деятельности, и нехватка военных знаний, и дискретный и лаконичный стиль руководства со стороны Центра. Но разведчик обеспечил решение поставленных задач как по добыванию информации о внутриполитической жизни Китая, так и по военно-политической обстановке, деятельности иностранных держав в этой стране. В итоге Рихардом Зорге были приобретены устойчивые навыки ведения разведки, и он превратился в высокого профессионала. Именно в таком качестве он прибыл в длительную командировку в Японию осенью 1933 г. Но это уже тема следующей книги Михаила Алексеева, которая, надеюсь, появится в скором будущем.
Рихард Зорге оставил память о себе в записках, написанных в японской тюрьме. В них прослеживается его жизнь и деятельность. Думается, что они сознательно писались, чтобы донести до потомков правду о себе, проломить стену молчания, которая долгое время окружала его имя. Их текст использовался исследователями, но требует обстоятельного психологического и фактологического анализа, чтобы понять мотивы поведения, образа жизни и конкретных действий разведчика.
Омар Хайям в одном из рубаи писал:
- Трудно замыслы Божьи понять, старина,
- Нет у этого неба ни верха, ни дна,
- Сядь в укромном углу и довольствуйся малым,
- Лишь бы сцена была хоть немного видна.
И в Китае, позже – и в Японии, Зорге отслеживал важную часть сцены мировых событий в её архисложности.
При этом он, говоря современным языком, был интерактивным наблюдателем. Ибо его информация, оценки ситуации дополнялись собственными предложениями и позволяли Центру видеть мозаику событий в динамике в преддверии Второй мировой войны и возможное развитие её начального периода.
Вот почему уже к концу чтения книги Михаила Алексеева непроизвольно складывается ответ на вопрос: «Кто вы, доктор Зорге?» Это сильная личность, учёный, журналист, политик-практик, разведчик, отдавший свою жизнь служению тем идеям, в которые верил, служению той стране, которую любил и которую защищал до конца своей жизни.
Словом, читателя этой книги ждёт интересный и объективный рассказ об удивительном и нестандартном человеке, безусловно, способном достичь успехов на любом выбранном поприще. Он выбрал разведку, потому что она соединяет практику и аналитику и, таким образом, позволила реализоваться его деятельному уму.
Алексей Изварин (Александр Петрович Алексеев, генерал-лейтенант, ветеран военной разведки)
Пролог. Китай – это больше, чем отдельное государство, это – отдельная цивилизация
1. Китайская империя и экспансия иностранных государств
Китайская империя на протяжении всей своей истории являлась многонациональным государством, насчитывавшим 56 народностей. Однако подавляющее большинство – свыше 90 % населения – составляли ханьцы.
Надо сказать, что по численности населения Китай всегда намного опережал все прочие страны мира, избыточность людского ресурса порождала в китайском обществе, особенно в последние столетия, немало серьёзных проблем. Повсеместно 15–20 % жителей китайских деревень не имели ни земли, ни работы. В старом Китае постоянно голодали миллионы, каждый год десятки и сотни тысяч умирали голодной смертью. По официальным оценкам правительственных органов, население Китая по состоянию на 1931 г. значительно превышало 400 млн человек.
В XVIII – первой половине XX в. соотношение между сельским и городским населением оставалось достаточно стабильным и в наиболее развитых районах низовий Янцзы городское население достигало 20 %.
К 1644 г. Китай был завоёван маньчжурами, и на всей территории страны упрочилась Цинская династия. Маньчжурский правитель – император – в соответствии с китайской традицией именовался Сыном Неба и считался лицом священным, посредником между Небом и людьми. Сын Неба совмещал в своей деятельности верховное законодательное и административное начала. Маньчжуры, насчитывавшие накануне завоевания 100-миллионной империи всего лишь 700 тыс. человек, утвердили своё господство над китайским народом. Завоеватели-маньчжуры составляли замкнутую касту. В китайской империи не было родовитой аристократии. Правда, члены императорского дома имели знатные титулы, однако эта знать ограничивалась кругом родственников. Равным образом и военное сословие в Китайской империи не имело самостоятельного значения.
Со времени завоевания Китая маньчжурские императоры проводили политику строгой изоляции своей огромной империи от внешнего мира.
К началу XVII в. в России отсутствовало реальное представление о Китае. Сведения о том, что все государство окружено кирпичной стеной, склоняли к мысли, что территория Китая не велика. И всё же в начале XVII столетия в Китай был отправлен томский казак Иван Петлин с целью установления торговых отношений. Это было первое после присоединения Сибири русское посольство в Китай. Петлин и его спутники выехали из Томска 9 мая 1618 г. Проследовав через Западную и Южную Монголию, в августе 1618 г. они добрались до границ Китайской империи. Петлин вручил китайскому императору грамоту, предлагавшую установить торговые отношения с Китаем, после чего благополучно вернулся в Россию.
Практической пользы эта дипломатическая миссия не принесла, но она внесла важный вклад в изучение стран Дальнего Востока. Составленные И. Петлиным «Роспись Китайскому государству…» и «Чертёж Китайского государства» содержали важные сведения географического, этнографического и политического характера. При этом использовались не только собственные наблюдения, но и устные сведения, полученные от бурят («брацкого татарина») и русских пленников.
В 1654 г., после посещения Москвы монгольским послом, из Тобольска в Пекин был направлен боярский сын Федор Исаакович Байков с царской грамотой, подарками и 50 000 рублями. Он получил подробный наказ собирать сведения о дорогах и о возможностях торговли. Лишь через четыре года русский посол вернулся в Москву. Официальное поручение – установить с Пекином «приятную дружбу без урыву» – выполнено не было. Принят он был холодно, а китайские хроники расценили его появление как принесение дани от русского государя («белого царя»). Отказ выполнить унизительный придворный этикет и незнание языков существенно осложнили ведение переговоров.
Миссия Ф. И. Байкова сыграла значительную роль в истории изучения Китая. Статейный список Байкова с подробным описанием пути в Китай, китайских обычаев и нравов вызвал живой интерес. Копия списка попала к иностранным дипломатам в Москве и скоро стала известна в Европе во французском, латинском, немецком, английском и голландском переводах.
В 1675 г. в Китай было снаряжено особое посольство, во главе которого был поставлен переводчик Посольского приказа Николай Гаврилович Спафарий (Милеску Николае Спэтарул), происходивший из православной греко-молдавской семьи. Посольству был придан характер научной экспедиции. В огромной свите Спафария находились образованные люди (главным образом греки) для отыскания лекарств, «для знатья каменного» и т. п. Были взяты с собой все необходимые инструменты. Поездка была тщательно подготовлена: сделаны выписки из западной литературы о Китае, выверены чертежи. В Тобольске Спафарий беседовал со ссыльным хорватом Юрием Крижаничем, который передал ему свои записки о китайских делах и «письмецо о китайском торгу».
Спафарий, получивший прекрасное образование в Стамбуле и служивший в качестве дипломата в странах Западной Европы, мог вести переговоры в Пекине через живших там иезуитов. От них же он сумел получить довольно много ценной информации о Китае. Сведения иезуитов подвергались проверке посредством опроса русских казаков, приезжавших в пограничные китайские города и близко общавшихся с местным населением. Спафарий оставил обширный труд с подробным описанием областей Китая, которые он смог посетить. Из литературных источников и со слов иезуитов он много узнал и о южной части Китая, о Японии, Корее.
И на этот раз дипломатические цели посольства достигнуты не были. Спафарий, несмотря на аудиенцию у самого императора Канси (1654–1722, император с 1662 г.), не получил от него даже ответной грамоты. Однако его труд «Описание первой части мира, называемой Азия, в которой находится Китайское государство с остальными городами и провинциями», написанный в 1677 г., вскоре стал широко известным в Европе и внёс важный вклад в исследование Дальнего Востока.
Европейцы, появившиеся в Китае ещё в XVI в., долгое время добивались для себя свободы торговли. На протяжении многих веков экспорт товаров из Китая преобладал над импортом. В Европе среди высших слоёв общества огромным спросом пользовались чай, шелковые ткани, китайский фарфор. За купленные товары иностранцы расплачивались серебром. Китайский внутренний рынок, фантастически ёмкий по европейским масштабам, был ориентирован на местное производство. Английские торговцы упорно пытались навязать товар, который был бы принят китайским рынком. Но китайский рынок отторгал все, что ему предлагали, включая английское сукно и индийский хлопок. И все же такой товар, в конечном счёте, был найден – им оказался опиум.
Опиум был известен в Китае как медицинское средство, начиная с VIII в. Однако как наркотическое вещество опиум становится известен только с XVIII в. и широко распространяется среди жителей некоторых приморских провинций Южного Китая, превращаясь в серьёзную общественную проблему. В 1839 г. по распоряжению генерал-губернатора провинции Гуандун в Гуанчжоу была конфискована и сожжена огромная партия опиума, принадлежавшего английским купцам.
Это и послужило поводом для вооружённой интервенции. Началась первая опиумная война, завершившаяся подписанием в 1842 г. Нанкинского договора, по которому пять портов Китая были открыты для иностранной торговли. В следующем году англичане добились от цинского правительства права экстерриториальности и создания своих поселений в открытых портах. Через год к этим неравноправным договорам присоединились Франция и США, а затем и другие европейские государства.
Задолго до этого (с 1715 г.) Российская империя имела на китайской территории Русскую духовную миссию, официально направленную в Китай в целях «пастырского надзора за потомством албазинцев» (жителей даурского поселения Албазин на Амуре – спорной территории между двумя странами) и распространением христианства среди китайцев. Фактически Русская духовная миссия являлась негласным дипломатическим и торговым представительством России в Пекине, откуда поступала крайне ценная информация о стране пребывания, закрытой для остального мира.
В 1858 г. был подписан Айгунский договор о русско-китайской границе. В этом же году между Китаем и рядом иностранных государств – Англией, Францией, США и Россией – были заключены Тяньцзинские договоры, которые значительно расширяли политические и торговые права иностранных держав в Китае. Однако спустя год китайская сторона отказалась от ратификации как Айгунского, так и Тяньцзинского договоров.
В марте 1859 г. в Пекин в качестве чрезвычайного посланника был направлен 27-летний генерал-майор Николай Павлович Игнатьев[1] с целью урегулирования спорных вопросов, относившихся к Айгунскому договору и предоставления России прав на сухопутную торговлю во внутренних районах Китая. Вначале китайцы решительно отклонили предложения Игнатьева и предписали ему незамедлительно покинуть страну.
Тем временем англичане с французами открыли военные действия против Китая и в октябре 1860 г. заняли северную часть Пекина. Иностранные державы предъявили китайцам ультиматум, угрожая свержением маньчжурской династии и разрушением столицы. Императорский двор был в полной растерянности. Император бежал из столицы, оставив в качестве уполномоченного для ведения переговоров князя Гуна, своего младшего брата. В этот критический момент китайская делегация обратилась к генералу Игнатьеву с просьбой о помощи и посредничестве. Игнатьев к этому времени уже ознакомился с ультиматумом союзников и заручился их согласием на принятие посредничества. «Примите наши требования, – убеждал Н. П. Игнатьев китайцев, – обещайте следовать нашим советам в своих действиях и отношениях с союзниками, и я ручаюсь, что Пекин будет спасён и что маньчжурская династия останется на престоле». Гун принял условия русского представителя и тем самым сохранил на троне маньчжуров.
14 ноября 1860 г. был подписан Пекинский договор. Гун объявил Н. П. Игнатьеву, что подписывает договор «…в знак благодарности за оказанные благодеяния».
Пекинский договор подтвердил Айгуньский и Тяньцзинский договоры. Он определил восточную границу между владениями России и Китая. Согласно этому договору, Уссурийский край окончательно перешел под юрисдикцию России. Россия получила право беспошлинной сухопутной торговли вдоль всей восточной границы и в Кашгаре, в китайском Восточном Туркестане. В Урге (ныне Улан-Батор) и Кашгаре русскому правительству разрешалось учреждать свои консульства.
1860 г. ознаменовал новый этап проникновения западных держав в Китай. Агрессивные военные действия, развязанные Англией и Францией против Китая, закончились подписанием в 1860 г. Пекинских соглашений. Согласно этим соглашениям, иностранные государства получали право иметь свои представительства в Пекине, заключать выгодные концессионные соглашения, их торговцам и миссионерам разрешалось свободно передвигаться по Китаю и покупать землю. Иностранцы создавали в Китае свои особые поселения – сеттльменты, на которые не распространялась юрисдикция цинских властей. Стали складываться европейские общины, которые имели свои клубы и ассоциации, издательства, газеты, банки и даже полицию. Как посредник между Китаем и Западом наибольшее значение приобрёл Шанхай, который за короткий срок превратился в крупнейший порт и промышленный центр Китая.
В 1851–1864 гг. по Китаю прокатилось одно из крупнейших народных восстаний – Тайпинское восстание, направленное против Цинской династии. В первое время правительственные силы терпели поражения от восставших. Перелом в военных действиях был связан не столько с активностью войск центрального правительства, сколько с формированием по разрешению цинского правительства новых вооружённых сил – нерегулярных армий, находившихся под контролем китайских чиновников-военачальников в тех районах, по которым прокатились волны тайпинского нашествия.
Таким образом, были заложены основы явления, которое впоследствии получило название «региональный милитаризм» и имело весьма важные политические последствия для развития Китая. Суть его состояла в том, что ослабленная внутренними смутами и внешними вторжениями императорская власть была уже не способна удерживать страну в рамках системы централизованного контроля. У империи Цин не было регулярной армии и в деле обороны она использовала армии своих провинций и ополченцев, которые не имели стандартной униформы и вооружений. «Региональными милитаристами» были не маньчжуры, а представители китайской по своему происхождению чиновничьей элиты. Офицеры армий «региональных милитаристов» были верны своему начальству и объединялись в клики по географическому признаку или как одноклассники по военным академиям. Подразделения формировались из выходцев из одних провинций. Подобный принцип помогал избегать проблем с пониманием, связанных с большим количеством диалектов в китайском языке, но при этом данный принцип поощрял центробежные тенденции. Региональные армии создавались уже по европейскому образцу и нередко имели иностранных инструкторов. Начался упадок традиционной китайской государственности.
В 1891 г. русское правительство приступило к строительству Великого Сибирского пути. Первоначально планировалось вести Транссибирскую магистраль по Амурской дуге – по российской территории. Однако министр путей сообщения и финансов С. Ю. Витте считал, что России следовало добиваться от Китая разрешения на строительство Сибирской железной дороги «по прямой» – через Маньчжурию к Владивостоку. Осуществление этого проекта должно было обеспечить быструю переброску русских войск на Дальний Восток, подчинить русскому влиянию экономику Маньчжурии и прилегающих к ней провинций, предотвратить японскую агрессию против Кореи.
В 1896 г. между Россией и Китаем был заключён русско-китайский «Договор о союзе и постройке Китайско-Восточной железной дороги» (КВЖД). Статья 1 договора предусматривала военный союз, который должен был вступить в силу в случае нападения Японии на Россию, Китай или Корею. В статье 4 договора указывалось, что «…китайское правительство соглашается на сооружение железнодорожной линии через китайские провинции Амурскую и Гиринскую в направлении на Владивосток». В том же 1896 г. между китайским правительством и Русско-Китайским банком (был учреждён с участием русского и французского капиталов для реализации франко-русского займа Китаю), впоследствии – Русско-Азиатским банком, был подписан контракт на постройку и эксплуатацию КВЖД. Это была юридическая фикция, имевшая своей целью скрыть участие русского правительства в проекте. Предусматривалось также учреждение Русско-Китайским банком Общества Китайско-Восточной железной дороги, которое и должно было осуществлять постройку и эксплуатацию железнодорожной магистрали. Для Общества КВЖД была избрана акционерная форма. Из всего пакета в 1000 акций (по 5 тыс. рублей каждая), 700 предназначались для русского правительства, 300 – для частных лиц (ими стали руководители Русско-Китайского банка).
По контракту России предоставлялось право эксплуатации дороги в течение 80 лет со дня открытия движения, после чего железная дорога бесплатно переходила во владение Китая. Вместе с тем китайскому правительству предоставлялось право «…через 36 лет выкупить эту линию, возместив полностью все затраченные капиталы и все сделанные для означенной линии долги с наросшими процентами».
Обществу КВЖД предоставлялись всевозможные привилегии: «…безусловное и исключительное управление своими землями», право сооружения телеграфа, доходы общества освобождались от налогов. Общество было свободно от какого бы то ни было контроля со стороны китайского правительства. Состав управления дороги, назначение и увольнение руководящих сотрудников подлежали утверждению русским министром финансов.
В 1903 г. строительство дороги было завершено. Протяжённость линии составила более 7,5 тыс. км. На строительство КВЖД царское правительство потратило около 375 млн рублей золотом. Общество КВЖД в своих интересах приобретало пароходы для организации морского судоходства. Во многих портах Дальнего Востока были устроены склады, конторы и даже пристани. Общество владело телеграфом, телефонными станциями, производило добычу угля, заготовку древесины, вело разведку полезных ископаемых в различных районах Маньчжурии. Россия получила от Китая на территории КВЖД те же права и привилегии, что и другие державы в Китае: экстерриториальность в Маньчжурии для русских подданных, право ввести свои войска для охраны дороги в «полосе отчуждения» и пр. Полоса отчуждения – коридор вдоль Китайско-Восточной железной дороги шириной 9 верст (9,6 км) по сторонам от линии – стала своеобразным государством в государстве.
Согласно Русско-китайской конвенции 1898 г., Россия получала в арендное («полное и исключительное») пользование на 25 лет Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Далянь) вместе с прилегающим водным и территориальным пространством (Ляодунский полуостров). Общество КВЖД также получало право на строительство соединительной ветви от одной из станций магистральной линии до Дальнего – южной ветки Китайско-Восточной железной дороги, получившей впоследствии название Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), от Дальнего до Чанчуня.
В сентябре 1899 г. правительство США обратилось к другим державам с нотой, в которой предлагалось соблюдать равенство возможностей в торговле с Китаем. В последующем эта инициатива получила название доктрины «открытых дверей».
20 июня 1900 г. пекинское правительство объявило войну иностранным державам. В столицу вошли отряды членов тайного общества «Ихэцюань» («Кулак, поднятый во имя справедливости и гармонии»), движение которых начало развиваться ещё осенью 1898 г. в провинции Шаньдун. Ихэцюаньцы выступили против чужеземного засилья и совместно с цинскими войсками начали осаду иностранных миссий и концессий в столице Китая. Существенный ущерб был нанесён строившейся КВЖД. 40-тысячная армия из частей, представленных восемью державами (Великобритания, Германия, США, Франция, Россия, Япония, Австро-Венгрия и Италия), подавила восстание ихэтуаней («боксёрское» восстание) и в августе 1900 г. заняла Пекин.
Победители не смогли договориться между собой относительно раздела Китая и решили сохранить у власти цинский двор, добившись от него дальнейших уступок, закреплявших, по существу, полуколониальный статус страны. Китай обязывался уплатить иностранным державам в течение 39 лет огромную контрибуцию в размере 450 млн таэлей. Для обеспечения уплаты контрибуции иностранные государства получили право контролировать процедуру сбора таможенных пошлин и соляного налога. Им разрешалось также иметь в центральной части столицы укрепленный «посольский квартал» и размещать свои гарнизоны в 12 других стратегически важных пунктах Китая.
На рубеже XIX–XX вв. в своём окончательном виде сложились сферы влияния западных держав. Регионом преимущественного экономического проникновения Англии стал юг Китая: Англия арендовала сроком на 99 лет большую часть полуострова Цзюлун с прилегающими островами, включая Сянган (Гонконг), а также провинции среднего течения Янцзы.
Согласно Симоносекскому договору, заключённому между Японией и Китаем 17 апреля 1895 г. в г. Симоносеки (Япония) после поражения Китая в Японо-китайской войне 1894–1895 гг., Япония отторгла от Китая о. Тайвань, получила огромную контрибуцию и право занятия промышленной деятельностью в Китае для своих подданных. Сферой влияния Японии стали также провинции нижнего течения Янцзы (главным образом Фуцзянь).
Франция стремилась утвердиться в южных провинциях Китая, прилегавших к её владениям в Индокитае (Юньнань, Гуанси, Гуандун).
Германия установила контроль над Шаньдуном.
Основные интересы России были сосредоточены в Маньчжурии, где нарастало соперничество с Японией.
Русско-японская война 1904–1905 гг. изменила расстановку сил в Маньчжурии. Согласно Портсмутскому мирному договору 1905 г., Россия уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, признавала Корею сферой японского влияния и передавала Японии Южный Сахалин. Японии также отходила южная ветвь КВЖД – этот участок дороги Япония перестроила на свою колею.
В начале XX в. в провинциях Южного и Восточного Китая стали возникать различные антиманьчжурские организации. Одним из признанных лидеров революционного движения являлся Сунь Ятсен[2]. В конце 1894 г. Сунь Ятсен создал первую в истории Китая революционную организацию – «Союз возрождения Китая» («Синчжунхуэй»). Первоначально малочисленный союз объединил патриотически и антиманьчжурски настроенных молодых выходцев из социальных слоёв, уже соприкоснувшихся с европейской культурой и западным образом жизни. Цели этой организации нашли своё отражение в клятве, которую произносили вступавшие в союз: «…Изгнать маньчжуров, восстановить государственный престиж Китая, учредить демократическое правительство». В 1905 г. на основе объединения революционных организаций, в число которых входил «Союз возрождения Китая», был образован «Китайский революционный объединённый союз» («Чжунго гэмин Тунмэнхуэй»). В основу программы этой организации были положены сформулированные Сунь Ятсеном три «народных принципа»: национализм, народовластие и народное благосостояние. Под «национализмом» Сунь Ятсен понимал свержение цинской династии и восстановление суверенитета китайской (ханьской) нации. «Народовластие» трактовалось им как ликвидация монархического строя и учреждение республики. Принцип «народного благосостояния» содержал в себе уравнивание прав на землю, т. е. проведение постепенной национализации земли путём введения на неё прогрессивного налога на землю.
15 ноября 1908 г. умерла императрица Цыси, фактически правившая страной с 60-х гг. XIX в. За день до этого при не вполне выясненных обстоятельствах умер её племянник, император Гуансюй, которого она отстранила от власти ещё в 1898 г. Императором был провозглашён малолетний Сюаньтун (Пу И), от имени которого Китаем стал править его отец, великий князь-регент Цзай Фэн, брат Гуансюя.
Смерть императрицы Цыси ускорила подготовку к проведению императорским правящим домом конституционных реформ. Маньчжурские власти обещали ввести в стране конституционное правление в 1913 г. Однако все эти запоздалые меры, предпринимаемые правительством, были уже не в силах изменить ход событий и удержать у власти цинскую династию.
2. Учреждение Китайской Республики и всплеск борьбы за власть в стране (1911–1918)
Углубление и обострение кризиса Маньчжурской империи в течение 1911 г. привело к тому, что осенью того же года мощный социально-политический взрыв положил ей конец: лишь три из 18 провинций собственно Китая формально ещё признавали власть маньчжурского правительства.
В этих условиях цинское правительство призвало на помощь влиятельную политическую и военную фигуру – Юань Шикая[3], являвшегося лидером Бэйянской (северной) милитаристской клики и находившегося в опале после смерти императрицы Цыси. Получив от цинского двора пост главнокомандующего и главы правительства, Юань Шикай наряду с военными действиями против революционеров начал секретные переговоры с отдельными группировками республиканского Юга Китая. Парадоксальность ситуации была в том, что Юань Шикай оказался приемлемой фигурой для самых различных политических сил. Умело маневрируя между маньчжурами и республиканцами, он готовился к захвату власти.
29 декабря 1911 г. конференция собравшихся в Нанкине представителей провинций, отделившихся от цинского правительства, избрала вернувшегося из эмиграции Сунь Ятсена временным президентом Китайской Республики и поручила ему формирование временного революционного правительства. На базе конференции представителей провинций в последующем было создано Национальное собрание. 1 января 1912 г. стало днём официального провозглашения Китайской Республики. Республиканское правительство попыталось, прежде всего, отменить многие средневековые установления и обычаи. Были изданы указы, запрещавшие курение опия, применение пыток при допросах, торговлю людьми. Главным же достижением правительства в области нормотворчества были подготовка и принятие временной конституции Китайской Республики, разработанной под руководством Сунь Ятсена. Конституция провозгласила равноправие всех граждан «независимо от расы, класса и религии», право частной собственности и свободу предпринимательства, основные демократические свободы (неприкосновенность личности и жилища, свобода слова и печати, свобода организаций).
Иностранные державы тем временем продолжали признавать цинское правительство и передавать ему средства, собиравшиеся контролируемыми ими таможнями на территории революционных провинций. Из-за этого республиканские власти лишались основного источника финансовых поступлений.
Юань Шикай, узнав об избрании Сунь Ятсена временным президентом, первоначально считал возможным пойти на соглашение с Югом только на основе признания конституционной монархии. Однако окончательно убедившись в невозможности достигнуть соглашения на таких условиях, Юань Шикай решает принести в жертву монархический режим. 12 февраля 1912 г. он вынуждает вдовствующую императрицу от имени последнего императора Цинской династии – малолетнего Пу И отречься от престола. После 267-летнего господства в последних числах года синьхай (по традиционному календарю) рухнула власть маньчжурской династии.
На следующий день Сунь Ятсен сложил свои полномочия временного президента и выдвинул на этот пост Юань Шикая. 15 февраля 1912 г. Национальное собрание избрало Юань Шикая новым временным президентом. 25 августа 1912 г. в Пекине состоялся учредительный съезд новой партии, на котором к объединённому союзу присоединились ещё четыре немногочисленные политические организации республиканской буржуазии. Новая партия стала называться Гоминьданом (букв. – национальная партия), руководителем которой стал Сунь Ятсен.
Правильность взятого курса на создание массовой парламентской партии подтвердили результаты выборов в парламент, на которых Гоминьдан добился убедительной победы (из-за различных ограничительных цензов в выборах принимало участие всего 10 % населения страны). Победив на парламентских выборах, Гоминьдан, естественно, претендовал на формирование правительства. Однако Юань Шикай не допустил перехода власти в руки Гоминьдана. 6 октября 1913 г. были проведены выборы президента, и Юань Шикай добился своего избрания. Последовала полоса международного признания республиканского правительства.
Опыт парламентской деятельности Гоминьдана в конечном счёте закончился плачевно. В ноябре 1913 г. Юань Шикай, со ссылкой на «пожелания провинциальных властей», издал указ о роспуске Гоминьдана и лишил гоминьдановских депутатов парламента их мандатов. Сунь Ятсен и многие его соратники по партии были вынуждены эмигрировать за границу.
В январе 1914 г., готовясь к установлению в стране своей единоличной диктатуры, Юань Шикай распустил обе палаты парламента. В мае того же года он заменил принятую ранее конституцию новой, согласно которой вся власть в стране – исполнительная, законодательная и судебная – оказывалась в руках президента.
В июле 1914 г. Гоминьдан был реорганизован Сунь Ятсеном в «Чжунхуа Гэминдан» (Китайская революционная партия). Вновь брался курс на «политическую революцию». Основной задачей Китайской революционной партии объявлялась борьба против милитаристской клики Юань Шикая, за восстановление демократических учреждений и конституции 1912 г.
После начала Первой мировой войны китайское правительство объявило о своём нейтралитете и обратилось к воюющим державам с просьбой не переносить военные действия на территорию Китая, в том числе и на «арендованные» державами китайские земли. Однако 22 августа 1914 г. Япония объявила о состоянии войны с Германией и высадила 30-тысячную армию севернее Циндао – центра немецкой колонии в провинции Шаньдун. После двухмесячной военной кампании Япония захватила германские владения в Шаньдуне, а также распространила свой контроль на всю территорию провинции.
С середины 1915 г. под предлогом усиления государственной власти и сохранения единства страны Юань Шикай развернул подготовку к реставрации монархии и провозглашению себя императором. Против подобных притязаний выступили не только его открытые противники, Юань Шикай потерял поддержку своих сподвижников. Уже в марте он вынужден был заявить об отказе от претензий на престол, а 6 июня 1916 г. Юань Шикай внезапно умер.
Гражданская война 1916 г. и смерть Юань Шикая имели огромные и неоднозначные последствия для истории Китая. Поражение Юань Шикая (вне зависимости от его смерти) было не только поражением наиболее махровой китайской реакции, но и провалом попытки сохранения единого и централизованного Китайского государства. Вслед за обрушением монархии дала трещину и бюрократическая вертикаль власти центра, что привело к распаду страны и сепаратизму провинций. Стихийные демократические настроения были использованы, прежде всего, местными военачальниками, которые уже не хотели делиться своими доходами с центральным правительством и использовали сложившуюся ситуацию для утверждения своей бесконтрольной власти на местах для формирования так называемых милитаристских клик.
Старейшей и наиболее влиятельной была бэйянская (северная) милитаристская клика, сложившаяся ещё при маньчжурском режиме с ведущей ролью Юань Шикая. После его смерти она раскололась на отдельные соперничавшие между собой группировки, которые продолжали формально объединяться в рамках бэйянской милитаристской клики.
Крупнейшими среди этих группировок были фэнтяньская (мукденская), чжилийская и аньхойская. Название милитаристских группировок происходило от наименований провинций Фэнтянь, Чжили, Аньхой, уроженцами которых были главари этих группировок. Во главе фэнтяньской клики стоял Чжан Цзолинь[4], чжилийскую группировку возглавлял генерал Фэн Гочжан[5], пользовавшийся поддержкой генералов У Пэйфу[6] и Цао Куня[7], а аньхойскую – генерал Дуань Цижуй[8]. В 1918 г. возникает новая влиятельная политическая организация – «Клуб Аньфу», тесно связанная с Дуань Цижуем и откровенно ориентировавшаяся на поддержку Японии. Название клуба переносится на аньхойскую клику, которую начинают называть аньфуистской. После смерти Фэн Гочжана в 1919 году Чжилийскую клику возглавил Цао Кунь.
С марта 1912 г. по июнь 1928 г. президентами Китая[9] с местом пребывания в Пекине являлись представители противоборствовавших между собой группировок, составлявших бэйянскую милитаристскую клику, в том числе все лидеры группировок, входивших в бэйянскую милитаристскую клику – Чжан Цзолинь, Фэн Гочжан, Цао Кунь и Дуань Цижуй – в разное время становились президентами Китая. Между этими группировками и отколовшимися от них формированиями всё это время велась борьба за контроль над центральным правительством в Пекине.
Фактически независимыми были губернаторы провинций Шаньси и Шэньси, Янь Сишань[10] и Чэнь Шуфань соответственно.
Лагерь юго-западных милитаристов состоял из двух крупных группировок: юньнаньской и гуансийской во главе с губернаторами генералами Тан Цзияо[11] и Лу Жунтином, соответственно. Борьба за политическое и военное влияние, за контроль над территориями и налогами шла не только между милитаристскими группировками, но и внутри них.
Китайский региональный милитаризм нашёл своё законченное выражение в так называемой системе дуцзюната. Дуцзюнами с 1916 г. стали именовать губернаторов провинций в Китае, совмещавших функции главы гражданской власти и командующего войсками (военного губернатора). Термин «дуцзюн» был введён в 1916 г. Юань Шикаем. Система же дуцзюната сложилась уже после подавления революции 1911 г., когда произошла фактическая передача гражданской власти в провинциях в руки командующих армиями, подчинёнными центру. Полнота военной и гражданской власти в руках дуцзюнов при одновременной слабости центрального правительства привела к тому, что весь послереволюционный период истории Китая превратился в беспрерывную цепь войн между дуцзюнами и коалициями последних за раздел китайской территории.
Рядом с дуцзюнами всегда находились подчинённые им генералы, стремившиеся освободиться от подчинённого положения и играть самостоятельную роль. Вскоре центр отказался от совмещения гражданской и военной власти в провинциях в одних руках, однако на местах далеко не везде согласились исполнить вышестоящее распоряжение.
Логика развития региональных милитаристских группировок была весьма проста. Режимы эти опирались на открытую военную силу. Наёмная армия давала силу для удержания власти в определённом районе, власть же давала возможность получать через налогообложение средства для вербовки солдат. Так складывался порочный круг функционирования региональных милитаристских клик. А кто другой ещё мог занимать пост губернатора провинции, командующего войсками, как не лидер милитаристской группировки? Захватив власть, многие из них стремились (и не без успеха) «сколотить» себе состояние: захватывали и покупали землю, вкладывали награбленные средства в доходные структуры. Однако их политическое поведение определялось не социальным происхождением, не деловыми интересами, а стремлением к укреплению и расширению личной власти. Ради этого они вели друг с другом непрерывные войны, вступали во временные коалиции, признавали власть более сильных и подчиняли себе более слабых, искали (и находили) покровителей среди иностранных держав. Отсюда та лёгкость, с которой милитаристы меняли свою политическую ориентацию и своих политических союзников в поисках сильных зарубежных покровителей. Основным источником содержания милитаристских клик были налоги с землевладельцев, доходы от контроля над торговлей и промышленностью в пределах территории, на которую распространялась их власть, и получение денежных средств от иностранных держав. Так, фэнтяньская и аньхойская клики финансировались Японией, чжилийская – Англией и США.
В годы Первой мировой войны разведка Китая велась Главным управлением Генерального штаба с позиций аппаратов военных агентов и российских консульств, а также разведывательными отделениями штабов военных приграничных округов (Туркестанского, Омского, Иркутского, Приамурского) и Заамурского округа пограничной стражи, действовавшего в полосе отчуждения КВЖД.
Должность военного агента в Пекине с 1915 г. исполнял полковник Н. М. Морель[12]. Два его помощника – полковник В. В. Блонский[13] и полковник К. А. Кременецкий[14] – находились соответственно в Мукдене и Шанхае. К августу 1917 г. агентурная сеть военного агента в Китае насчитывала восемь человек (в Шанхае – 2, Учане – 2, Нанкине – 1, Пекине – 1, Калгане – 1, Цзинани – 1). Трое из этих агентов являлись разъездными, но ни одному из них так и не удалось выбраться на Юг Китая, который, по словам Мореля, «…был охвачен продолжающимся революционным движением». Ценным агентом в Шанхае считался китаец-христианин, служащий книжной лавки, дававший сведения о немецко-корейской организации в Китае.
Более результативно работал так называемый негласный военный агент (сотрудник военной разведки под «прикрытием» консульства) в Цицикаре – полковник С. И. Афанасьев[15]. В агентурной сети консула Афанасьева, находившегося в Китае с 1910 г., было пять ценных источников, в том числе в окружении губернатора провинции Хэйлунцзян, в штабе командующего войсками, в артиллерийском депо. Однако частные успехи, достигнутые Афанасьевым, не могли изменить общей негативной картины организации и ведения разведки Китая.
Аппараты военных агентов и разведывательных отделений штабов военных округов были крайне малочисленны. Российский Генеральный штаб не сумел правильно оценить значение драгоманов (переводчиков с восточных языков) для разведки и вовремя закрепить их за соответствующими штабами военных округов. К тому же отзыв офицеров-восточников на фронт существенно ослабил ведение разведки в странах Дальнего Востока. В результате русская военная разведка на местах не смогла дать правильную оценку сложным процессам, проходившим в Китае, а Центр к этому времени не мог уже обеспечить адекватное руководство подчинёнными ему разведывательными структурами.
После смерти Юань Шикая президентом республики стал Ли Юаньхун[16], ставленник юго-западных милитаристов. Он восстановил конституцию 1912 г. и собрал разогнанный Юань Шикаем парламент. Весной 1917 г. премьер-министр генерал Дуань Цижуй начал подготовку к вступлению Китая в войну. Однако против этого резко выступила Япония. Вопрос о вступлении Китая в войну стал активно обсуждаться ещё с осени 1915 г. Инициатива в его постановке принадлежала русскому посланнику в Пекине В. Н. Крупенскому. Изменение позиции Японии произошло только в начале 1917 г. не без влияния США. Разорвав дипломатические отношения с Германией (по существу формально) из-за объявления ею неограниченной подводной войны, правительство США обратилось к нейтральным странам (в том числе и к Китаю) последовать их примеру.
Президент и парламент страны выступили против инициатив Дуань Цижуя. В результате Ли Юаньхун лишился поста президента, парламент был распущен, а его депутаты бежали в Гуанчжоу (европейское название – Кантон, столица провинции Гуандун). Пост президента занял Фэн Гочжан. Власть в Пекине сосредоточилась в руках Дуань Цижуя, который 1 (14) августа 1917 г. объявил войну Германии и Австро-Венгрии.
Вступив в войну, Китай рассчитывал возвратить территории (Шаньдун), захваченные ранее Германией. Кроме того, участие в мировой войне давало Китаю право участвовать в мирной конференции в числе других стран-победительниц.
Участие Китая в войне выразилось в конфискации и передаче в распоряжение союзников германских и австрийских кораблей и судов, находившихся в китайских портах, и в отправке 175 тыс. рабочих на строительство укреплений в Европе и на Среднем Востоке. В последующем Китай участвовал в совместных со странами Антанты действиях в Сибири против якобы действовавших там отрядов германских военнопленных. Китайское военное присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке продолжалось до 1920 г. Союзники, со своей стороны, согласились на отсрочку на пять лет платежей по «боксёрской» контрибуции и увеличение таможенного тарифа.
25 августа 1917 г. в Гуанчжоу открылась чрезвычайная сессия старого, разогнанного пекинского парламента, на которой было объявлено о создании военного правительства во главе с Сунь Ятсеном и присвоением последнему звания генералиссимуса. Военное правительство провозгласило начало Северного похода под лозунгами защиты Конституции 1912 г.
Название «Северный поход» («Северная экспедиция»), о котором с пафосом говорили сначала Сунь Ятсен, а потом Чан Кайши[17], никоим образом не следовало воспринимать буквально. Хотя конечная точка Северного похода была известна – Пекин, где всегда заседало враждебное Югу центральное правительство (центральное, потому что было признано иностранными государствами). Но сегодня там мог находиться один враг, а завтра – другой, что и происходило в действительности. Путь же к Пекину пролегал через многие провинции, правители которых отнюдь не испытывали симпатий к «революционерам» с Юга. Не говоря уже о том, что провинция Гуандун находилась в самой южной части Китая, поэтому любой военный поход, не направленный в сторону Востока или Запада, был походом на Север. Ни Сунь Ятсен, ни впоследствии Чан Кайши так до Пекина и не дошли. Даже гипотетический захват Пекина не позволил бы окончательно объединить страну, так как оставался ещё у власти Чжан Цзолинь, правитель Автономных Трёх Восточных Провинций Китайской Республики Маньчжурии. На подвластные Чжан Цзолиню территории никто, кроме японцев, и не покушался. Тем не менее, вся деятельность Сунь Ятсена была подчинена идее Северной экспедиции.
Реальными силами Сунь Ятсен не располагал, ибо войска, на которые он вынужден был опираться, принадлежали к различным милитаристским группировкам южных и юго-западных провинций. Лидеры этих группировок непрерывно враждовали между собой за контроль над богатым Югом страны. Более того, они не тратили все силы на борьбу с бэйянскими (северными) милитаристами, контролировавшими наиболее боеспособные соединения, предпочитая в определённых обстоятельствах вступать с ними в политические сделки. В самом же Сунь Ятсене местные милитаристы видели политически популярное прикрытие своих местнических действий. Всё это очень скоро обострило отношения между союзниками. В мае 1918 г. чрезвычайная сессия парламента заменила главу военного правительства директорией из семи человек. Реальная же власть оказалась в руках гуансийского милитариста Лу Жунтина. Доктор Сунь вынужден был признать провал своих планов, вышел из правительства и возвратился в Шанхай.
Однако и бэйянские милитаристы не располагали достаточными силами для подчинения Юга и победы в гражданской войне. На севере 4 сентября 1918 г. парламент избрал президентом Сюй Шичана, старого бэйянского деятеля. Его кандидатура не вызвала споров между аньхойской и чжилийской группировками.
Разгром правящей части господствующего в императорском Китае служивого сословия – бюрократии (за исключением верхушки бюрократии, возглавившей армии и захватившей руководство провинциями) привёл к образованию своеобразного политического вакуума, так как новые политические силы, представлявшие нарождавшуюся национальную буржуазию, были ещё слабы и не оформлены.
Политическая слабость буржуазии объяснялась в первую очередь тем, что китайский капитализм и китайская буржуазия не имели собственной предыстории, их возникновение явилось, прежде всего, результатом «открытия» Китая и привнесения туда развитых форм капитализма.
Особенности рабочего класса определялись небольшим «стажем» капиталистического предпринимательства в Китае и полуколониальным характером капиталистической эволюции. Основным источником формирования рабочего класса было беднейшее крестьянство, поставлявшее неквалифицированную рабочую силу, а также ремесленники и городские низы. Преобладание лёгкой и пищевой промышленности предопределило распространение женского и детского труда. Одновременно китайскими и иностранными предпринимателями сознательно проводился курс на омолаживание рабочего класса. Обеспеченным, по самым скромным оценкам, был лишь узкий слой высококвалифицированных пролетариев. Вообще кадровых рабочих насчитывалось всего несколько десятков тысяч человек, в подавляющем большинстве это были рабочие в первом поколении.
В наследство от цинской империи республиканский Китай получил тяжелейшее аграрное перенаселение, в значительной мере определившее производственный и социальный облик китайской деревни. В 1917 г. обрабатывалось примерно 1,5 млрд му земли (1 му равняется 0,067 га), что и определяло ничтожно малый размер среднего хозяйства – менее 20 му земли. Значительная часть сельского населения представляла собой безземельную бедноту.
Претензию на гегемонию в обществе заявили так называемые новые средние слои – служащие республиканских учреждений и капиталистических фирм, учителя и студенты, функционеры политических партий и общественных организаций, офицерство. «Новыми» они были потому, что с начала XX в. интенсивно шёл процесс распада служивого сословия (шэньши) и разворачивался процесс формирования новой интеллигенции – служивой и неслуживой. Переходный характер всей социальной структуры Китая делали позиции новой интеллигенции весьма прочными, а относительно высокий образовательный уровень (всегда в Китае ценимый) и причастность к политической организации позволяли не без успеха претендовать на лидерство в политической жизни страны.
3. Советская Россия и Китай после Первой мировой войны (1918–1922)
22 февраля 1918 г. Наркоминдел (НКИД) направил международным отделам краевых Совдепов инструкцию, в которой предписывал им в отношении к соседним народам руководствоваться принципами, изложенными в Декрете о мире. Сам же декрет следовало как можно шире распространять на местных языках. Что касалось Японии, НКИД требовал исходить из «…совершенно определённых захватных стремлений нынешнего наиболее реакционного в новейшей истории Японии правительства».
В отношении китайцев надлежало помнить, «…что нынешнее пекинское правительство не является выразителем воли китайского народа и ведёт борьбу с поднявшим восстание против реакционного Севера народом Южного Китая, образовавшим Федеративную Республику». Наркоминдел не отказывался, тем не менее, от поддержания отношений с реакционным Пекином, но явно не считал возможным обсуждать с ним проблемы мировой революции.
В уже упоминаемой инструкции Народного комиссариата по иностранным делам краевые Советы депутатов наделялись правами предлагать кандидатов на должность консулов и контролировать их деятельность. Особая роль отводилась Владивостоку: кроме организации консульств в Восточной Маньчжурии, Хакодате и Корее краевое руководство было ответственно за установление контактов с Тяньцзинем, Чифу и особенно Шанхаем, «…так как в последнем центре многочисленная русская колония совершенно устранена от дел самоуправления реакционно настроенной кучкой банкиров и чиновников».
Положения первой инструкции Наркоминдела были развиты и закреплены в декрете, подписанном В. И. Лениным, Л. М. Караханом[18] и В. Д. Бонч-Бруевичем лишь в октябре 1918 г. Это был удивительный документ – речь шла об учреждении консульств в странах, с которыми не поддерживались дипломатические отношения, но существовали «деловые отношения».
Руководство НКИДа возлагало в то время большие надежды на то, что одним из первых государств, признавших РСФСР, станет Китайская Республика. Никто тогда не мог предположить, что Советская Россия будет официально признана китайским правительством, формально представлявшим весь Китай, только через пять с лишним лет.
Дипломатическое признание обычно получало любое правительство, которое представляло милитаристскую клику, захватившую Пекин, так как оно могло собирать таможенные пошлины и получать иностранные кредиты. Все бэйянские клики милитаристов признавали пекинское правительство, какую бы северную группировку оно не представляло, даже если они на деле противостояли ему. Они не оспаривали его законность, но справедливо считали, что ему недостаёт авторитета, чтобы диктовать свою волю провинциям. Правительство в Пекине время от времени издавало указы в отношении территорий, которые фактически не подчинялись ему, с тем, чтобы обвинить местных милитаристов в измене. Разумеется, эти указы игнорировались.
Решено было, не мешкая, направить в Китай консулов, но пока в качестве частных лиц. Никого не интересовало отсутствие подобных прецедентов в международной дипломатической практике – Великая Октябрьская революция могла диктовать свои правила игры.
Из нескольких кандидатур на пост консула в Шанхае Восточным отделом НКИДа (прерогативу выбора кандидатов на консульские посты НКИД оставил всё-таки за собой) был рекомендован бывший полковник М. Г. Попов[19], говоривший и писавший по-китайски и по-японски. На месте, в Шанхае, выяснилось, что Народный комиссариат по иностранным делам явно опередил события. Прежний российский консул В. Гроссе, подчинявшийся бывшему посланнику России в Китае князю Кудашеву, не собирался покидать свой пост. Через два месяца у Попова закончились деньги, и он остался в чужом городе без средств к существованию. Пришлось в начале 1919 г. вернуться во Владивосток для получения дальнейших указаний, где новые власти бросили его в тюрьму.
5 апреля 1918 г. во Владивостоке высадились японские войска, несколько позже – американцы, англичане, французы, итальянцы, поляки, румыны и китайцы. Так началась открытая военная интервенция на Дальнем Востоке. Захватив Приморье, интервенты вторглись в Приамурье и Сибирь. К концу 1918 г. их численность достигла 150 тыс. человек, в том числе до 75 тыс. японцев.
В конце 1918 г. по инициативе американского правительства начались переговоры об установлении общего контроля США, Японии и некоторых стран Европы над железными дорогами Сибири и Китайско-Восточной железной дорогой. Основная борьба развернулась между представителями Америки и Японии. В январе 1919 г. трудные американо-японские переговоры завершились подписанием соглашения «О надзоре над Сибирской железной дорогой и КВЖД». Позднее к соглашению присоединились Великобритания, Франция, Италия, Китай и правительство Колчака. Для осуществления контроля был создан Межсоюзный железнодорожный комитет. Японцы дважды пытались захватить линию Маньчжурия – Харбин, но дважды натолкнулись на противодействие местной китайской администрации. Межсоюзный железнодорожный комитет, просуществовав менее двух лет, с самого начала оказался нежизнеспособным, подорванным изнутри его участниками, прежде всего США и Японией. Союзники не смогли ни добиться политической стабильности и прекращения стачек и забастовок в полосе отчуждения, ни подчинить своему влиянию многочисленные военные формирования белогвардейцев, ни нормализовать деятельность дороги.
Китайское правительство рассчитывало, что на Парижской мирной конференции (18.01.1919–21.01.1920), созванной государствами – победителями в Первой мировой войне, великие державы откажутся от сфер своего влияния в Китае, что войска иностранных государств, находившиеся в стране, будут отозваны, что арендованные державами территории, равно как и территории иностранных сеттльментов, будут возвращены Китаю и что стране будет предоставлена таможенная самостоятельность.
Однако этим ожиданиям не суждено было оправдаться. На конференции в Париже Китай даже не был признан её равноправным участником. Более того, было принято унизительное для Китая решение о передаче Японии бывших германских колониальных владений в Шаньдуне.
25 июля 1919 г. Народный комиссариат по иностранным делам опубликовал «Обращение правительства РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и Северного Китая». В обращении напоминалось о том, что рабоче-крестьянское правительство, взяв в октябре 1917 г. власть в свои руки, от имени русского народа обратилось к народам всего мира с предложением установить прочный постоянный мир. «Основой этого мира должен был служить отказ от всяких захватов чужих земель, отказ от всякого насильственного присоединения чужих народностей, от всяких контрибуций».
Рабоче-крестьянское правительство вслед за этим объявляло уничтоженными все тайные договоры, заключённые с Японией, Китаем и бывшими союзниками. «Советское правительство тогда же предложило Китайскому правительству вступить в переговоры об аннулировании договора 1896 г., Пекинского протокола 1901 года и всех соглашений с Японией с 1907 по 1916 годы, т. е. после возвращения китайскому народу всего того, что было отнято у него царским правительством самостоятельно, либо заодно с японцами и союзниками. Переговоры по этому вопросу продолжались до марта 1918 года». Однако западные державы сорвали их: «Не дожидаясь возвращения китайскому народу Маньчжурской ж.д., Япония с союзниками захватили её, сами вторглись в Сибирь и даже заставили китайские войска помогать в этом преступном и неслыханном разбое».
«Советское правительство, – отмечалось в Обращении, – предлагает китайскому народу, в лице его правительства, ныне же вступить с нами в официальное сношение и выслать своих представителей навстречу нашей армии».
Обращение НКИД было опубликовано в «Известиях» от 26 августа 1919 г. за подписью Л. М. Карахана, заместителя народного комиссара по иностранным делам, заведующего Отделом Востока.
Во время Гражданской войны проблемы внешней политики были второстепенными, но по мере её окончания становились всё более актуальными. Переход к нэпу выявил необходимость налаживания прерванных в годы Гражданской войны политических и экономических связей с окружающим миром. Жизнь требовала перехода от «революционной дипломатии» к нормальной практике межгосударственных отношений. Именно в эти годы из-за утраты надежд на немедленное развёртывание социалистических революций в странах Запада, прежде всего в Европе, РКП(б) и Коминтерн делают первые шаги в разработке идеи «восточного маршрута» мировой революции, начинают активно искать в странах Востока, в том числе и в Китае, партнёров и союзников, формировать силы, способные включиться в антиимпериалистическую борьбу при поддержке и в союзе с коммунистами России. Азиатская ориентация Коминтерна и ЦК РКП(б), однако, не являлась альтернативой европейской: одно не исключало другого.
Общие контуры политики Советской России и Коминтерна в странах Востока были сформулированы в решениях II конгресса Коммунистического интернационала (июль – август 1920 г.). Они предусматривали, во-первых, активизацию усилий по формированию в странах Востока коммунистических групп – в перспективе партий, способных стать проводниками политики Коминтерна, пропагандистами идей марксизма и организаторами коммунистического и национально-освободительного движения. Во-вторых, исходя из того, что в странах Востока влияние идей коммунизма длительное время будет ограниченным, а национально-освободительные революции на «предстоящем» этапе «будут» по своему характеру буржуазно-демократическими, в решениях II конгресса была выдвинута задача поддержки коммунистами буржуазно-демократических, прежде всего, национально-революционных движений. Оставалось только неясным, какие силы могут быть отнесены к участникам национально-революционных движений. Это были общие установки, которые предстояло конкретизировать в ходе практической деятельности в условиях каждой страны.
В январе – апреле 1920 г. военные силы интервентов (кроме японцев) были эвакуированы с Дальнего Востока; последние японские части покинули Южное Приморье 25 октября 1922 г., а Северный Сахалин – в 1925 г.
6 апреля 1920 г. было объявлено об образовании между РСФСР и Японией Дальневосточной республики (ДВР) на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это был вынужденный шаг. Позднее, в декабре 1920 г., В. И. Ленин отмечал: «Обстоятельства принудили нас к созданию буферного государства – в виде Дальневосточной республики… Мы прекрасно знаем, какие неизмеримые бедствия терпят сибирские крестьяне от японского империализма… Но, тем не менее, вести войну с Японией мы не можем и должны сделать всё, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без неё, потому что нам она по понятным условиям совсем непосильна». Следует оговориться, что власть ДВР распространялась отнюдь не на весь регион. Одновременно существовали «читинская пробка» – белое семёновское правительство Забайкалья, которое пало только в октябре 1920 г. после эвакуации японских войск из Забайкалья, а также временное правительство Приморья – Приморская областная земская управа.
В августе 1920 г. пекинское правительство уведомило советское правительство о том, что оно согласно приступить к переговорам об установлении дипломатических отношений. До этого пекинские власти уклонялись от переговоров с Советской Россией, признавали посланника Российской империи Кудашева и продолжали до сентября 1920 г. выплачивать ему русскую часть «боксёрской контрибуции».
Летом 1920 г. в Пекин прибыла делегация Дальневосточной республики во главе с заместителем военного министра И. Л. Юриным[20]. В Москве в это время находилась военно-дипломатическая миссия Чжан Сылиня. Переговоры с самого начала натолкнулись на большой ряд трудностей, связанных, главным образом, с вторжением войск ДВР и Советской России в Монголию.
27 сентября 1920 г. китайской стороне была вручена нота Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР Министерству иностранных дел Китая с изложением основных пунктов, которые советское правительство предлагало взять за основу будущего советско-китайского соглашения. Этот документ являлся развитием положений, изложенных в «Обращении правительства РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и Северного Китая» от 25 июля 1919 г. В ноте НКИДа о втором документе отсутствовала апелляция к правительству Южного Китая, которое за прошедший после первого обращения год было свергнуто. Правительство РСФСР объявляло «…не имеющими силы все договоры, заключенные прежними правительствами России и Китаем», отказывалось от всех захватов китайской территории, от всех русских концессий в Китае и возвращало «…Китаю безвозмездно и на вечные времена всё, что было хищнически у него захвачено царским правительством и русской буржуазией». Российское и китайское правительства соглашались также «… заключить специальный договор о порядке пользования Кит[айской] Вост[очной] жел[езной] дор[огой] для нужд РСФСР, причём в заключении договора, кроме Китая и России, участвует также и Дальневосточная Республика».
В числе предлагаемых пунктов будущего соглашения присутствовало и обязательство китайской стороны «Разоружить, интернировать и выдать правительству РСФСР все находящиеся к моменту подписания настоящего договора на территории Китая отряды и организации, ведущие борьбу против РСФСР или союзных с нею государств, и передать правительству РСФСР всё их вооружение, припасы и имущество».
Нота была подписана заместителем народного комиссара иностранных дел Л. Караханом.
Переговоры, проходившие в Москве и Пекине, несмотря на неудачу, имели, тем не менее, известные результаты. В Китае была окончательно ликвидирована царская миссия, пекинское правительство отказалось от уплаты членам этой миссии не только доли «боксёрской» контрибуции, но и от содержания членов миссии из этой суммы. В сентябре 1920 г. было закрыто 19 консульств бывшей Российской империи в Китае, право консульской юрисдикции для русских белогвардейцев было отменено, русская концессия в Тяньцзине была передана в управление китайской администрации.
Шанхай с первых дней стал узловым пунктом всей деятельности Советской России в Китае. Ещё в августе 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) одобрило тезисы о коммунистической работе среди восточноазиатских народов. В сентябре 1919 г. во Владивосток с директивой Политбюро об организации «непосредственных практических действий в Восточной Азии (Китай, Корея, Япония) прибыл В. Д. Виленский-Сибиряков[21]. Его усилиями в Шанхае к маю 1920 г. был создан Дальневосточный секретариат III Коминтерна – „Восточный секретариат III Коминтерна“. Вся работа секретариата направлялась через входившие в него секции: китайскую, корейскую и японскую, которая оставалась „пока в зачаточном состоянии“.
Уже весной 1920 г. при Владивостокском отделении РКП был образован Иностранный отдел, который в апреле отправил в Китай (г. Пекин) группу коммунистов во главе с Г. Н. Войтинским[22] с целью изучения политической ситуации и установления связей с прогрессивными деятелями. Этим было положено начало планомерной организационной работы в странах Дальнего Востока и в первую очередь в Китае. Группа Войтинского быстро нашла взаимопонимание с китайскими сторонниками марксизма. По её инициативе и при её помощи стали создаваться первые марксистские кружки.
Такой кружок был организован в июле 1920 г. в Шанхае. Его руководителем стал Чэнь Дусю[23]. В формировании первых коммунистических ячеек в Китае Войтинскому и сотоварищи оказывали помощь эмигранты-интеллектуалы – профессора Тяньцзиньского и Пекинского университетов С. А. Полевой[24] и А. А. Иванов[25] (анархо-синдикалист), а также старые социал-демократы Е. А. Ходоров и А. Ф. Агарев, имевшие тесные связи с левыми кругами Китая.
Социальный состав первых марксистских кружков был неоднородным. Среди первых сторонников марксизма рабочих ещё не было, преобладала передовая учащаяся молодёжь, в основном вышедшая из социально-привилегированной среды. С 23 по 31 июля 1921 г. в Шанхае нелегально прошёл съезд представителей марксистских кружков, ставший и первым съездом Коммунистической партии Китая (КПК). На съезде присутствовало 13 делегатов от семи кружков, насчитывавших 53 человека. Большинство участников съезда выступили за создание боевой, дисциплинированной и хорошо организованной партии большевистского типа, цель которой – установление диктатуры пролетариата.
Новая обстановка требовала легализации узкой, конспиративной организации, каковой являлась партия Сунь Ятсена, и 10 октября 1919 г. Китайская революционная партия („Чжунхуа Гэминдан“) была реорганизована в Китайскую национальную партию („Чжунго Гэминдан“). Речь шла о преобразовании узкой, конспиративной организации, действовавшей в основном за пределами Китая, в массовую и боевую партию, действующую прежде него на основе местных ячеек внутри Китая. Начинался длительный и сложный процесс реорганизации Гоминьдана, превращения его в ведущую политическую силу национальной революции. Этот процесс происходил в принципиально новых условиях, связанных с постепенным созданием революционной базы в Гуандуне, что было связано с приглашением Сунь Ятсена в Гуанчжоу.
В июле 1920 г. на Севере Китая к власти пришла коалиция фэнтяньских (мукденских) и чжилийских милитаристов, которые свергли пекинское правительство Дуань Цижуя. Было сформировано новое правительство, в котором ведущую роль играл У Пэйфу.
В октябре этого же года военный губернатор провинции Гуандун генерал Чэнь Цзюнмин[26] захватил власть в провинции и предложил Сунь Ятсену пост в сформированном правительстве.
Существуют различные, причём документально подкреплённые полярные точки зрения на то, кто был больше заинтересован в контактах друг с другом – Советская Россия или Сунь Ятсен, и кому первому принадлежит инициатива установления взаимных контактов. Следует отметить, что обе стороны исходили, прежде всего, из соображений политической конъюнктуры. В первую очередь это касалось советского руководства. Чаще всего, особенно на первых порах, когда контакты набирали силу, неоднократно выяснялось, что Сунь Ятсен оказывался лишённым всех правительственных постов и представлял собой только частное лицо. Но как бы то ни было, доктор Сунь Ятсен воспринимался в Москве как главная фигура народно-освободительного движения в Китае.
Сунь Ятсен, со своей стороны, решился на сотрудничество с Советской Россией лишь после провала попыток получить поддержку со стороны капиталистических держав и ряда поражений во внутриполитической борьбе. При этом им двигало не только стремление получить финансовую и военную помощь, но и желание позаимствовать у победоносных большевиков кое-что из их революционного арсенала, их „технологию“ революции, опыт государственного и военного строительства. Представляется, что именно Сунь Ятсену после такого количества провалов и измен со стороны союзников – милитаристов такая помощь-сотрудничество была просто необходима; других союзников, на которых можно было бы положиться, больше не просматривалось. Разве что далёкий и сомнительный Чжан Цзолинь. Единственно, на чем настаивал Сунь Ятсен, это на сохранении конфиденциальной формы отношений с русскими. Первыми, кто весной 1920 г. встречался с Сунь Ятсеном, были бывший генерал-майор А. С. Потапови упоминавшийся уже бывший полковник М. Г. Попов.
А. С. Потапов был наделен широкими полномочиями и, вернувшись в Москву, представил ряд докладных записок сначала в НКИД, а затем в Коминтерн. „Д-р Сунь Ятсен, с которым я имел тесную связь в Шанхае, является ярым англофобом и врагом пекинского и кантонского (ныне распавшегося) правительства,“ – писал он в докладной записке на имя Г. Чичерина… Мы условились с ним о связи по имеющемуся у меня китайскому и английскому шифрам. Кроме его фотографии, я никаких от него документов не имею. В разных беседах он неоднократно высказывал недоверие к возможности нашего успеха проведения коммунизма в России». Он привёз с собой и письмо Чэнь Цзюнмина, адресованное В. И. Ленину. Потапов передал и своё личное письмо Владимиру Ильичу. При всей путанице в названиях и именах бывшему генерал-майору удалось дать довольно объективную оценку обоим лидерам и разглядеть принципиальную разницу в позициях Сунь Ятсена и Чэнь Цзюнмина. Это были два разных пути развития Китая; более того, это были два пути развития советско-китайских отношений. И симпатии Потапова были на стороне Чэня.
О встречах полковника Попова (судя по всему, имевшему мандат Приморской областной земской управы) с Сунь Ятсеном можно судить только по иностранным источникам. Результат встречи и здесь оказался не в пользу китайского лидера. Доктор Сунь предложил так называемый Северо-Западный план – то есть введение частей Красной армии через Туркестан в северо-западные провинции Китая для дальнейшего похода на Пекин. План этот с военной точки зрения показался Попову в высшей степени сомнительным. А по сути, это было предложение использовать одних «милитаристов» (в данном случае русских) против других – китайских. Самому же Сунь Ятсену полковник Попов дал при этом весьма негативную оценку его автору, как «старомодному милитаристу, который не видит иного пути спасения своей родины, кроме военного». О военных инициативах Сунь Ятсена и их развитии ещё пойдёт речь.
В 1920 г. в Шанхае и Кантоне Сунь Ятсен встречался и беседовал с Г. Н. Войтинским, а в следующем году – с работником Коминтерна Г. Марингом[27].
В ноябре 1920 г. Сунь Ятсен передал советскому правительству предложение о том, чтобы «…Красная армия начала своё наступление весной (1921 г. – Авт.) со стороны русского Туркестана на Синьцзян». И это предложение было принято.
В начале 1921 г. части Р. Ф. Унгерн-Штернберга вытеснили китайские войска с территории Внешней Монголии. По просьбе «Временного народного правительства Монголии» РСФСР оказала военную помощь для борьбы с белогвардейцами. В мае 1921 г. Красная Армия, наступая из Западного Туркестана, вошла на территорию Внешней Монголии и Синьцзяна (Китайского, или Восточного, Туркестана).
Если из Синьцзяна РККА в дальнейшем пришлось отвести свои войска, то Внешняя Монголия была надолго превращена в «передовой форпост Коминтерна в Центральной Азии». 5 ноября 1921 г. был подписан советско-монгольский договор об установлении дружественных отношений. Монголия стала первой страной на Дальнем Востоке, с которой Советская Россия установила дипломатические отношения.
В апреле этого же года в Гуанчжоу (Кантоне) открылась чрезвычайная сессия избранного в 1912 г. китайского парламента, который абсолютным большинством голосов избрал Сунь Ятсена чрезвычайным президентом Китайской Республики. Формально в состав вновь провозглашённой республики вошли пять южных провинций. Но союз их был эфемерен, а Сунь Ятсен не контролировал полностью даже единственную провинцию Гуандун, которую стремился сделать базой революционных сил страны, оплотом объединительного похода на Север Китая. Пекинское правительство и иностранные державы заявили о непризнании результатов президентских выборов в Гуанчжоу. Таким образом, помимо двух парламентов – в Пекине и Кантоне – в Китае оказалось и два президента.
Практически, вплоть до съезда народов Дальнего Востока (21 января – 2 февраля 1922 г.) представители Коминтерна ориентировались, прежде всего, на форсирование развития Компартии Китая (КПК) и коммунистического движения в стране, рассчитывая на относительно быстрый его рост за счёт установления связей партии с рабочими, солдатами и учащейся молодёжью. Предполагалось, что практически с первых шагов Компартия Китая может ставить своей целью борьбу за социализм и размежевание с непролетарскими политическими организациями.
Съезд народов Дальнего Востока рекомендовал КПК наряду с выполнением главной задачи партии – классовое воспитание и организация пролетариата – создать единый национальный антиимпериалистический фронт с революционной демократией в лице Гоминьдана. Последний был назван национально-революционной партией Китая, не коммунистической, но солидарной с Коминтерном в борьбе против империализма.
После переговоров представителя Коминтерна Г. Маринга (Х. Снейвлита) с Сунь Ятсеном и другими деятелями Гоминьдана Исполком Коммунистического интернационала одобрил летом 1922 г. идею о вступлении коммунистов в Гоминьдан. Несмотря на негативное отношение руководителей КПК к Гоминьдану, они подчинились этому решению Коминтерна. По сути, речь шла о тактическом манёвре, направленном на создание внутри Гоминьдана устойчивых коммунистических групп, о расколе Гоминьдана и завоевании коммунистами руководства в национально-революционном движении.
Значение Китая в политике Коминтерна и, соответственно, в планах мировой революции трудно переоценить. Оно было сравнимо разве что с тем значением, которое на Западе имела для Коминтерна Германия.
С целью закрепления на правовой основе изменений в международной обстановке на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии состоялась Вашингтонская конференция девяти ведущих государств с участием Китая[28] (12 ноября 1921 г. – 6 февраля 1922 г.). Решения Вашингтонской конференции служили своего рода «дальневосточным дополнением» к Версальскому мирному договору 1919 года. Делегации Советской России и ДВР на конференцию приглашены не были.
На Вашингтонской конференции потерпела крах попытка установить режим интернационализации КВЖД. Проблема Китайско-Восточной железной дороги вновь вернулась в плоскость советско-китайских отношений.
Состав милитаристских группировок в Китае постоянно менялся – создавались новые и распадались старые коалиции, что сказывалось и на составе контролируемых ими территорий. Неизменными оставались лишь имена: Чжан Цзолинь, У Пэйфу, Цао Кунь, Дуань Цижуй, Янь Сишань и др. Вчерашние заклятые враги становились ненадолго «верными и преданными» союзниками. И так из года в год – до Сунь Ятсена, при нём и после его смерти. Подобная коллизия во многом объяснялась вековыми традициями китайцев, их неизменным отношением к войне и особенностями китайского менталитета.
Китайская военная наука всегда руководствовалась, по сути, одной доктриной, предполагавшей, что настоящий воин побеждает не воюя. Столь сдержанное отношение к войне имело свои объективные причины: даже успешные войны с сопредельными странами не столько обогащали страну, сколько разоряли её. Китайские императоры не имели ни ресурсов, ни, в сущности, потребности для расширения границ своей державы за счёт степей на севере или горных массивов – на западе. Колонизация же Юга была осуществлена в основном мирным путём.
Китайский стратег избегал открытого противоборства, прежде всего, потому, что всякая конфронтация, по его мнению, была непродуктивна, разрушительна для обеих сторон. Как гласит старинная китайская поговорка, «когда дерутся два тигра, воронью и шакалам будет много поживы». Китайский стратег побеждал потому, что умел уступать. Он добивался своей цели, лишь следуя выпадам противника. Китайская мудрость состояла в «победе без боя». Отсюда и другая старинная китайская поговорка: «Уход – лучшая стратегия». Соображения же репутации и престижа были несущественны там, где речь шла о жизни и смерти и о сохранении для себя возможности вернуться и победить.
Отчего вообще умение уступить помогало одержать верх в конфликте? Считалось, что ответ очевиден: только сжатая пружина может больно ударить. Это не совсем так. У китайской пружины всегда был ограничитель, который смягчал силу её удара. Китайский военный теоретик и полководец Сунь-Цзы, живший в VI в. до нашей эры, автор древнейшего в мире трактата «Искусство войны», рекомендовал: «Окружая неприятельскую армию, оставляйте хотя бы один проход свободным. Не нажимайте слишком сильно на врага, уже находящегося в отчаянном положении».
Тем не менее, вся китайская история первой половины XX в. – это череда почти непрерывных войн, само ведение которых свидетельствовало о нарушении традиционно негативного отношения к войнам. Вместе с тем и в этот период искусство войны состояло в том, чтобы, нанося удар противнику, бить его не «до смерти» и не лишать его пути к отступлению. Следовало поступать так отнюдь не из жалости к противнику, а из чисто прагматических соображений: чтобы, во-первых, не ослабить себя в кровопролитных сражениях и не стать лёгкой «добычей» в руках сегодняшних союзников и, во-вторых, иметь возможность использовать войска поверженного противника для дальнейших комбинаций и схваток. Чаще всего комбинаций. В этой связи милитаристы, как старые, так и новые (значительно чаще), никуда не пропадали после очередного поражения, а, «оправившись», вновь заявляли о себе в том или ином альянсе. До очередного поражения или победы, опять-таки неокончательной.
Представляется, что к складывавшейся на полях сражения Китая ситуации на протяжении первой половины XX в. очень подходила характеристика, данная англичанином А. Г. Смитом китайцам ещё в 1904 г. Смит писал: «Китайские собаки вообще не имеют склонности преследовать волков, и когда вы видите, что собака гонится за волком, то, в конце концов, по всей вероятности, собака и волк разбегутся, если не в противоположные стороны, то, по крайней мере, под прямым углом».
В апреле – мае 1922 г. состоялась так называемая первая война между состоявшими ранее в коалиции чжилийской и фэнтяньской группировками. Война завершилась победой чжилийцев во главе с У Пэйфу и Цао Кунем, пользовавшимися финансовой поддержкой США и Англии. После победы У Пэйфу были восстановлены «старый» парламент с Ли Юаньхуном на посту президента (Сюй Шичан подал в отставку с поста президента) и «старая» конституция. В течение нескольких месяцев представители У Пэйфу и Сунь Ятсена вели переговоры о возможности совместных усилий по объединению страны.
Потерпевший поражение Чжан Цзолинь издал декларацию о независимости Трех Восточных провинций, в которой, в частности, отмечалось: «1. Три провинции – Маньчжурия, Внутренняя и Внешняя Монголия не могут быть признанными составляющими часть Китайской Республики…»
Тем временем 16 июня 1922 г. Чэнь Цзюнмин совершил переворот. Чэнь не поддерживал суньятсеновскую идею Северного похода и объединения страны под властью Гоминьдана военным путём; более того, он считал поход на Север Китая авантюрой.
Сунь Ятсен вынужден был покинуть провинцию Гуандун. Поселившись вновь на территории французской концессии в Шанхае, доктор Сунь попытался извлечь уроки из своих прошлых поражений. Прежде всего, он решил стать независимым от милитаристов и для этого завершить создание хорошо организованной партии, опирающейся на собственную партийную армию и поддержку народных масс. Но все это были долгосрочные перспективы, а пока приходилось заниматься поисками союзников для борьбы с Чэнь Цзюнмином среди тех же милитаристов.
Глава 1. Советская военная разведка в Китае (1922 – март 1927 г.) «Когда лучник промахивается, он должен искать причину в себе» (Конфуций)
«XII. Использование шпионов.1. Мобилизация ста тысяч человек и отправка на большие расстояния предполагает серьёзный убыток населения и опустошение казны государства. Ежедневное содержание такого войска достигает тысячи унций серебра.
Возникает потрясение дома и вдали от дома: люди падают от голода на больших дорогах.
Затрудняется работа примерно семисот тысяч семей.
2. Враждебные армии могут годами противостоять одна другой с неутолимым желанием победы, вопрос о которой решится в один-единственный день. Поэтому оставаться в неведении относительно истинного положения вещей на вражеской стороне только из-за того, что жаль потратить сотню унций на награды и жалованье [Следовало бы, наверное, добавить – „шпионам“, хотя это, возможно, повлияло бы на возвышенный стиль фразы. – Комментарий переводчика Лайонела Джайлса] было бы в высшей степени неразумно и бесчеловечно. Поступающий таким образом не может руководить людьми, его помощь государю сомнительна, и вряд ли он сможет достичь победы в ратном деле».
Сунь-Цзы. Искусство войны.
1.1. «Международная коммунистическая партия»
Коминтерн в это время был «штабом мировой революции», интернациональной «партией гражданской войны», вдохновителем коммунистических организаций в десятках странах мира, однако не в последнюю очередь он служил инструментом внешней политики СССР. Практика Коминтерна на всем протяжении его существования (1919–1943) являлась неотъемлемой частью дипломатической, военной и разведывательной деятельности Советского государства.
Однако при оценке деятельности Коминтерна, всегда крайне негативно характеризовавшейся на Западе, следует различать «желаемое» и «действительное», пропаганду и реальность. По агитационно-пропагандистским, идеологическим соображениям Коминтерн часто преувеличивал масштаб своих планов революционного преобразования планеты и соответствующих действий. По тем же самым соображениям (но исходя из совершенно других интересов) западные средства массовой информации всячески раздували и распространяли плакатный образ Коминтерна как международного центра подрывной деятельности, мирового терроризма и шпионского подполья.
В реальности же Коминтерн был одним из орудий борьбы с международной изоляцией, экономической и морально-психологической блокадой со стороны превосходящих сил мирового капитализма. Поэтому даже те или иные наступательные действия Коминтерна были не столько попыткой действительно свергнуть власть капитала в том или ином уголке земного шара, сколько контрударом, вылазкой защитников осаждённой крепости с целью сорвать, предотвратить, ослабить возможный штурм. И «осаждавшие» знали это. Но их страшили сам факт существования СССР и возможность международного объединения противников капитализма. Исходя из этого, очевидно, и следует оценивать как сам Коминтерн, так и его противников.
В 1919 г., в момент провозглашения советских республик в Венгрии, Баварии, Словакии, В. И. Ленин говорил, что Коммунистический интернационал с самого начала стал «…совпадать в известной мере с Союзом Советских Социалистических Республик». В Уставе Коминтерна, принятом на его втором конгрессе в Москве (19 июля – 7 августа 1920 г.) содержалось определение цели Коминтерна: «Борьба всеми средствами, также и с оружием в руках, за низвержение международной буржуазии и создание Международной советской республики как переходной ступени к полному уничтожению государства». Единственным средством освобождения человечества от капитализма, от эксплуатации и угнетения масс Коминтерн считал диктатуру пролетариата, а советскую власть – «…исторически данной формой этой диктатуры пролетариата». В уставе было записано, что Коминтерн «…обязуется всеми силами поддерживать каждую советскую республику, где бы она ни создавалась». В 1928 г. в документах Коминтерна было зафиксировано, что он является «единой и централизованной международной партией пролетариата», а его программа – «программой борьбы за мировую пролетарскую диктатуру, программой борьбы за мировой коммунизм». В 1938 г. советская энциклопедия назвала Коминтерн «…единственной мировой коммунистической партией», которая «…борется за создание Всемирного Союза Советских Социалистических Республик».
Однако на Востоке в деятельности Коминтерна неизбежно возникало противоречие: интернационализм, проповедуемый «пролетарской Меккой», столкнулся с поднимавшим голову национализмом. Коминтерн повсюду раздвигал рамки национальных движений, но все его попытки поставить национально-освободительную борьбу под главенство пролетариата, «советизируя» одну страну за другой, терпели неудачу. И, тем не менее, деятельность Коминтерна явилась одним из факторов изменения соотношения сил между Европой и Азией. Она способствовала распаду колониальных империй, и в этом, как и в усилении позиций СССР, а не в пропаганде мировой революции, заключается основное международное историческое значение Коммунистического интернационала.
Конечно, теоретически Коминтерн должен был быть равноправным объединением компартий. Более того, исходя из установки на победу пролетарской революции на Западе, изначально предполагалось, что западные компартии будут играть в нём ведущую роль. Однако этого не произошло, прежде всего, из-за предательства социал-демократов, а также вследствие малочисленности и ограниченного влияния этих партий. Им было не до руководящей роли в мировой революции, так как они вынуждены были бороться в первую очередь за выживание в тяжёлых условиях политической изоляции и жестоких преследований, которые если и удавалось преодолевать, то в основном благодаря международной солидарности единомышленников и материальной помощи извне. Источником и того, и другого могла быть только революционная Россия (с 1922 г. – СССР), самим ходом событий выдвинутая на доминирующую позицию в Коминтерне.
Это привело к тому, что компартии страдали не только от собственных «детских болезней» (левого экстремизма, сектантства, доктринерства), но и от ошибок руководства большевиков, которые зачастую неадекватно оценивали политическую реальность за пределами России (да и внутри её) и стремились искусственно подогнать её под свои политические лекала.
Связь революции и войны в мировоззрении большевиков имела органический характер. В 1916 г. в статье «Военная программа пролетарской революции» В. И. Ленин высказал тезис о том, что «…не может в настоящее время быть большой войны, которая рано или поздно не развернулась бы в войну мировую, и… не может быть большой революции, которая бы не задела всего мира… развиваясь в мировую революцию». Этот ленинский тезис оставался мировоззренческим кредо и стратегической установкой советского руководства на протяжении всех лет существования Коминтерна.
Сложность такого явления, как Коминтерн, состояла в том, что, с одной стороны, Коммунистический интернационал выражал стремление большевиков раздвинуть территориальные пределы своей власти, а с другой – колоссально ослабленная революционной разрухой Россия сама превращалась в объект передела, и программа мировой революции объективно работала на то, чтобы не допустить «растаскивания России по кускам».
Учреждение Коминтерна состоялось на I конгрессе в Москве 2–6 марта 1919 г., но фактически, как говорил В. И. Ленин, «III Интернационал… создался в 1918 г… во время войны». На территории России находились сотни тысяч военнопленных германской, австро-венгерской и турецкой армий. Были также рабочие-отходники – из Турции, Ирана, Кореи и Китая. Всего в 1917–1920 гг. на территории России находилось не менее миллиона граждан из сопредельных стран Востока.
Большевистская пропаганда в этой среде, ставшей первым полем деятельности Коммунистического интернационала, явилась одной из «…важнейших страниц в деятельности Российской коммунистической партии». Разъехавшись впоследствии по своим странам, бывшие военнопленные, по словам В. И. Ленина, «…добились того, что бациллы большевизма полностью подчинили эти страны своей власти».
Создание III Интернационала означало готовность начать революцию в любой стране, которая окажется следующим за Россией слабым звеном – в смысле истощения военными действиями или нового статуса в послевоенном мире.
В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий приурочили созыв I конгресса к работе Парижской мирной конференции, итогом которой стало подписание 28 июня 1919 г. Версальского мирного договора. Коминтерн с первых дней существования объявил себя организацией «анти-Версаль». Тем самым он приобретал черты, которые никакой коммунистической теорией не предусматривались. «Вся система версальской политики, – писал член Исполкома Коминтерна К. Б. Радек, – базировалась на уничтожении не только Советской России, но и на уничтожении России как великой державы» (курсив Радека. – Авт.). Лозунг строительства всемирного «здания советского строя» начинал, таким образом, служить решению иной исторической задачи – отстоять единство территории России в переплетении двух войн, мировой и гражданской, защитив «осаждённую крепость» площадью 22 млн квадратных километров.
Большевики делали ставку на то, что в условиях всемирного военного катаклизма им удастся развязать революцию на Западе. Эта идея доминировала на I конгрессе Коминтерна. «Победа коммунизма в Германии, – говорил первый председатель Коминтерна Г. Е. Зиновьев, – совершенно неизбежна… И притом – уже в ближайшие месяцы, может быть, даже недели… Через год вся Европа будет коммунистической». В соответствии с этим провозглашалось, что «…освобождение колоний мыслимо только с освобождением рабочего класса метрополий». Но схема продвижения революции от европейских метрополий к азиатским колониям и полуколониям рухнула в том же, 1919 г., когда и была выдвинута. На смену ей пришла «азиатская ориентация».
Решение конкретного вопроса, что целесообразней – развернуться «лицом к Западу» или «лицом к Востоку», зависело от международной конъюнктуры и убеждённости большевиков в том, что послевоенный период международных отношений есть период междувоенный. «Последняя война, – отмечалось в документах Коминтерна в 1921 г., – была… европейским предисловием к действительно мировой войне», неизбежность которой вытекала из коминтерновской концепции двух осей мировой политики. Одной «осью борьбы» (противоречий послевоенного передела мира) представляли в 20-е гг. отношения в треугольнике США – Англия – Япония. «Группировка сил международной революции (Российская Советская Федерация и III Интернационал) составляла „вторую ось мировой политики“».
Деятельность Коминтерна строилась по обеим осям борьбы и зависела от их взаимного смещения. «Мировая война, – отмечал К. Б. Радек, – окончилась победой Северо-Американских Соединённых Штатов (так назывались США в России и отдельных официальных советских документах до начала 1940-х гг. – Авт.) в мировом масштабе, торжеством Англии в Европе и Японии – в Восточной Азии», при этом «…Англия оказывает противодействие гегемонии Соединённых Штатов», а «Франция… оспаривает гегемонию Великобритании». Существенным для мировой политики считались взаимоотношения именно этих стран. «Кроме Советской России, – подчёркивал К. Б. Радек, – только они являются субъектами мировой политики. Все остальные лишь её объекты».
Страны Востока как объекты мировой политики служили колониальным «тылом» западных держав и давали первоклассный «горючий материал», использование которого расширяло плацдарм революции и соответственно укрепляло международное положение СССР. Отсюда необходимость поддержки национально-освободительных движений идеями, людьми, деньгами, оружием всюду, где подобное оказывалось возможным.
Коминтерну, провозгласившему себя мировой партией революционного действия, были свойственны строгая международная дисциплина, стремление ко всё большей централизации, к превращению в структуру с ярко выраженными командными полномочиями, ограничивая при этом самостоятельность и самодеятельность национальных партий. Вместе с тем Коминтерн являлся движением, объединяющим значительные массы рабочих во многих странах.
Высшим органом Коминтерна являлись конгрессы. Между конгрессами руководство осуществлялось Исполнительным комитетом (Исполкомом) Коминтерна (ИККИ). Устав закреплял за ИККИ право и обязанность издавать не менее чем на четырёх языках центральный орган Коминтерна – журнал «Коммунистический интернационал», следить за созданием нелегальных коммунистических организаций, а также право создавать в различных странах целиком подчинённые ему технические и иные вспомогательные бюро.
В качестве руководящих органов Исполкома Коммунистического Интернационала первоначально выступали Президиум, Оргбюро и Секретариат. Оргбюро занимался вопросами отдельных компартий – секций Коминтерна, а Секретариат ИККИ являлся «исполнительным органом ИККИ, его Президиума и Оргбюро». Организационное бюро ИККИ, которое должно было заниматься вопросами организационной структуры отдельных компартий – секций Коминтерна, а также осуществлять «надзор за подпольной работой в отдельных секциях», так как «контрреволюция из месяца в месяц наглеет и не ограничивается одной политической областью, а прибегает в борьбе с коммунистами к террору, убийству и каторге».
Для практической работы Исполкомом Коммунистического интернационала был создан аппарат, который на протяжении всей истории Коминтерна подвергался реорганизациям – в зависимости от стоявших политических задач или от перипетий внутрипартийной борьбы в рядах РКП(б). В состав аппарата ИККИ входили отделы, ведавшие определёнными отраслями работы.
В августе 1920 г. Малое бюро, ставшее впоследствии Президиумом, приняло решение о создании Секретного отдела (взамен образованной вскоре после I конгресса «Особой комиссии по связи ИККИ»). 11 ноября 1920 г. решением Малого бюро ИККИ отдел оформился как Конспиративный отдел во главе с Д. Бейко (Бэйка)[29]. С июня 1921 г. Конспиративный отдел стал называться Отделом международной связи. Для деятельности Бейко, как и для деятельности его земляка Яна Берзина было характерно использование своих соотечественников. При нём ключевые позиции в аппарате ОМСа заняли латыши, некоторые из них так и остались работать в Коминтерне после его ухода.
После IV конгресса Коминтерна (5 ноября – 5 декабря 1922 г.) в аппарат Коминтерна входили Организационный отдел, Отдел международной связи, Восточный отдел, Информационно-статистический отдел, Агитационно-пропагандистский отдел, Издательский отдел, журналы ИККИ и целый ряд комиссий и других подразделений, создаваемых и Президиумом, и Секретариатом, и Оргбюро.
По решению Оргбюро от 11 декабря 1922 г. при Орготделе была образована «Постоянная комиссия по работе в армии», с ноября 1924 г. – постоянная Военная (Антивоенная или Военно-конспиративная) комиссия. Она называлась также Комиссия «М» – «милитаристская». Комиссия начала развёртывать работу под руководством Ф. Петрова (Ф. Ф. Раскольников). В неё входили также В. Мицкявичус-Капсукас[30], И. Уншлихт, являвшийся в то время заместителем председателя ВЧК, и О. Гешке[31]. В последующем в состав комиссии включили представителей от Исполкома КИМа, Компартии Чехословакии и компартий романских стран. Комиссия «М» строила свою деятельность по трём основным направлениям: антиимпериалистическая работа в армии и флоте капиталистических стран; пропаганда вопросов, связанных с подготовкой к революционной вооружённой борьбе; организация пролетарской самообороны и борьба против провокаций.
Комиссия занималась также организацией подготовки кадров военных работников для ряда компартий, в основном через военные заведения Советского Союза. Особенно активно комиссия работала осенью 1923 г. в связи с подготовкой к революционным боям в Германии.
Учитывая, что ряд секций Коминтерна находился на нелегальном положении, а также считаясь с возможностью перехода на подобное положение и других партий, Оргбюро ИККИ при Организационном отделе была создана комиссия, которая в начале января 1923 г. получила название «Постоянная нелегальная комиссия» («Постоянная комиссия по нелегальной работе»). Эта комиссия должна была заняться «подготовкой соответствующих партий» к нелегальной работе. В ноябре 1924 г. в её состав вошли: В. Мицкявичус-Капсукас (руководитель), В. Богуцкий[32], М. А. Трилиссер, О. Гешке, Ф. Эйдукевич[33] (секретарь), а также представители Исполкома КИМа и компартий романских стран. Работа обеих комиссий была взаимосвязана.
По одному из удачных сравнений, Коминтерн представлял собой, подобно айсбергу, две неравные части. Меньшая часть айсберга, находившаяся на поверхности, – это конгрессы, пленумы ИККИ, учебные заведения – Международная ленинская школа (1925–1928), Коммунистический университет трудящихся Востока (1921–1928), Университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена, переименованный в Коммунистический университет трудящихся Китая (1925–1930) и др. К «надводной части айсберга» относились и создававшиеся Коминтерном организации – Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн)[34], Крестьянский интернационал (Крестинтерн), Коммунистический интернационал молодёжи (КИМ)[35], Антиимпериалистическая лига, различные международные антифашистские организации, Международная организация помощи борцам революции (МОПР)[36], Международная организация рабочей помощи (Межрабпом)[37], Международный комитет друзей СССР, Интернационал свободомыслящих пролетариев, Красный спортивный интернационал (Спортинтерн) и другие.
Большая же часть «айсберга» была не видна, утверждали авторы этого образного сравнения. Это был мир «подпольной политики», и здесь главной организационной структурой был ОМС – Отдел международной связи (встречается также название «Отдел международных связей») ИККИ, контролировавший тайную деятельность, финансы, кадры, державший в руках «все связи и всю агентуру». Вышеуказанную точку зрения подтверждает и Айно Куусинен, референт по Скандинавии Информационного отдела ИККИ, не имевшая никакого отношения к ОМСу, и могла опираться только на слухи, окружавшие этот Отдел: «Наиболее секретным был Отдел международных связей (ОМС). Это был мозговой центр, святая святых Коминтерна. Сеть уполномоченных ОМСа охватывала весь мир. Через его агентов руководителям компартий отдавались приказы Коминтерна. Уполномоченные ОМСа передавали компартиям средства, выделяемые Коминтерном на их партийную деятельность и пропаганду… Этому отделу подчинялись все тайные торговые предприятия, депутации и секретные службы информации. Отдел также занимался редактированием, шифровкой и расшифровкой донесений и пропагандой.
Кроме того, ОМС был связующим звеном между Коминтерном и Разведслужбой Генерального штаба, а также между Коминтерном и тайной полицией».
Если с первой частью утверждения насчёт надводной части айсберга можно и согласиться, то вторая его часть ни в коей мере не соответствовала действительности. К миру «подпольной политики» относились в первую очередь уполномоченные (представители), инструкторы ИККИ. Именно они осуществляли конкретную, повседневную работу с иностранными компартиями, в том числе и находившимися на нелегальном положении. Именно они должны были организовывать работу иностранных компартий в армии, и сами принимали в «антиимпериалистической работе» активное участие, именно они должны были готовить компартии к нелегальной работе. Руководство деятельностью таких представителей Исполкома Коминтерна за рубежом осуществлялось непосредственно через Орготдел. Последующая вертикаль принятия решений замыкалась на Оргбюро (с декабря 1927 г. в связи с ликвидацией Оргбюро, его функции, в части касающейся, были переданы Политсекретариату ИККИ).
Отдел международной связи при всей своей важности и незаменимости играл в деятельности Коминтерна обеспечивающую роль, и не более того. И приписывать ОМСу не свойственные ему функции совершенно не следует, в том числе и насчёт связующей роли отдела между Коминтерном и Разведупром. Хотя это и не означает, что сами сотрудники ОМСа и его руководители не всегда адекватно сознавали своё место и предназначение, которое в определённой степени поддерживалось и культивировалось у них отдельными руководителями ИККИ, а также распределением обязанностей между отделами и секретариатами Исполкома Коминтерна. Сознание собственной избранности в организации далеко не всегда положительно сказывалось на результатах работы. Но об этом отдельно.
Следует более подробно остановиться на функционировании ОМСа, так как в 1930–1931 годах вопрос освобождения арестованных сотрудников поста ОМСа в Шанхае вынужденно занимал не последнее место в деятельности Рихарда Зорге во время его командировки в Китай.
Отдел международной связи был, пожалуй, единственным из отделов аппарата ИККИ, который с 1921 по 1936 г. не менял своего названия.
Главной задачей ОМС являлось осуществление посредством своих пунктов конспиративных связей между ИККИ и коммунистическими партиями, что включало в себя пересылку директив, информации, документов и денег для финансирования зарубежных компартий, нелегальную переброску людей «по суше и по морю» из страны в страну, отправка отобранных кандидатов для обучения в Советский Союз. Через пункты ОМСа за границей в Москву поступали информационные материалы от зарубежных компартий. Отдел международной связи и его пункты занимались изготовлением фальшивых паспортов, организацией явочных квартир, распространяли марксистскую литературу, в том числе через созданные ими книжные экспедиционные конторы.
Первым заведующим ОМСа был назначен Иосиф Аронович Пятницкий[38] (настоящие имя и фамилия Иосель Ориолов Таршис), опытный деятель революционного подполья в России. Позднее И. А. Пятницкий был известен как Осип Пятницкий (без отчества). В документах и литературе, посвящённой Коминтерну, существует разнобой в использовании имени Пятницкого. Сын Пятницкого, Владимир Иосифович, считает возможным называть отца – Осипом. Тем не менее, ранее и далее по тексту, используются инициалы И. А., так как в официальных документах Пятницкий проходил как Иосиф Аронович.
Существует байка, поведанная Владимиром Иосифовичем, о происхождении псевдонима отца, ставшего впоследствии фамилией одного из известных руководителей Коминтерна: «Социал-демократки мать и дочь Бахи придумали в целях конспирации прозвище „Фрейтаг“ (в переводе с немецкого „Пятница“), так как он постоянно назначал им встречи по пятницам».
Пятницкий был одним из революционеров-профессионалов – агентом печатного органа РСДРП «Искры», отвечавшего за доставку газеты в Россию и её распространение. Именно он, по свидетельству представителя ОМСа в Польше И. М. Бергера, много лет проработавшего с Пятницким, «…организовал массовую переброску большевистской литературы с Запада на Восток, из Лейпцига в Питер и Москву, имея в своём распоряжении ограниченные средства, а против себя – всю мощь царского аппарата».
Однако бесценный опыт нелегальной работы без своего развития в меняющейся обстановке, в новых условиях подпольной деятельности становился штампом и препятствием в работе. Сотрудница ОМСа Анна Разумова на вопрос, заданный ей в ходе допроса сотрудником Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД в 1937 г., рассказать о И. А. Пятницком как руководителе Коминтерна, ответила: «Вы помните, как Пятницкий перевозил „Искру“ в чемоданах с двойным дном? Да-да. И вот, представьте, когда мы в Коминтерне уже в 1920–1930-е годы везли материалы и т. д., он навязывал, чтобы мы так действовали. Хотя уже времена были другие, у него этот способ остался в памяти».
Чемодан с двойным дном – это образ, характеризовавший в данном случае восприятие Пятницким требований конспирации. Подобное легковесное отношение к этим требованиям, являвшимся залогом «выживания» нелегала во враждебной среде (а, вернее, пренебрежение к их соблюдению), проявилось спустя много лет во время пребывания Зорге в Китае. Всё это ни в коей мере не означало отказа от осмысления опыта подпольной работы партии, и преломления его к «современной» действительности.
С 19 декабря 1922 г. пост заведующего Отделом международной связи занимал Павел Александрович Вомпе[39]. После его смерти в августе 1925 г. руководителем ОМСа был утвержден М. Г. Грольман[40], в недавнем прошлом сотрудник Региструпра Полевого штаба Революционного военного совета Республики (РВСР).
Вскоре Грольмана сменил А. Е. Абрамович, известный в Коминтерне под фамилией «Альбрехт»[41]. Особого рвения Абрамович в должности заведующего ОМСа не проявлял. В апреле 1926 г. он обратился в Секретариат Исполкома Коминтерна с заявлением, в котором довольно сумбурно объяснял, что используется в Коминтерне неправильно, сидит зачастую без дела, а «…добавочная работа в Орготделе, которая… до сих пор представлялась, носит больше номинальный характер». Абрамович входил от ОМСа в состав руководства Орготдела. В заключение он попросил освободить его от обязанностей заведующего ОМСа и откомандировать в распоряжение ВКП(б). В сентябре Абрамович действительно ушёл с занимавшегося им поста и перешёл снова в Орготдел на должность референта. Однако уже в начале января 1927 г. постановлением Секретариата ИККИ он был командирован в Шанхай. После непродолжительной, но бурной деятельности Абрамович был отозван из Китая, который покинул 23 апреля 1927 г. В декабре этого же года он вернулся в Шанхай уже в качестве представителя ОМСа.
По определению деятельность Отдела международной связи и его пунктов за рубежом должна была носить конспиративный характер. Однако этого не произшло.
С начала 20-х годов работники ОМСа, как правило, являлись сотрудниками посольств СССР, торгпредств, представительств ТАСС и других легальных советских организаций за границей. Уже один факт использования советских представительств за рубежом в качестве прикрытия для сотрудников пунктов ОМСа способствовал расконспирации их деятельности.
В докладной записке одного из руководителей службы связи ИККИ (так стал называться с 1936 г. ОМС) от 4 марта 1939 г. по так называемому «делу Рюэггов» (известно также как «дело Ноуленсов») (Яков Рудник, руководитель пункта связи ОМСа в Шанхае, и его жена, арестованные в Шанхае в 1931 г.) указывалось: «До 1927 г. в страны, где имелись дипломатические представительства, работники ОМСа посылались легально с дипломатическими или служебными паспортами, то есть для властей и остальных сотрудников учреждения они числились обыкновенными сотрудниками, на деле же вели работы исключительно для ОМСа. Вся связь с Москвой – деньги, телеграммы, посылка почты и печатного дела – производилась через аппараты НКИД, и часть своей работы сотрудники ОМСа выполняли в стенах посольства. После обыска помещений Аркоса в Англии, сов[етского] посольства в Пекине в 1927 г. решено было реорганизовать работу ОМСа во всех странах на новых, более конспиративных началах. Работникам ОМСа было запрещено встречаться с иностранными коммунистами в советских учреждениях, держать там нелегальные архивы или заготовлять фальшивые паспорта. Диппочтой можно было пользоваться только для получения денег и посылки шифрованных денежных отчётов, а также по вопросам въездных виз в СССР для иностранцев по линии К[оммунистического] И[нтернационала]».
Однако, и после 1927 г. соблюдение требований конспирации в деятельности сотрудников пунктов ОМС далеко не везде соблюдались. Пример тому аресты упоминаемой выше четы Рудников.
В структуре ОМСа имелись подотделы: пунктов связи, литературный, курьерский, «техники», финансов.
Снабжение иностранных партийных деятелей и сотрудников Коминтерна документами прикрытия, и в первую очередь паспортами, возлагалось на подотдел «техники». Существовало несколько способов получения паспортов. Первый из них, самый простой и далеко не самый надёжный, заключался в следующем. Иностранный коммунист, проживавший в СССР, передавал свой паспорт в ОМС Коминтерна, где документ «подправлялся» с учётом данных человека, которому он предназначался. Понятно, что подготовленный таким образом документ, который назывался «промытым» паспортом, часто причинял массу неприятностей своему новому владельцу, а сам способ не обеспечивал все возраставшую потребность в легализационных документах. Полностью поддельными документами в Коминтерне практически не пользовались.
Особенно ценились паспорта Швейцарии, которые позволяли их владельцам путешествовать по странам Западной Европы без визы. Наиболее надёжным был способ получения швейцарских паспортов с привлечением полицейских чиновников, которые сотрудничали с местной компартией на идеологической или материальной основе. Так, полицейский служащий (псевдоним «Сапожник») паспортного стола в г. Вале с 1926 г. передавал Компартии Швейцарии в интересах ИККИ паспорта и другие официальные документы, в которых нуждался Коминтерн. За это «Сапожник» получал ежемесячное вознаграждение в размере 150 франков, а с середины 30-х годов имел ещё и премию в 100 швейцарских франков за каждый выданный документ. Этот полицейский сотрудничал с Коминтерном, а через него и с советской разведкой вплоть до 1942 г. Процедура получения паспортов выглядела следующим образом. Установочные данные (пол, возраст, особые приметы) на человека, которому был нужен паспорт, передавались «Сапожнику», который подбирал в архивах полицейского управления швейцарского гражданина с данными, максимально совпадавшими с переданными из Москвы. Затем в подотделе «техники» изготовлялось фальшивое свидетельство о рождении, на основании которого паспортным столом в г. Вале и выдавался паспорт.
Однако владелец паспорта не выдерживал серьёзной проверки, когда по месту жительства его «родных», посылалась его фотография, которую должны были опознать.
В подотделе «техники» изготовлялись и другие легализационные документы, а также печати, штампы, спецчернила, бумага и т. п.
ОМС создавал пункты связи не только за границей, но и на территории Советской России, в первую очередь в портовых городах.
С мая 1924 г. до мая 1927 г. действовал пункт связи ОМСа в Пекине. Представителем ОМСа являлся А. Я. Сярэ[42], до этого работавший по линии Разведупра Штаба РККА помощником резидента в Ревеле. Сярэ находился в Пекине под прикрытием советского полпредства в качестве заведующего его финансовой частью. Спустя несколько лет, он вновь окажется в Китае в качестве представителя IV управления под официальным прикрытием, на сей раз уже в качестве резидента – консул в Дайрене (с 1932 г.), первый секретарь в Нанкине (с сентября 1933 г.).
К 1928 г. Отдел международной связи имел свои пункты в Одессе, Владивостоке, Иркутске, Чите, Ленинграде, Мурманске, Киеве, Баку, Риге, Ревеле (Таллине), Берлине, Вене, Варне, Стокгольме, Париже, Христиании (Осло), Константинополе, Амстердаме и других городах Европы, Азии и Америки. Через эти пункты ОМС наладил связи с компартиями многих стран. Было положено начало развёртыванию работы на местах под прикрытием создаваемых экспортно-импортных фирм.
Развернул работу пункт связи ОМСа и в Шанхае, решая задачи установления контактов с революционными организациями Китая, Кореи, Японии и других стран. Этот пункт занимался получением и отправкой почты, зашифровкой и расшифровкой шифртелеграмм, распространением коммунистической литературы, финансовыми операциями, в том числе передачей «московских» денег руководителям компартий, отправкой на учёбу отобранной китайской молодёжи, «обслуживал» представителей Профинтерна, КИМа, МОПРа, Антиимпериалистической лиги.
Отдел международной связи Коминтерна являлся строго засекреченным подразделением, и вся его работа за рубежом должна была осуществляться нелегально и конспиративно. Но о какой конспиративности и нелегальности могла идти речь, если до майского постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 1927 г. представители ОМСа за рубежом находились на должностях советских полпредств и торгпредств, а с 1923 г. фельдъегерская связь ГПУ использовалась «для нужд Отдела международной связи». Значительная часть печатной продукции, различных грузов и товаров, предназначенных для Коминтерна, шла в Москву в адрес Наркомата внешней торговли. Коминтерновские телеграммы и радиограммы за границу (и наоборот) передавались компартиям только через Наркомат иностранных дел – специально была учреждена должность «представителя ИККИ при НКИД» по отправке радиотелеграмм. Для перевозки людей и грузов ОМС использовал выделенные в его распоряжение по решению Политбюро ЦК и Совнаркома специальные железнодорожные вагоны и торговые суда. Периодически между ИККИ, с одной стороны, а с другой – советскими наркоматами и ведомствами возникали разногласия, споры и даже конфликты.
Далеко не все сотрудники ОМСа были профессионалами в нелегальной работе, что приводило к регулярным провалам. В повседневной практике Отдела международной связи при переписке и обмене телеграммами использовались коды и шифры. Однако и здесь к этим элементам конспирации нередко относились формально. «Уважаемый товарищ. 1. Ваше письмо от 17/IV и приложенные 256 кило чаю для Леона Асланиди получено…», – писал сотрудник ОМСа, скрывавшийся под псевдонимом «Блиц», заведовавшему отделом «Альбрехту» (Абрамовичу) весной 1926 г. Под «Леоном Асланиди» скрывалось кодовое обозначение Компартии Японии, а «килограмм чая» подразумевал один американский доллар. «Блиц» не удержался от комментариев используемого в переписке кода: «…Надо иметь в виду особенности каждой страны, наприм[ер], ни один черт из Москвы не присылает „чай“ в Асланидию, т. е. такой покупки или заказа никогда не было и не будет».
В августе 1925 г. секретарь Исполкома Коммунистического интернационала молодёжи Виссарион Ломинадзе[43] обратился к секретарю ИККИ Отто Куусинену[44] и председателю Исполкома Коминтерна Г. Е. Зиновьеву с заявлением, в котором подверг резкой критике деятельность как московского аппарата ОМСа, так и его берлинского и венского пунктов. Каплей, переполнившей чашу терпения ответственного работника КИМа, явились злоключения одного из сотрудников Исполкома Коммунистического интернационала молодёжи, который был задержан на пароходе германской полицией и провёл восемь дней в гамбургском участке, поскольку не получил от представителя ОМСа в Берлине А. Л. Абрамова (псевдоним «Миров») нужных документов.
«Т[оварищ] Иоганн, – писал Ломинадзе о другом сотруднике ИККИМ, – арестованный сейчас в Голландии… получил какую-то дрянную бумажонку, которая осложнит его положение, тогда как всё это можно было устроить вполне легально… Со своей стороны я добавлю ещё несколько фактов, – продолжал возмущаться Виссарион Ломинадзе. – Я, уезжая из Берлина в Прагу, получил две явки в Прагу от того же т. Мирова. Обе оказались совершенно фантастическими, и я, конечно, позорно провалился бы в Праге, не возьми я случайно одного частного адреса у частного знакомого…»
Не единичным случаем было выяснение отношений между уполномоченными (представителями) ОМСа и Исполкома Коминтерна за границей. Об этом свидетельствует документ, датированный сентябрём 1927 г. и называвшийся «О взаимоотношениях отделения ОМС с уполномоченными ИККИ». В нём, в частности, говорилось, что отделение ОМСа в Китае «…имеет целью установить связь между ИККИ и Китаем», и оно «…не подчинено уполномоченным ИККИ в Китае, а ответственно за свою работу перед ОМС ИККИ». Более того, любые сношения уполномоченного ИККИ с отделением ОМСа должны производиться исключительно через заведующего ОМСом или его заместителей, финансовые операции – лишь по указанию ОМС ИККИ; то же касалось заказов паспортов, прохождения всей переписки с заграницей. Наконец, все конфликты между уполномоченными ИККИ и отделением, указывалось в документе, должны разрешаться ОМСом.
Очевидно, предложения по финансированию компартий должны были исходить от уполномоченных ИККИ на местах, а никак не от ОМСа, функции которого должны были быть ограничены лишь передачей выделенных средств. Ведь, в конечном счёте, решения о финансировании зарубежных компартий и размерах этого финансирования принимал не Отдел международной связи, а Секретариат (Политсекретариат) ИККИ. Классический пример, когда телега была поставлена перед лошадью. Такой документ мог быть принят исключительно благодаря поддержке И. А. Пятницкого, бывшего заведующего ОМСом и курировавшего в Политсекретариате деятельность Отдела международной связи.
После А. Е. Абрамовича до 1936 г. заведующим Отделом международных связей являлся Александр Лазаревич Абрамов[45], известный в тот период как Абрамов-Миров, перешедший на работу в Разведывательное управление РККА.
С октября 1936 по май 1937 г. Службу связи Секретариата ИККИ[46], так стал называться с 1936 г. ОМС, возглавлял в прошлом один из руководителей военной разведки Борис Николаевич Мельников[47] под фамилией «Мюллер».
Деятельность военной разведки в первой трети XX в. нельзя рассматривать в отрыве от деятельности Исполкома Коммунистического интернационала. Между Разведупром (IV управлением Штаба РККА) и международной организацией коммунистов происходил постоянный обмен информацией и людьми. Сотрудники Исполкома Коминтерна переходили на службу в военную разведку и, наоборот. Подобное явление было довольно распространённым.
Контакты за границей представителей Разведупра и сотрудников ИККИ (особенно, когда в одном городе, в одной стране оказывались старые знакомые и друзья по работе в компартиях и в аппарате Коминтерна) невозможно было исключить, и они представляли собой неизбежное зло, неся в себе перманентную угрозу провала. И в первую очередь для военных разведчиков.
1.2. Усилия, предпринимавшиеся Советским Союзом по созданию в Китае дружественного государства (1922–1924)
Для обеспечения государственных интересов на Дальнем Востоке советские представители настойчиво добивались нормализации советско-китайских отношений, признания РСФСР существовавшим пекинским правительством де-юре. Одновременно развёртывалась военно-политическая деятельность Советского Союза на Юге Китая. По сути, это были два независимых и разнесённых друг от друга по месту процесса. Попытки их объединить были предприняты позднее и, в конце концов, достигли результатов, плодами которых СССР воспользоваться не удалось.
Ситуация в Китае осложнялась отсутствием единого правительства. Де-факто на территории Китая существовало одновременно несколько правительств. Основными являлись центральное Пекинское правительство во главе с Цао Кунем, признанным иностранными державами, Южно-китайское правительство во главе с Сунь Ятсеном (создано осенью 1917 года, а Ятсен провозглашён президентом Южного Китая в 1921 году). Помимо указанных двух существовало самовластие китайских генералов в провинциях, среди которых выделялось правительство Чжан Цзолиня в Маньчжурии (Северный Китай). Характерным являлось то, что каждое правительство поддерживалось различными странами, в том числе государствами Антанты, Японией, США, не исключая СССР, который имел свои интересы в Южном Китае, Маньчжурии.
Начатый ещё в 1920 г. курс на установление дипломатических отношений с центральным правительством предусматривал решение, в том числе и вопросов, относившихся к КВЖД в Северной Маньчжурии.
12 декабря 1921 г. в Пекин для проведения переговоров прибыла советская делегация во главе с А. К. Пайкесом[48] в качестве неофициального посланника. Вместе с тем Пайкесу был гарантирован дипломатический иммунитет и «все способы сношения с Москвой» – использование курьеров и шифровальной переписки. Однако вступить в переговоры с китайской стороной Пайкесу так и не удалось.
12 августа 1922 г. в Пекине появилась новая российская делегация во главе с А. А. Иоффе[49], назначенным «чрезвычайным полномочным представителем РСФСР в Китае». Китайская сторона согласилась принять Иоффе, как и Пайкеса, только «полуофициальным представителем правительства РСФСР в Пекине». Перед делегацией была поставлена задача: добиться установления официальных дипломатических отношений с Китаем, заключить торговый договор и соглашение по Китайско-Восточной железной дороге. Возглавляемая Иоффе миссия (за которой, как и в случае с делегацией Пайкеса, сохранялись все способы сношения с Москвой) состояла из 14 человек.
В меморандуме китайского МИДа от 11 ноября 1922 г. в этой связи указывалось, что при заключении соглашения по КВЖД необходимо исходить из текста «Обращения правительства РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и Северного Китая» от 25 июля 1919 г. Подпись под документом поставил заместитель наркома по иностранным делам Л. М. Карахан, и в историю документ вошёл под названием «Первая Декларация Карахана». В китайском меморандуме утверждалось, что в Обращении содержалась следующая фраза: «Рабоче-Крестьянское Правительство намерено все права и интересы, имеющие отношение к КВЖД, безоговорочно вернуть без всякого вознаграждения».
Именно утверждение китайской стороны о наличии в обращении от 25 июля 1919 г. пункта о безвозмездной передаче Китаю КВЖД явилось основным камнем преткновения на переговорах с представителями пекинского правительства. Этот вопрос стал предметом оживлённых дискуссий не только в 20-е годы, но и в последующие годы среди советских и китайских исследователей. Свои пояснения оставил и автор «Первой Декларации Карахана»[50]. Дисскуссия была завершена М. В. Крюковым, которым был найден в архиве секретариата Ленина ответ на вопрос о том, каков был исходный вариант ноты НКИД от 25 июля 1919 г.: «В её тексте, представленном Виленским Ленину 10 августа того же года, есть пассаж о безвозмездной передаче Китаю КВЖД, позднее из декларации изъятый. Но этот абзац оказался лишним, когда во внешнеполитическом курсе Советской России постепенно возобладали собственно государственные интересы, а идея вселенской щедрости во имя грядущей мировой революции оказалась похороненной».
В последующем во внешнеполитическом курсе Советской России постепенно возобладали собственно государственные интересы. 16 ноября 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) утвердило протокол заседания коллегии НКИД РСФСР, в котором говорилось, что Россия сохраняет за собой собственность Китайско-Восточной железной дороги, но как друг восточных народов и как враг империализма отказывается от политических и правовых привилегий и готова пойти на следующие уступки Китаю: сужение полосы отчуждения, досрочный выкуп дороги на льготных условиях, согласие на участие Китая в смешанном управлении дорогой.
В письме от 20 января 1923 г., адресованном А. А. Иоффе, выступавшему за передачу Китаю права собственности на КВЖД «без всякого вознаграждения», Л. Д. Троцкий объяснил позицию советского правительства и коммунистической партии. «Как хотите, – писал Троцкий, – но мне и сейчас не ясно, почему отказ от империализма предполагает отказ от наших имущественных прав. Китайско-Восточная железная дорога была, бесспорно, орудием империализма, поскольку она была нашей государственной собственностью на китайской территории. Поскольку же дорога переходит в руки Китая, она есть огромная хозяйственно-культурная ценность. В этом смысле мне совершенно непонятно, почему китайский крестьянин должен иметь дорогу за счет русского крестьянина… Мы можем и должны помочь Сунь Ятсену стабилизировать в Китае внутренний режим. Почему же Сунь или кто другой не может в этом случае частично возмещать нам наши расходы по Китайско-Восточной железной дороге, которой китайский народ будет пользоваться? Почему империализм?
Вы очень настаиваете на бедности Китая… Позвольте Вам напомнить, дорогой Адольф Абрамович, что Россия тоже очень бедна и совершенно не в силах оплачивать расположение к ней колониальных и полуколониальных народов материальными жертвами. Разумеется, очень заманчиво, было бы отказаться от имущества Китайско-Восточной железной дороги, то есть сделать подарок в 800 миллионов рублей, и сверх того дать взаймы 40 миллионов рублей (тоже, очевидно, без надежды на отдачу). Дорогу китайцы взяли бы, 40 миллионов рублей израсходовали бы очень скоро и потребовали бы продолжения, а не получив такового, обратились бы к Америке и перенесли бы туда свои симпатии…».
Но был ещё один фактор, препятствовавший нормализации советско-китайских отношений, – Внешняя Монголия.
Стремясь установить дипломатические отношения с центральным правительством, советское руководство в то же время вынашивало планы создать в Пекине другое, дружественное Советской России правительство, используя те или иные комбинации между различными противоборствовавшими военно-политическими группировками и их лидерами.
Наиболее перспективными с этой точки зрения представлялись в это время У Пэйфу и Сунь Ятсен. Первоначально советская дипломатия ориентировалась на У Пэйфу как на самого сильного и, как считалось, относительно прогрессивного военно-политического лидера. У Пэйфу, контролировавший центральное правительство, не уклонялся от контактов с советской стороной и даже передал письмо на имя Л. Троцкого, в котором говорилось «о солидарности русско-китайских задач на Дальнем Востоке». Одновременно прилагались усилия добиться сотрудничества Сунь Ятсена с У Пэйфу, которое должно было привести к созданию нового коалиционного правительства в Пекине, дружественного по отношению к Советской России.
С У Пэйфу неоднократно встречался летом 1922 г. А. И. Геккер[51], входивший в качестве военного эксперта в состав дипломатической миссии А. А. Иоффе. После одной из встреч с У Пэйфу в августе 1922 г. Геккер докладывал Л. М. Карахану для передачи Сталину: «Сунь Ятсен – идейный вождь Китая, У Пэйфу – военный, соединившись, оба создадут единый Китай. Теперь [они] ведут переговоры, надеемся, согласятся, [что] Сунь будет президентом республики, он сам – военмином и главкомом».
Это были усилия, заведомо обречённые на провал, так как Сунь Ятсен не желал вступать с У Пэйфу ни в какие союзнические отношения. Последний же в качестве условия сотрудничества выдвигал требование, чтобы Сунь Ятсен отрёкся от Чжан Цзолиня, что никак не соглашался принять доктор Сунь, который заигрывал с правителем Маньчжурии в целях укрепления собственных позиций. Сунь Ятсен прекрасно сознавал, что Чжан Цзолинь воспринимался советской стороной как японский агент, но заверял, что повлияет на него в нужном направлении. Чжан Цзолинь, в свою очередь, в ходе одной из бесед с Сунь Ятсеном подчёркивал, что Советская Россия сама преследует империалистические цели в Китае – «КВЖД и Монголию она не отдаёт, несмотря на все уверения в дружбе».
В 1922 г. между Сунь Ятсеном и российскими дипломатами, в том числе и наркомом иностранных дел РСФСР Г. В. Чичериным, завязалась оживлённая переписка. Позиция Суня, состоявшая в заключении временных союзов с милитаристами для использования одного против другого, не давая при этом никому из них особенно усилиться, в полной мере разделялась советскими представителями в Китае и в Москве и, более того, настоятельно рекомендовалась к реализации.
В конце 1922 г. произошёл разрыв между возглавлявшими чжилийскую милитаристскую группировку У Пэйфу и Цао Кунем. Последний совершил переворот в Пекине с целью добиться своего избрания президентом. Помощь в перевороте Цао Куню оказал один из генералов У Пэйфу – Фэн Юйсян[52]. Сам же У Пэйфу был вытеснен в провинцию Хэнань. Однако до полного разрыва между бывшими союзниками дело не дошло – ни тот, ни другой не были готовы пойти на такой опрометчивый шаг, так как это бы означало одностороннее усиление Чжан Цзолиня.
«Всякий китайский военачальник без территории, – докладывал в январе 1923 г. А. А. Иоффе руководителям РКП(б) и советского правительства по поводу У Пэйфу, – приблизительно то же, что кавалерист без лошади. Каждому из них нужна территория для того, чтобы на этой территории кормиться, крепнуть, развиваться». Рассуждения насчёт генерала и территории в равной степени относились и к Сунь Ятсену, и к его попутчикам из числа милитаристов. Сунь Ятсен призвал себе на помощь юньнаньского и гуансийского генералов. Оба командующих вместе со своими армиями были выброшены за пределы родных провинций конкурентами за власть и испытывали острую потребность в средствах. В конце 1922 г. союзники-милитаристы вытеснили Чэнь Цзюнмина на границу провинций Гуандун и Гаунси, и Сунь Ятсен вновь возвратился в Кантон, где и возглавил правительство Южного Китая.
Юньнаньцы, равно как и гуансийцы, считали своё нахождение в Гуандуне временным, необходимым для накопления сил с последующим триумфальным возвращением в родные провинции. По праву победителей они захватили лучшие доходные районы, превращая их в свою финансовую базу. Само же правительство практически оставалось без источников дохода. Тем не менее, с Сунь Ятсеном, который таким непростым путём вернул себе весьма неустойчивую власть в Кантоне, можно было уже обсуждать конкретные вопросы сотрудничества.
Линия на поддержку Гоминьдана в политике Москвы в Китае окончательно утвердилась к началу 1923 г. Так, 4 января 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) постановило «принять предложение НКИД об одобрении политики т. Иоффе, направленной на всемерную поддержку партии Куоминтонга [Гоминьдан], и предложить НКИД и нашим делегатам в Коминтерне усилить работу в этом направлении».
Постановлением Политбюро предписывалось: «Поручить НКИД подготовить ответ Сунь Ятсену от имени т. Ленина».
Это одно из первых принципиальных решений Политбюро об установлении связи с Сунь Ятсеном и поддержке национальной партии Гоминьдан, в том числе по коминтерновской линии, и об оказании этой партии материальной поддержки.
При встрече Сунь Ятсена с руководителем дипломатической миссии РСФСР А. А. Иоффе в январе 1923 г. в Шанхае, первый заявил, что планирует в ближайшее время реформы в армии и Гоминьдане и собирается организовать поход против реакционной милитаристской клики в Пекине (Северный поход), замышляемый с помощью Советской России.
Для реализации идей объединения Китая, если не всего, то его большей части, Сунь Ятсен через Иоффе в начале 1923 г. представил советскому правительству в разное время несколько планов (один из них, предполагающий размещение в провинции Синьцзян советских войск, даже был реализован). Сунь полагал необходимым под «…нашей оккупацией там создать русско-китайско-германское общество для эксплуатации… минералов, создание сталелитейного завода и арсенала». Выносился на обсуждение и другой план: из Сычуани перебросить имевшуюся там якобы 100-тысячную армию Суня к границам Монголии для установления прямого контакта с СССР через Восточный Туркестан и Ургу (ныне Улан-Батор). Китайская армия при этом должна быть вооружена Советским Союзом и приведена им «в достаточное боевое состояние». После этого, по замыслу Сунь Ятсена, должна быть предпринята последняя Северная экспедиция. Один из прожектов Сунь Ятсена основывался на том, что Советская Россия «диверсией из Маньчжурии» отвлечёт силы Чжан Цзолиня из занятого им Пекина.
Как бы то ни было, для реализации всех планов требовалась финансовая и военная помощь Советского Союза. Размеры денежных вливаний Сунь оценивал «…в размере максимум 2 миллионов мексиканских долларов». Надо сказать, что все планы изобиловали слишком большими допущениями, требовали больших денег и в подавляющем большинстве были вообще нереализуемыми. В частности, Сунь Ятсен совершенно неадекватно оценивал возможную реакцию иностранных держав на подобные выступления. Именно поэтому советские представители называли Сунь Ятсена фантазёром. Но речь шла не только о фантазиях доктора Суня. Для достижения задач объединения страны военным путём китайский лидер стремился использовать Советский Союз, как до этого использовал и продолжал использовать китайских милитаристов.
В начале 1923 г. А. А. Иоффе через Шанхай направился для лечения в Японию, его заместителем был оставлен Я. Х. Давтян.
8 марта 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) признало возможным оказать Сунь Ятсену помощь с определённой оговоркой.
Из протокола № 53 заседания Политбюро ЦК РКП(б):
«3. О Китае (предложение тов. Иоффе) (присутств. т. т. Чичерин, Карахан, Литвинов).
а) Отвергнуть все те части плана, которые в какой бы то ни было мере чреваты опасностью интервенции со стороны Японии.
б) Признать желательным заложить основу революционной армии в Западном Китае в форме целостной воинской единицы.
в) Признать возможным оказать денежную поддержку Сунь Ятсену в размере около двух миллионов мексиканских долларов.
г) Признать необходимым посылку к Сунь Ятсену группы политических и военных советников с согласия Сунь Ятсена.
…
е) Указать тов. Иоффе, что Политбюро имеет серьёзные опасения насчёт того, что Сунь Ятсен уделяет слишком большое внимание чисто военным операциям в ущерб организационно-подготовительной работе. …».
Политбюро отвергло предложение Сунь Ятсена о военных действиях Красной Армии в Маньчжурии, считая не без оснований, что это было бы связано с опасностью интервенции со стороны Японии.
1 мая А. А. Иоффе передал в Гуанчжоу «телеграмму Советского правительства Сунь Ятсену»: «Мы готовы предоставить Вашей организации сумму до двух миллионов золотых рублей для подготовки работы по воссоединению с Китаем и борьбы за национальную независимость. Эта сумма должна быть использована в течение одного года и выплачена несколькими частями по 500 000 рублей каждая… К сожалению, наша материальная помощь очень мала и составляет максимум 8 000 японских винтовок, 15 пулемётов, четыре пушки „орисака“ и два бронеавтомобиля».
В июне 1923 г. впервые в легальных условиях в столице Гуандуна собрался III съезд КПК. К этому времени КПК насчитывала в своих рядах всего 423 члена. Центральным пунктом повестки дня был вопрос об образовании единого фронта с Гоминьданом. О том, что собой представляла Китайская коммунистическая партия в 1923 г., М. М. Бородин писал следующее: «…Нельзя сказать, чтобы Киткомпартия участвовала в массовом движении… Коммунисты, если судить по тем, которых я встретил в Кантоне, очень смутно представляли себе, почему они являются членами компартии». III съезда КПК принял предложенную Коминтерном форму создания единого фронта: индивидуальное вступление коммунистов в Гоминьдан при сохранении политической и организационной самостоятельности КПК.
2 августа принимается решение направить в Китай полномочных представителей, с учётом предложения «т. Сталина»:
«Из протокола № 21 заседания Политбюро ЦК РКП(б)
2 августа 1923 г.
Опросом по телефону членов Политбюро
от 31. VII. 1923 г.
21. Предложение т. Сталина о назначении т. Бородина[53] политическим советником при Сунь Ятсене.
1) Назначить т. Бородина политическим советником при Сунь Ятсене, предложив ему выехать на место работы в четверг вместе с т. Караханом.
2) Поручить т. Бородину в своей работе с Сунь Ятсеном руководствоваться интересами национально-освободительного движения в Китае, отнюдь не увлекаясь целями насаждения коммунизма в Китае.
3) Обязать т. Бородина свою работу согласовывать с Полномочным Представителем СССР в Пекине, ведя переписку [с] Москвой через последнего.
4) Обязать т. Бородина периодически присылать отчёты о своей работе в Москву (по возможности в месяц раз)».
В указании М. М. Бородину в своей работе с Сунь Ятсеном не увлекаться «целями насаждения коммунизма в Китае», судя по всему, было записано с учётом заявления лидера Гоминьдана, изложенного в сообщении А. А. Иоффе и Сунь Ятсена, опубликованного 27 января 1923 г. по поводу советско-китайских отношений. Там было зафиксировано мнение д-ра Сунь Ятсена о том, «что в настоящее время коммунистический строй, или даже советская система не могут быть введены в Китае, так как там не существуют те условия, которые необходимы для успешного утверждения коммунизма или советизма…».
«Полномочным Представителем СССР в Пекине» был назначен Л. М. Карахан, который направлялся в Китай для переговоров с пекинским правительством о признании СССР.
Бородин вместе с Караханом выехали в Китай в начале августа 1923 г. 2 сентября они прибыли в Пекин. Политический советник при Сунь Ятсене вначале поехал на Северо-Восток, беседовал с Чжан Цзолинем, затем он выехал в Пекин и Шанхай. 6 октября он был в Гуанчжоу. Рекомендуя М. М. Бородина Сунь Ятсену, Л. М. Карахан писал 23 сентября 1923 г.: «Тов. Бородин – один из старейших членов нашей партии, много лет участвовавший в революционном движении в России. Считайте, пожалуйста, т. Бородина не только представителем правительства, но и моим личным представителем, с которым Вы можете говорить так же дружественно, как со мной». Бородин и Блюхер, политические и военные советники, направленные в Китай, должны были способствовать реорганизации Гоминьдана с целью превращения его в партию блока с КПК, как орган единого антиимпериалистического фронта.
Сунь Ятсен, который никогда в прошлом не имел твёрдой военной опоры в Китае, занялся созданием собственных надёжных военных кадров. Летом 1923 г. он послал в Москву делегацию военных работников во главе с начальником генерального штаба армии Южнокитайского правительства генералом Чан Кайши для изучения опыта Красной армии. В состав делегации помимо Чан Кайши входили генерал Шэнь Юанью, журналист Ван Дэнюнь и Чжан Тайлэй[54], деятель коммунистической партии Китая.
На руководящих членов китайской делегации советской стороной были подготовлены характеристики. О Чан Кайши, в частности, говорилось следующее: «Глава Генерального штаба. Получил военное образование в Японии. Принадлежит к левому крылу Гоминьдана, являясь одним из старейших членов партии. Пользуется большим доверием Сунь Ятсена. Очень близок к нам. В настоящее время отошёл от военной работы на Юге Китая. Поддерживает наш проект операций на Севере Китая (содержание проекта не установлено. – Авт. характеристики). Известен в Китае как один из образованнейших людей. Очень интересуется нашей политической работой в Красной армии, а также техникой её». За два года, прошедшие после составления характеристики нам удалось из близкого к Советскому Союзу человека сделать врага. Сам же Чан Кайши в ходе визита неоднократно демонстрировал свою близость с Советским Союзом.
Китайская делегация прибыла в Москву 2 сентября и отбыла в Китай 29 ноября 1923 г.
Во время встречи с заместителем председателя РВС СССР Э. М. Склянским и главкомом Красной армии С. С. Каменевым китайцами были высказаны советской стороне пожелания: во-первых, направить на Юг Китая возможно большее количество советских специалистов для обучения китайских военных; во-вторых, получить возможность ознакомиться с Красной армией; в-третьих, совместно обсудить план военных действий в Китае.
Центральным пунктом этого плана было создание с помощью СССР новой армии Сунь Ятсена, сформированной по образцу Красной армии на территории, близлежащей к югу от Урги, на границе Монголии с Китаем. Оттуда предполагалось, взаимодействуя с другими силами, наступать «второй колонной» на силы чжилийской группировки и на Пекин. Это был наиболее спорный пункт плана: даже символические шаги в этом направлении могли резко усилить напряжённость в отношениях России с западными державами и Японией, сделать ещё более жёсткой позицию пекинского правительства на переговорах о признании СССР.
Реакция Москвы на предложения и планы миссии Сунь Ятсена определялась несколькими обстоятельствами. Именно в период пребывания этой миссии в СССР внимание руководства РКП(б) и Коминтерна было поглощено планами развёртывания революции в Германии. Задачи материальной, а возможно и военной, поддержки германской революции – «последней надежды» на революционный взрыв на Западе, безусловно, оказывали влияние на принятие решений, чреватых масштабами вовлечения противоборствующих сторон в военные конфликты на Востоке.
Выступая на заседании ИККИ, Чан Кайши сформулировал идею сотрудничества Коминтерна и Гоминьдана, отражавшую как взгляды Сунь Ятсена, так и ожидания советского руководства. «Мы считаем, – заявил китайский генерал, – что фундаментальная база мировой революции находится в России… Партия Гоминьдан предлагает, чтобы Россия, Германия (конечно, после успеха революции в Германии) и Китай (после успеха китайской революции) образовали союз трёх крупных государств для борьбы с капиталистическим влиянием в мире. С помощью научных знаний немецкого народа, успеха революции в Китае, революционного духа русских товарищей и сельскохозяйственных продуктов этой страны мы смогли бы легко добиться успеха мировой революции, мы смогли бы свергнуть капиталистическую систему во всем мире».
Развивая эти мысли на встрече с Л. Д. Троцким, Чан Кайши выразил надежду, что «…в скором времени освобождённый Китай станет членом Советских Социалистических Республик России и Германии».
Троцкий в своём ответном выступлении остановился на соотношении военной и политической работы. Председатель Реввоенсовета СССР подчеркнул, что партия Гоминьдан «в настоящее время» должна всё своё внимание сосредоточить на политической работе, доведя до необходимого минимума военную часть деятельности. Под политической работой Троцкий имел в виду «длительную и упорную политическую подготовку широких народных масс». Это означало, что наибольшая часть внимания Гоминьдана должна была быть обращена на пропаганду. «Хорошая газета, – отметил Л. Д. Троцкий, – лучше, чем плохая дивизия».
Касаясь вопроса оказания военной помощи Китаю, Троцкий заявил: «Мы не отказываемся от оказания военной помощи, но при теперешнем стратегическом соотношении военных сил не представляется возможным оказать эту помощь войскам Суня. Вместо этого мы откроем наши школы для обучения китайских революционеров военному делу».
Уже в ходе повторной встречи со Склянским и Каменевым китайской делегации было сообщено, что Реввоенсовет «…считает возможным посылку китайских товарищей в Россию для размещения в военных учебных заведениях». В частности, в Военную академию РККА 3–7 человек, в военные училища – от 30 до 50 человек.
Как показал ход событий, несмотря на отказ Москвы поддержать военный план Суня, общие итоги миссии укрепили решимость Чан Кайши проводить политику «союза с Россией», ориентироваться на русский опыт в вопросах партийно-государственного и военного строительства. Советский Союз же, со своей стороны, пошёл значительно дальше принятых на себя ограничений в части предоставления военной помощи Китаю: направил инструкторов, организовал в стране военные школы, поставил оружие и боеприпасы, выделил финансовые средства.
Ещё до поездки китайской военной делегации в Москву летом 1923 г. в Южный Китай была направлена первая группа советских военных специалистов – слушателей Академии Генерального штаба РККА в составе пяти человек: И. Г. Герман[55], В. Е. Поляк[56], П. И. Смоленцев[57], Н. И. Терещатов[58] и А. И. Черепанов[59]. К этому времени правительство Сунь Ятсена контролировало лишь большую часть провинции Гуандун, на востоке которой держался региональный милитарист Чэнь Цзюнмин. Эти и другие советские военные советники, направлявшиеся в Китай, являлись поставщиками различной информации и разведданных с места событий.
Первый конгресс реорганизованного Гоминьдана состоялся в январе 1924 г. в Гуанчжоу. Конгресс принял манифест, программу, утвердил устав партии и официально оформил вступление коммунистов в Гоминьдан.
В выступлениях Сунь Ятсена и манифесте съезда Гоминьдана содержалась обновлённая интерпретация его «трёх народных принципов»[60].
В дальнейшем многие формулировки из документов съезда стали предметом спора и взаимных претензий, входивших в единый фронт политических сил. В частности, коммунисты трактовали курс, принятый Гоминьданом, как «три политические установки»: союз с СССР, сотрудничество с КПК и поддержка крестьян и рабочих. Однако в документах съезда присутствовала лишь формулировка о «допущении коммунистов в партию».
В ЦК РКП (б) продолжал дискутироваться вопрос: давать ли Суню оружие, а если давать, то на каких условиях? К началу января 1924 г. соответствующее решение не было принято.
Не дождавшись помощи Сунь Ятсену со стороны Советского Союза оружием и финансами, Карахан 8 января 1924 г. направил письмо Сталину, копии Троцкому, Зиновьеву и Чичерину. Карахан напоминал о решении Политбюро ЦК РКП (б) от 23 марта 1923 г. Полпред убеждал генсека в том, что «Сунь Ятсен принял все наши указания и советы» и «практически осуществляет всё то, что мы ему говорим». Кроме того, Сунь Ятсен, «отказавшись от всех широких военных планов, принял наше предложение об организации военной школы…». Карахан предупреждал, что в случае отказа в помощи Сунь Ятсену оружием он предвидит «серьёзные затруднения для дальнейшего нашего воздействия на Гоминьдан и серьёзные затруднения в работе т. Бородина, если не полную невозможность дальнейшего его пребывания в Кантоне». В заключение Карахан просил поставить этот вопрос в ЦК РКП (б) и принять окончательное решение.
Видимо, это письмо оказало определённое воздействие на советское руководство наряду с другими обстоятельствами. 20 марта 1924 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло постановление «отпустить 500000 рублей, 1000 винтовок и известное количество орудий…». Однако 27 марта вопрос о выдаче Сунь Ятсену оружия был пересмотрен и Политбюро решило выдать оружие в объёме, указанном в переданной А. А. Иоффе телеграмме 1 мая 1923 г. Из письма Г. В. Чичерина от 26 марта 1924 г. полпред узнал, что в Москве решено послать Сунь Ятсену оружие бесплатно.
12 апреля 1924 г. Сунь Ятсен обнародовал «Общую программу строительства государства». Государственное строительство планировалось проводить в три периода: «1) период военного правления, 2) период политической опеки, 3) период конституционного правления»[61].
Начавшаяся реорганизация Гоминьдана способствовала укреплению позиции правительства Сунь Ятсена в Гуандуне. Определённая стабилизация власти кантонского правительства благоприятствовала также созданию партийной армии. В условиях милитаристического разгула Гоминьдан мог действительно укрепить свои политические позиции только при наличии собственной эффективной военной силы, не зависящей от прихотей китайских генералов.
Помощь Суть Ятсену деньгами и оружием, обещанная в телеграмме советского правительства от 1 мая 1923 г., начала поступать спустя год с лишним. Подобные задержки были связаны с сомнениями Москвы относительно надёжности Сунь Ятсена и его партии, а также в связи с тем, что советское государство входило в полосу признания западными державами, и ему было нежелательно афишировать помощь китайским революционерам.
Только 8 октября советское правительство, наконец, доставило помощь на «пароходе „Воровский“ из Владивостока в Кантон, содержащем горные орудия, полевые орудия, длинные и короткие пушки, лёгкие и тяжёлые пулемёты и все виды боеприпасов, заказанных Доменом в России», например, «тысячи японских винтовок Тип 38, полевые орудия, горные орудия 20 или 30 орудий, около 100 тяжёлых пулемётов (лёгких пулемётов в то время не было), а также всевозможные боеприпасы, средства связи и т. д., два броневика и т. д., а всего около трёх тысяч тонн военной помощи в военных поставках».
Оружие предназначалось для школы Вампу и для формирования первой ударной дивизии правительственных войск. В дальнейшем поставки оружия продолжались.
Переговоры между Советским Союзом и центральным пекинским правительством об установлении дипломатических сношений, начатые в 1920 г., завершились только в мае 1924 г. За четыре с лишним года в Китае сменились пять президентов и соответственно пять правительств.
31 мая 1924 г. при президенте Цао Куне (вступил в должность в октябре 1923 г.) был подписан ряд документов, в том числе базовый – «Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской республикой», а также «Соглашение о временном управлении КВЖД». В соответствии с первым документом советское правительство отказывалось от прав экстерриториальности и консульской юрисдикции, «…от русской части боксерского возмещения» и «…от специальных прав и привилегий, касающихся всех концессий, в какой бы то ни было части Китая». Как следовало из текста соглашения, КВЖД к таковым концессиям не относилась. Внешняя Монголия была признана советским правительством составной частью Китая. Стороны взаимно обязались не допускать в пределах своих территорий существования или деятельности каких-либо организаций или групп, задачей которых являлась борьба при помощи насильственных действий против правительства какой-либо из договаривающихся сторон. Советский Союз рассчитывал тем самым пресечь подрывную деятельность белогвардейских групп на территории Китая.
Обе стороны соглашались урегулировать на предстоящей конференции вопрос о КВЖД в соответствии со следующими основными принципами: «Китайско-Восточная железная дорога является чисто коммерческим предприятием», «… все другие вопросы, затрагивающие права национального и местных Правительств Китайской Республики, как-то: судебные вопросы, вопросы, касающиеся гражданского управления, военной администрации, полиции, муниципального управления, обложения и земельной собственности (за исключением земель, потребных для указанной дороги), будут находиться в ведении китайских властей». Распускались так называемые железнодорожные войска, восстанавливался суверенитет Китая над полосой отчуждения КВЖД. СССР готов был продать КВЖД Китаю при условии, что вопрос будет решён без вмешательства третьих стран.
После подписания 31 мая 1924 г. «Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и Китайской Республикой» и ноты руководителя советской делегации от 13 июня 1924 г. с предложением «возвести дипломатические представительства обеих стран в ранг посольств» официальным послом СССР в Китае стал Л. М. Карахан В Пекине он проработал до августа 1926 г., с небольшим перерывом с ноября по октябрь 1925 г.
Соглашение было поддержано и кантонским правительством Сунь Ятсена. В силу своеобразия политического положения в Китае (фактическая раздробленность страны) СССР вынужден был подписать 20 сентября 1924 г. так называемое Мукденское соглашение – «Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Автономных Трёх Восточных Провинций Китайской Республики о КВЖД, судоходстве, передемаркации границы, тарифном и торговом соглашении». В том, что касалось КВЖД, этот документ отличался от Пекинского соглашения тем, что носил более технический характер. Сохранение концессии иностранного государства на территории Китая, пусть и в усечённом виде, являлось, по сути дела, постоянным источником враждебности в советско-китайских отношениях.
Пекинское правительство протестовало против подписания СССР соглашения с маньчжурскими властями. Но в начале 1925 г. после очередной смены власти в Пекине соглашение от 20 сентября 1924 г. было утверждено.
Юридически советско-китайские дипломатические отношения продолжали существовать до советско-китайского конфликта летом 1929 г. в Маньчжурии, невзирая на продолжавшуюся смену правительств и президентов в Пекине и признание иностранными державами нанкинского правительства в 1928 г.
В мае 1924 г. в Гуанчжоу (Кантон) прибыл комкор П. А. Павлов[62] (псевдоним «Говоров»), назначенный начальником южнокитайской группы советников. Спустя всего два месяца – в июле – Павлов утонул во время переправы через р. Дунцзян. Начальником южнокитайской группы советских военных советников и главным военным советником ЦИК Гоминьдана, в последующем – главный военный советник национального правительства и главного командования Народной революционной армии (НРА) был назначен В. К. Блюхер[63]. Он прибыл в Кантон в конце октября 1924 г. К этому времени здесь находилось уже 25 советских военных советников. Комиссаром штаба южнокитайской группы советских военных советников под фамилией «Теруни» был В. Х. Таиров[64].
Контроль за оснащением китайской армии советским вооружением стал одной из важнейших задач, поставленных перед Блюхером. По инициативе Блюхера был создан Военный Совет при ЦИК Гоминьдана в составе: Ляо Чжункая, Ху Ханьминя, генералов Сюй Чунчжи, Чан Кайши, Ян Симиня и, в качестве советника, В. В. Уральского (псевдоним В. К. Блюхера в ходе его первой командировки в Китай).
Летом того же года была открыта созданная с помощью и на средства Советского Союза военная школа младшего командного состава на о-ве Вампу (пекинское произношение Хуанпу), в 25 км от Кантона, в устье р. Чжуцзян, получившая в последующем известность под именем школы Вампу. Курс обучения был рассчитан на шесть месяцев. При школе было создано два учебных полка, которые предусматривалось развернуть в 1-ю дивизию. Во главе школы Вампу, которая стала ядром для создания новой партийной армии, был поставлен генерал Чан Кайши. В октябре 1924 г. школа имела в своём составе около 100 студентов-курсантов. Впервые в истории китайской армии в школе было введено политическое воспитание как обязательный элемент преподавания, ставившее своей задачей, по словам В. К. Блюхера, «…воспитать в курсантах преданность идеи партии, ненависть к врагам – милитаризму и империализму». Под партией имелся в виду Гоминьдан.
Согласно записям В. К. Блюхера в «Журнале военной академии Гуанчжоу» советское правительство ежемесячно выдавало Гоминьдану «в общей сложности 100000 юаней в кантонской валюте», с «дополнительными» ассигнованиями на строительство Военной академии Вампу и «зарплату сотрудников министерств (бюро) центрального правительства».
29 мая 1925 г. состоялось заседание китайской комиссии Политбюро ЦК РКП(б) (присутствовали «тт. Фрунзе, Уншлихт, Чичерин, Сокольников, Молотов, Бубнов, Петров, Войтинский, Мельников, Бортновский и Лонгва»).
По вопросу «организационные мероприятия» китайская комиссия Политбюро ЦК РКП(б) постановила, в т. ч.:
«б. … Военные группы иметь: одну на Юге в Гуандуне и две на Севере у Фэн Юйсяна и Юэ Вэйцзюня.
д. Общее число инструкторов в 3-х группах и пекинском центре определить в 128 чел.
…
и. Формирование на Юге 2-х новых гоминьдановских дивизий и школу Вампу поддержать.
…
к. На формирование новых 2-х дивизий и содержание одной старой, а также школу Вампу отпустить 450000 руб. Тов. Галину указать, что указанная сумма отпускается на расходы в течение 9 месяцев, т. е. до 1 января 1926 г.
л. Признать целесообразным сформирование у Фэна и Юэ Вэйцзюня по одной военно-политической школе по типу Вампу. Школы обслуживать нашими инструкторами. Помощь в содержании школ оказать лишь при условии, что расход на это ложится в пределах отпущенного миллиона рублей.
м. Расходы на содержание кит[айских] курсов в Москве включить в общую сумму сметы расходов на военно-политическую работу в Китае».
Отдельным вопросом был рассмотрен «О секретных расходах». Участники заседания Политбюро в этой связи постановили: «н. На усиление разведывательной работы отпустить с 1 апреля по 1 сентября 1925 года 30 000 сев. ам. долл., в среднем 6000 ам. долл, в месяц.
Указанную сумму включить в общую смету расходов на военно-политическую работу в Китае.
о. Поручить тт. Мельникову и Лонгва разработать практические предложения по этому вопросу».
По вопросу «3. Материальная помощь» участники заседания констатировали:
«Нами предназначено и отпускается: Кантону: (находится в пути) 9 тыс. винтовок, 9,5 млн патронов, 10 тыс. ручных гранат, 100 пулемётов с лентами, коробками и машинками и 10 бомбомётов с 1000 выстрелов.
Фэну (находится в пути) – 4 тыс. винтовок и 4 млн патронов. Предназначено к отправке из Верхне-Удинска в Калган: 9 тыс. винтовок и 9 млн патронов. Можем отпустить при соответствующей обстановке до 12 орудий со снарядами и 40 пулемётов с патронами и лентами и прочим. Готовятся к отправке Фэну 1000 машин (по смыслу – шашек. – Авт.) и 5000 пик».
Киткомиссия Политбюро ЦК РКП(б) постановила:
«3. а. Отпуск военного имущества производить в намеченных размерах.
б. Военное имущество гоминьдановским генералам и Кантону отпустить в кредит под векселя со сроком платежа через 2 года.
в. Перевозку до Кантона и Калгана производить за наш счёт, включив её стоимость в сумму, обеспечиваемую векселями.
г. Предназначенные к отправке через Ургу в Калган 9 тыс. винтовок и 9 млн патронов, а также последующие переброски, если они будут производиться верблюжьим транспортом.
ж. Просимые Фэном шашки в количестве 1000 штук и 500 пик отпустить сейчас.
3. В отпуске мощной радиостанции в связи с её дороговизной (539000 руб.) Фэну отказать.
и. Ввиду невозможности отпустить станки для изготовления патронов из имеющегося наличия, поручить т. Мельникову выяснить вопрос о приобретении станков в Данциге, откуда имелось предложение.
к. Считать целесообразным отпуск Фэну 2–3 малых танков.
л. Кредиты Военведа в размере стоимости отпускаемого гоминьдановским генералам и Кантону военного имущества восстановить в текущем бюджетном году».
Китайская комиссия постановила отпустить 100000 руб. на организацию смешанного транспортного общества «для обслуживания дороги Урга-Калган» при переброске грузов и вооружения.
На очередном военном совете Блюхер изложил свой план Восточного похода, который позднее получит название Первого Восточного похода. Суть его заключалась в немедленной организации контрнаступления лучших соединений Национально-революционной армии против генерала Чэнь Цзюнмина. Два корпуса юньнаньцев двинутся по долине реки Дунцзян на Боло – Хэюань – Ухуа – Синин. Гуансийские войска под командованием генерала Лю Чжэньхуана должны овладеть крепостью Вэйчжоу. Восточный поход начался 2 февраля и закончился в 20-х числах марта 1925 года. В этом походе Национально-революционная армия впервые одержала крупную победу. НРА захватила обширный район на побережье Южно-Китайского моря. Более семи тысяч солдат противника было взято в плен.
С октября 1925 г. по январь 1926 г. состоялся Второй Восточный поход. С отъездом В. К. Блюхера влияние советских советников на стратегическую и оперативную подготовку второго Восточного похода заметно ослабло. Главная роль теперь перешла к Чан Кайши. Тем не менее, советники принимали участие в его разработке и успешного проведения похода. К концу 1925 г. юго-восточная часть Гуандуна была очищена от противника; в январе 1926 г. войска Национально-революционной армии заняли о. Хэнам. Советские советники способствовали созданию Национально-революционной армии, основанной на единых принципах управления, снабжения, боевой подготовки и политического воспитания. Политическую работу в НРА вели коммунисты. Как и в школе Вампу, в дивизиях 1-го корпуса были введены политотделы, назначены комиссары полков, батальонов и рот. Политработники, в большинстве своём были коммунисты. К середине 1926 г. в НРА было около тысячи коммунистов, из них 60–70 % в школе Вампу и 1-м корпусе.
1.3. Нарастание кризиса в отношениях с Гоминьданом (вторая половина 1924 г. – март 1927 г.)
«Солнце прекрасно на закате»
(кит. пословица)
Осенью 1924 г. разразилась очередная чжили-фэнтяньская война, завершившаяся на сей раз поражением У Пэйфу в результате измены входивших в чжилийскую группировку генералов во главе с Фэн Юйсяном. Верховная власть в Пекине перешла в руки коалиции победивших милитаристов – Фэн Юйсяна, Чжан Цзолиня и Дуань Цижуя. Коалиция эта, как все предыдущие и все последующие, была временная.
На базе войск, входивших ранее в группировку У Пэйфу, были сформированы так называемые национальные армии (гоминьцзюнь, в переписке и документах национальные армии именовались «народными») – 1-я, 2-я и 3-я. Главнокомандующим национальными армиями и командующим 1-й национальной армией стал «христианский генерал» Фэн Юйсян, который отныне начал играть видную и самостоятельную роль в последующем противоборстве сил в Китае. 2-ю и 3-ю национальные армии возглавили Ху Цзинъи (с апреля 1925 г. – Юэ Вэйцзюнь[65]) и Сунь Юэ, соответственно. Фэн Юйсян, поддерживавший и ранее отношения с гоминьдановцами, заявил о своей солидарности с революционным кантонским правительством Сунь Ятсена и о намерении содействовать прекращению гражданской войны в стране. В северных провинциях репрессии в отношении левых были несколько ослаблены, и коммунисты образовали в Пекине Северное бюро ЦК КПК.
В Пекине воцарился временный правитель Китая Дуань Цижуй, который в условиях общенационального подъёма вынужден был выступить с инициативой созыва общекитайской конференции по объединению страны и пригласить на эту конференцию Сунь Ятсена как одного из самых авторитетных политических лидеров Китая.
Сунь Ятсен принял это приглашение. Поездка на Север делегации Гоминьдана во главе с Сунь Ятсеном задумывалась, прежде всего, как агитационно-пропагандистское мероприятие с целью расширения политического влияния Гоминьдана на всю страну. В то же время одной из практических целей поездки было установление непосредственного контакта Гоминьдана с Фэн Юйсяном.
Между тем глава делегации был уже смертельно болен (рак печени). В письме от 1 февраля 1925 г. Л. М. Карахан сообщил Г. В. Чичерину, что Сунь Ятсен находится при смерти. «Для партии это удар, который она с трудом вынесет. Сейчас мы бьёмся над тем, чтобы провести манифест предсмертный, нечто вроде политического завещания». Видимо, ещё не зная, что Сунь доживает последние дни, И. В. Сталин в письме Л. М. Карахану от 19 февраля 1925 г. просил его сообщить «о делах в Гоминьдане, о здоровье Суня». Узнав о безнадёжном состоянии Сунь Ятсена, Сталин 6 марта 1925 г. писал Карахану: «Как дело с Сунь Ятсеном?.. Есть там в Гоминьдане люди, могущие заменить Сунь Ятсена в случае смерти. Это большой вопрос…». И. В. Сталина можно понять. В Москве всё же надеялись, что Сунь Ятсен займёт в Пекине один из ключевых постов, а в дальнейшем и возглавит пекинское правительство. 12 марта 1925 г. Сунь Ятсена, генералиссимуса, главы правительства и руководителя Гоминьдана, не стало.
Объединительная конференция в Пекине потерпела провал, что ещё раз продемонстрировало неспособность милитаристов решить проблему национального объединения мирными средствами. Идея Северной экспедиции по-прежнему витала в воздухе, потому что, если не брать в расчёт объединение Китая под эгидой Гоминьдана, захват чужих территорий способствовал разрешению внутренних проблем.
В начале 1925 г. Фэн Юйсян запросил военную и иную помощь у Советской России. Он и его национальные армии стали новым самостоятельным фактором военно-политической борьбы в Китае. В решениях Политбюро наметились тенденции к пересмотру прежнего отношения к Гоминьдану как к основной и решающей силе национальной революции. Всячески внедрялась точка зрения о перемещении центра тяжести национального движения на Север Китая, на передний план выдвигалась задача свержения пекинского правительства главным образом силами сочувствующих Гоминьдану армий.
Фэн Юйсяна и его национальные армии всё более выдвигались на передний фронт борьбы с милитаристскими режимами, где главным их противником оказался их прежний союзник по государственному перевороту – мукденская группировка Чжан Цзолиня, враждебно настроенного к Советскому Союзу. По-видимому, направленность борьбы национальных армий против Чжан Цзолиня сыграла важную роль в утверждении курса Политбюро на развитие северного варианта революции. Это был подлинно северный маршрут с географической точки зрения, в отличие от Северного похода Сунь Ятсена – Чан Кайши.
13 марта 1925 г. на заседании Политбюро ЦК РКП(б) было признано целесообразным создание «за наш счёт» двух военных школ в Лояне и Калгане. В этой связи М. В. Фрунзе поручалось в кратчайший срок сформировать две военно-инструкторские группы по 30–40 человек в каждой. Было признано желательным снабжение «сочувствующих Гоминьдану китайских войск» оружием советских образцов за плату. Л. М. Карахану предписывалось «…выяснить вопросы оплаты оружия либо деньгами, либо нужным нам сырьём и продуктами (хлопок, чай и пр.)». В распоряжение Карахана «немедленно» отпускалось «…некоторое количество оружия и боеприпасов иностранных образцов, по возможности за плату». В Лояне, в последующем в Кайфыне (провинция Хэнань), располагался штаб 2-й национальной армии, а в Калгане (провинция Чахар) – штаб 1-й национальной армии.
Если раньше поставки вооружений шли только Кантону, то теперь их предстояло распределять между НРА и тремя национальными армиями в зависимости от их поведения и быстро менявшейся военно-политической обстановки в Китае.
19 марта 1925 г. Политбюро ЦК РКП(б) постановило: «Создать комиссию в составе тт. Фрунзе, Молотова и Петрова[66] (с заменой Войтинским) для общего наблюдения за текущими мероприятиями по помощи Гоминьдану и сочувствующим ему группам».
Так возникла Китайская комиссия Политбюро ЦК РКП(б). Первым председателем комиссии был М. В. Фрунзе, председатель Реввоенсовета СССР, нарком по военным и морским делам, кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б). В последующем его на этом посту заменил К. Е. Ворошилов. Состав Китайской комиссии был не постоянным, из неё выводились и в неё вводились новые члены.
17 апреля на первом заседании комиссии присутствовали Уншлихт[67], Чичерин[68], Войтинский, Петров, Мельников, Лонгва[69], Бортновский[70] и Берзин[71]. Из всех членов комиссии только заместитель руководителя Восточного отдела ИККИ Г. Н. Войтинский и заведующий отделом Дальнего Востока НКИД Б. Н. Мельников прекрасно знали Китай. Последний же со знанием региона сочетал в себе и опыт разведывательной работы.
На своем апрельском заседании Китайская комиссия констатировала, «…что обстановка в Китае обостряется и развёртывающиеся события требуют усиления нашей помощи». События предлагалось не форсировать, тщательно взвешивая в каждом отдельном случае целесообразность оказания помощи. При этом было принято решение о «посылке некоторого количества оружия в распоряжение тов. Карахана для безвозмездной помощи генералам». Уншлихт сообщил, что оружие уже послано в количестве 2 тыс. японских и 2 тыс. германских винтовок и соответствующее количество патронов. Стоимость приготовленного к отправке оружия оценивалась в 7 710 000 руб.
Для улучшения всей военной работы в Китае Китайская комиссия Политбюро ЦК РКП(б) приняла решение «создать в Пекине центр в составе Председателя – полномочного представителя СССР тов. Карахана, членов – военного руководителя тов. Геккера (военный атташе при Постпредстве СССР в Китае) и руководителя военно-политической работой тов. Воронина („Птицина“)».
29 мая в постановлении второго заседания Китайской комиссии (Фрунзе, Уншлихт, Чичерин, Сокольников, Молотов, Бубнов[72], Петров, Войтинский, Мельников, Бортновский, Лонгва) были детализированы предложения по оказанию помощи Китаю. Организация всей военно-политической работы в Китае, также как и отпуск средств на расходы объединялись и сосредоточивались в Киткомиссии. Вопрос о направлении средств на оказание помощи Гоминьдану и Киткомпартии передавался Коминтерну. Общее число инструкторов в трёх группах и пекинском центре было определено в 128 человек. Содержание одной группы (вместе с оперативными расходами) не должно было превышать 200 тыс. рублей в месяц. Было поддержано предложение сформировать на Юге Китая две новые гоминьдановские дивизии и школу Вампу. На формирование двух новых дивизий и содержание одной старой дивизии было отпущено 450 тыс. рублей сроком до 1 января 1926 г.
На усиление разведывательной работы было отпущено с 1 апреля по 1 сентября 1925 г. 30 000 долларов США, т. е. в среднем 6000 долларов в месяц. Указанная сумма включалась в общую смету расходов на военно-политическую работу в Китае. Мельникову и Лонгве было поручено разработать практические предложения по этому вопросу.
Отправку людей и военных грузов следовало производить максимально конспиративно, в том числе использовать иностранные суда.
В мае на север Китая в Калган в ставку 1-й национальной армии маршала Фэн Юйсяна прибыла группа военных советников из Советского Союза во главе с комкором В. К. Путной[73]. Среди прибывших в Калган военных советников были А. Я. Климов[74], Б. А. Жилин[75], Н. Ю. Петкевич[76] и П. П. Каратыгин[77]. Политика предоставления помощи национальным армиям сопровождалась периодически возникавшими сомнениями в её целесообразности. Уже в первые недели своего пребывания в Китае Путна высказал мнение о низкой политической сознательности и даже реакционности генералитета, в целом – о нецелесообразности политики опоры на национальные армии. В своих донесениях он докладывал М. В. Фрунзе: «Фэн принимает наше участие как неизбежное и очень неприятное зло».
Соображения Путны входили в противоречие с позицией Л. М. Карахана о потенциальных революционных возможностях северной группировки. Видимо, поэтому уже в июле Путну на посту руководителя группы военных советников сменил комкор В. М. Примаков.
5 июня 1925 г. на заседании Китайской комиссии Политбюро ЦК РКП(б) было принято предложение Фрунзе о формировании на территории Монголии для оказания помощи Фэн Юйсяну интернационального отряда в составе одного кавалерийского полка. Комплектование людского контингента полка предусматривалось произвести в Северо-Кавказском военном округе и из распущенных партизанских отрядов, а также добровольцев из Красной армии. Отряд должен был «существовать и действовать» как составная часть китайских войск. Формирование отряда предусматривалось произвести за счёт имеющегося у Дальревкома «опийного фонда». Фрунзе должен был «…договориться с Дальбюро о порядке и формах реализации фонда».
А в июне того же года в центральной части Китая, в Кайфыне, в штабе командующего 2-й национальной армии генерала Юэ Вэйцзюня появились советские военные советники, возглавляемые Г. Б. Скаловым[78] (псевдоним «Синани»). Последний возглавлял также группу советников при штабе командующего сформированной 3-й национальной армии. В отличие от 1-й национальной армии, являвшийся образцовой по отношению ко 2-й и 3-й национальной армий, на службу в которые брали дезертиров и хунхузов.
Начальник штаба калганской группы советников, в последующем советник при начальнике связи НРА Н. В. Корнеев[79] (оперативный псевдоним «Андерс»), в своём докладе о работе группы отмечал иллюзии, которые питало руководство в Москве по поводу ситуации в Китае, а также ничем не оправданную поспешность при подготовке к отправке военных советников. Корнеев, в частности, писал:
«Москва представляла обстановку так, что военные действия – выступление Национально-революционной армии с национально-революционными целями – должны произойти в ближайшие месяц-два, и, соответственно, рисовала задачу группы как руководство национально-освободительной борьбой армии. При этом исходили из кратковременности войн в Китае и определили срок работы от 6 месяцев до одного года.
Подбор личного состава соответствовал такому взгляду на задачи группы. Начиная от начальника и донизу первоначального состава группы – никому не было указано на необходимость продолжительной и кропотливой работы в Китае; наоборот, кратковременность срока (1/2 – 1 год) усиленно подчёркивались, равно и необходимость напряжённой короткой работы. Естественно, что в таких условиях в состав группы поголовно вошли не люди, решившие посвятить свою жизнь Китаю, а люди, лишь согласившиеся ненадолго оторваться от работы в Кр[асной] ар[мии] ради напряжённой, непосредственно революционной работы в стране, представления о которой были самыми общими. Что для большинства членов группы поездка в Китай не была целью многих лет жизни, а лишь случайно представившимся эпизодом – об этом свидетельствует тот факт, что из группы лишь два человека до этого изучали английский язык, и лишь один из этих двух – китайский. Таким образом, сам подбор группы предопределял, что долго проработать в Китае она не способна…
За спешностью подбора последовала спешность подготовки. Не только подавляющее большинство группы не было знакомо с техникой конспирации, но и посылающие органы её не соблюдали и не знали не только условий проезда по чужой территории, но и техники получения виз в Китпосольстве в Москве. Следствием этого явилась массовая явка новоиспечённых „коммерсантов“ безо всяких деловых документов в китпосольство в Москве, отказы в визах, новая явка с „документами“, поездка в специально прикреплённых вместо вагона-ресторана (для двух десятков „коммерсантов“!) спальных вагонах, штамп „Н. К. И. Д.“ на проездных билетах „коммерсантов“, неловкости на границе и т. д. Москве совершенно не были известны условия поездки через Монголию, не требующие строгих формальностей, и т. п. В результате поездка группы через Маньчжурию ни коим образом не могла укрыться от чжановского (Чжан Сюэляна. – Авт.) и японского сыска в Маньчжурии».
Ситуация не изменилось и по истечении года после прибытия в Китай первой партии военных советников (инструкторов).
В ходе боевых действий, продолжавшихся с февраля по март 1925 г., армия южнокитайского правительства вытеснила Чэнь Цзюнмина из восточной части провинции Гуандун. Победа над Чэнь Цзюнмином, однако, не сделала положение кантонского правительства устойчивее. Ситуация изменилась, когда в конце мая – середине июня 1925 г. при активном участии советских военных советников удалось освободить Кантон и прилегавшие к нему местности от занимавших его частей бывших союзников – юньнаньских и гуансийских войск.
В июне 1925 г. по решению ЦИК Гоминьдана были объявлены реформы военного и гражданского управления. Центральным органом управления армии стал Военный совет, назначаемый ЦИК, с упразднением должностей командующих и главнокомандующих армиями. Вопросы гражданского и административного управления выделялись из компетенции военных и передавались в полное ведение образуемых провинциальных правительств. Должность гражданского губернатора упразднялась. Все финансы должны были объединяться в руках правительства.
1 июля 1925 г. в Кантоне было провозглашено создание национального правительства Китайской Республики под председательством известного «левого» гоминьдановца, «лучшего оратора партии», одного из давних сподвижников Сунь Ятсена – Ван Цзинвэя[80], пользовавшегося большой популярностью. Ван Цзинвэй по совместительству стал также председателем Военного совета национального правительства. М. М. Бородин был официально назначен главным советником национального правительства.
В ответственный для Гоминьдана период подготовки к провозглашению национального правительства Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение о форсировании военной помощи Кантону.
Достижение относительной централизации военного командования позволило приступить к реорганизации частей самой армии, что сопровождалось переводом их на денежное и вещевое довольствие, снабжение оружием и боеприпасами из централизованных правительственных источников. Войска подлежали переформированию по типовым штатам в дивизии, которые сводились в корпуса, с подчинением Военному совету. Одновременно предусматривалось проведение «отрицательной военной и политической работы» по разоружению армий милитаристов, находившихся на территории Гуандуна. Определённый успех в этом направлении во многом был достигнут благодаря советским военным советникам. В последующем Чан Кайши пытался перенести приобретённый опыт и на воинские части милитаристов в других провинциях. Процесс затянулся на десятилетие без видимых результатов.
Чан Кайши и руководству Гоминьдана удалось к концу 1925 г. осуществить ряд мероприятий по реорганизации армии. Разношёрстные милитаристские войска были переформированы в шесть корпусов Национально-революционной армии, костяком которой стали две дивизии из трёх (1-й корпус) «партийной» армии под командованием Чан Кайши, созданные на базе военной школы Вампу. Лояльность Гоминьдану остальных пяти корпусов вызывала большие сомнения. Была предпринята попытка ввести в армии институт гоминьдановских политических комиссаров, однако эти начинания осуществлялись с большим трудом и не пустили глубокие корни.
Окончательный разгром войск Чэнь Цзюнмина осенью 1925 г. завершил этап утверждения Гоминьдана, который военным путём пришёл к власти в провинции Гуандун, осуществляя военный этап строительства государства в локальных масштабах. Для этого Гоминьдану понадобилось до двух лет ожесточённой вооружённой борьбы с противниками своего политического курса в рамках одной провинции.
Проведённые мероприятия по реорганизации армии и освобождению Гуандуна от союзников-милитаристов выдвинули Чан Кайши на первые позиции среди военных, чему не в малой степени способствовали советские военные представители. Именно они помогли Чан Кайши освоить стратегию управления войсками.
«Внешне он резко выделяется от остальных своей военной выправкой, а манера держаться обнаруживает в нём в полном смысле военного начальника. Отличает его также личная работоспособность. Требовательный к себе, он также требователен и к своим подчинённым, – указывал В. К. Блюхер, хорошо знавший Чан Кайши. – …Самовлюблённый до крайности, он считал себя во всех отношениях выше других и признавал авторитетом для себя одного Суня. Упрям, и если ему взбредёт в голову идея, а они у него рождаются часто, то столкнуть его с прямого решения или изменить „идею“ бывало трудно, а делать это приходилось так, чтобы изменённое решение преподнести ему как его собственное… Усиленно тренирует себя на изучении Конфуция, что делал даже в перерыве боёв на фронте. Усиленно изучает жизнь и деятельность Наполеона, несколько раз даже задавал русским советникам вопрос: „Может ли быть в Китае Наполеон?“… Несомненно, идея стать для Китая Наполеоном ему не чужда.
Большой индивидуалист. Вопрос о том, насколько искренне его отношение к коммунистам, дискутировался среди нас и кит[айских] коммунаров не раз. Одни считают, что он искренен, другие находят, что это он делает в силу того, что выступить против коммунистов, это, значит, испортить отношения с русскими и лишить себя помощи со стороны русских, от которых зависит получение оружия и, стало быть, рост его силы. Эта группа товарищей считает, что он покончит свои хорошие взаимоотношения с коммунистами в тот момент, когда почувствует себя сильным. Третья группа считает, что объективная обстановка заставит его сотрудничать с коммунистами даже тогда, когда он будет действительно силой. Последнее возможно, но вернее будет второе. Остаётся неизменным одно, что его надо по-прежнему прощупывать и что для окончательного вывода нет ещё достаточных оснований.
Можно быть спокойным лишь за одно, что он пойдёт до конца за освобождение Китая от иностранной зависимости и не будет заключать сделок с империализмом. И, наконец, не превратится в преследующего свои личные цели генерала… Дискутировался также вопрос, до каких же пор способствовать росту его сил? И на это… отвечали, что усиливать его больше чем тремя дивизиями нежелательно и что следует наряду с ним выставить и других политически надёжных командиров из революционных генералов».
Эта во многом провидческая характеристика была дана Блюхером Чан Кайши в сентябре 1925 г.
«Для каждого разумного китайского генерала сейчас ясно, что Чан Кайши был выдвинут русскими коммунистами», – писал один из советских военных советников В. Е. Горев[81] (псевдоним «Никитин»). И не только выдвинут. Чан Кайши, как военачальник, как стратег, был сформирован русскими военными советниками и в первую очередь В. К. Блюхером.
В Китае Блюхер часто болел; его беспокоило ранение, полученное на Германском фронте, и полученный здесь фотодерматит. К лету 1925 года болезни окончательно скрутили его. В начале июля Блюхер выехал в Шанхай и Пекин и провёл не менее месяца в Калгане в расположении Национальной армии Фэн Юйсяна, откуда 23 июля 1925 года убыл в Советский Союз на лечение.
Главным военным советником в Кантоне был назначен Н. В. Куйбышев[82] (псевдоним «Кисанька»), младший брат Валерьяна Владимировича Куйбышева.
В августе в адрес КПК было направлено указание об «Организации вооружённых сил китайской революции», в основу которых был положен опыт Гражданской войны в России. Согласно этому указанию, был создан Военный отдел ЦК КПК в Шанхае, который возглавил Чжан Готао[83], но его фактическим руководителем был военный советник Хмелев (А. П. Аппен[84]). В Шанхай он приехал 23 ноября 1925 г. По решению, принятому в Москве, Аппен непосредственно не подчинялся главному военному советнику Национального правительства и главного командования НРА В. Блюхеру, поскольку он являлся официальным советским работником в Китае. Военно-партийная работа КПК началась с осени 1925 г. по инициативе Москвы и в соответствии с проектом директивы о военной работе КПК, подготовленной в августе 1925 г. Восточным отделом ИККИ. В ней выдвигалось предложение о необходимости партии вести работу по организации вооружённых сил китайской революции и подготовке масс к боям «с иностранными империалистами и реакционными китайскими милитаристами». В проекте указывалось, что ЦК КПК и крупнейшие местные партийные организации «должны организовать специальные военные отделы во главе с наиболее авторитетными членами бюро этих комитетов». Военным отделам предлагалось вести работу в двух направлениях: работа по накоплению и организации собственных сил и разложению и использованию сил противника (Гоминьдана).
В отличие от Гоминьдана и национальных армий советская военная помощь КПК в это время в основном ограничивалась лишь указанными рекомендациями и подготовкой кадров.
Формирование в Коминтерне преувеличенных представлений о роли коммунистов в Гоминьдане и об их возможностях в «перевоспитании» Гоминьдана было связано с одномерностью характеристик Гоминьдана. Ситуация, складывавшаяся в нем, рассматривалась только под углом зрения борьбы правых и левых, без должного внимания к политической программе Гоминьдана и к его представлениям о форме национально-освободительного процесса. Идея завоевания Гоминьдана коммунистами изнутри приняла завуалированную форму тактики опоры на «левое» крыло Гоминьдана, которому приписывались несвойственные ему черты: бескомпромиссность в антиимпериалистической политике, позиция опоры в национальной революции на рабоче-крестьянское движение и т. д. По сути, настоящими левыми являлись только члены КПК, вступившие в Гоминьдан. Вместе с тем не оправдались расчёты Сунь Ятсена и Гоминьдана на поглощение КПК, что вызвало в самом Гоминьдане сильные трения и обострение внутрипартийных разногласий.
Общее брожение среди политически активной части городского населения вылилось летом 1925 г. в стихийный общенациональный взрыв, получивший собирательное название «движение 30 мая». Центром движения стала всеобщая антиимпериалистическая забастовка в Шанхае, явившаяся следствием расстрела английской полицией студенческой демонстрации 30 мая и продолжавшаяся полтора месяца. Всеобщая забастовка нашла широкий отклик и поддержку как в самом Китае, так и за рубежом.
С начала 1925 г. Политбюро ЦК РКП(б), а в последующем и его Китайская комиссия взяли в свои руки инициативу разработки новой политики в Китае – «Северного маршрута китайской революции», с опорой на национальные армии. Параллельно сохранялся и прежний базовый тезис о поддержке Гоминьдана и его правительства на Юге, однако при новом раскладе ему придавалось меньшее значение.
К концу октября 1925 г. план Северного маршрута принял более или менее законченный вид, претерпев по сравнению с первоначальными набросками существенные изменения. В его основе лежали конкретные предложения М. В. Фрунзе, сложившиеся главным образом на информации, поступившей из Китая от Л. М. Карахана. Главным врагом национально-революционного движения по-прежнему был определён Чжан Цзолинь. Фрунзе констатировал, что ход развертывавшихся в Китае событий «…всё больше и больше выдвигает на первый план У Пэйфу и возглавляемую им чжилийскую клику». В этой ситуации роль и значение национальных армий и, в частности Фэна, также затушёвывались. Таким образом, основная форма движения определялась чётко и однозначно – война между чжилийской группировкой У Пэйфу и мукденской Чжан Цзолиня. Гоминьдан оказывался сторонним наблюдателем в назревшем конфликте. Его участие в событиях ограничивалось политической поддержкой Фэн Юйсяна, национальные армии которого тоже должны были выступить. Новое китайское правительство планировалось создать на основе блока чжилийцев (У Пэйфу), гоминьдановцев Севера (Фэн Юйсян) и Юга Китая (кантонское правительство).
Понимая всю зыбкость планируемого объединения, Китайская комиссия предполагала как вариант «продолжение войны за создание действительно единого Китая». На этот раз уже против У Пэйфу и его сторонников. 5 ноября 1925 г. У Пэйфу был назначен главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами, выступающими против Чжан Цзолиня. При этом Фэн Юйсян категорически был против какого-либо альянса с У Пэйфу, продолжая рассматривать его как своего врага.
Ни один из одобренных Политбюро планов использования северного военно-политического фактора – Северного маршрута в конечном итоге не увенчался успехом.
Критическим моментом для Чжан Цзолиня и его армии стало восстание осенью 1925 г. одного из его молодых генералов Го Сунлина[85] в союзе с сыном правителя Маньчжурии – Чжан Сюэляном. Измена в войсках Чжан Цзолиня подготавливалась давно и была следствием раскола в фэнтяньской военно-политической группировке. Го Сунлин уже за год до описываемых событий договорился с Фэн Юйсяном о совместных действиях против Чжан Цзолиня. В начале декабря положение Чжан Цзолиня стало катастрофическим: его войска отступили из Жэхэ, Го Сунлин подошёл уже вплотную к самому Мукдену. Когда судьба столицы Северо-Восточного Китая была уже предопределена, а Чжан Цзолинь бежал из города в Дальний, Япония остановила наступление Го Сунлина путём интервенции своих войск. Сам Го Сунлин был схвачен японцами и вскоре расстрелян. Благодаря помощи японских войск Чжан Цзолинь едва смог удержать под своей властью северо-восточные провинции.
В ноябре 1925 г. Фэн Юйсян, следуя договорённостям о совместных действиях с Го Сунлинем, двинул свои национальные армии, общей численностью 150 тыс. человек, на позиции мукденских войск в Северном Китае, и на исходе этого же месяца войска Фэна вошли в Пекин.
В начале 1926 г. под нажимом империалистических держав произошло временное примирение Чжан Цзолиня и У Пэйфу, которые вместе с примкнувшими к ним шаньдунскими и шансийскими милитаристами развернули совместные боевые действия против национальных армий.
На стороне войск шаньдунского военного губернатора маршала Чжан Цзунчана[86] (одного из ближайших сподвижников маршала Чжан Цзолиня) в междоусобной борьбе китайских милитаристов принимали участие и русские наёмные части генерал-лейтенанта К. П. Нечаева.
Возможность использования русских наёмных войск появилась у китайских генералов ещё в 1919 г., когда атаман Г. М. Семёнов предложил маршалу Чжан Цзолиню сформировать для него конницу из монголов под командованием казаков. Нерешительность старого маршала воспрепятствовала реализации этого плана. Но идея использования белых формирований в интересах враждовавших китайских милитаристов была неоднократно реализована на деле.
В 1923 г. в разгар вражды с «христианским» генералом Фэн Юйсяном, маршал Чжан Цзолинь решил создать иностранный легион из белоэмигрантов. Формирование отряда было поручено М. М. Плешкову, командовавшему в Первую мировую войну 1-м Сибирским стрелковым корпусом. Отряд должен был состоять из трёх батальонов и вспомогательных подразделений. На призыв генерала Плешкова откликнулись свыше 300 добровольцев из числа белоэмигрантов, работавших в исключительно тяжёлых условиях на лесных концессиях. Поступавший в отряд подписывал шестимесячный контракт с правом возобновления его на более продолжительный срок. Контракт гарантировал добровольцу выплату жалованья и единовременную денежную помощь семье в случае его смерти. Когда добровольцы прибыли к месту сбора – в Мукден, наёмные войска уже были не нужны, так как было подписано мирное соглашение между Чжан Цзолинем и Фэн Юйсяном. Добровольцы с трудом добились выплаты жалованья только за один месяц.
За создание нового отряда наёмных войск из числа русских военнослужащих позднее взялся шаньдунский военный губернатор Чжан Цзунчан. К формированию отряда приступил полковник В. А. Чехов, который осенью 1924 г. передал командование войсковой частью генералу Нечаеву, зарекомендовавшему себя как талантливый военоначальник. В состав войсковой группы генерала Нечаева (общей численностью до четырёх тысяч человек) входили пехотная и кавалерийская бригады, отдельные части, воздушная эскадрилья, дивизион бронепоездов. Нечаевские бронепоезда, среди которых были «Пекин», «Шаньдун» и другие, были построены из простых вагонных платформ, где вместо стен были положены мешки с песком. К 1927 г. количество бронепоездов в Нечаевском отряде дошло до 11 единиц. Нечаевцам противостояли войска северных китайских милитаристов, с которыми воевал Чжан Цзунчан. Первое вооружённое столкновение с гоминьдановскими частями отряда Нечаева произошло при обороне Нанкина в марте 1927 г., которое завершилось поражением войск Чжан Цзунчана. Ещё спустя некоторое время отряд генерала Нечаева прекратил своё существование.
В нечаевском отряде поддерживалась убеждённость в том, что за помощь, оказанную северокитайским и маньчжурским милитаристам, те, в свою очередь, помогут белогвардейцам в развёртывании операций на российской территории против советской власти. В эмигрантских кругах Китая придавали преувеличенное значение трёхлетнему существованию отряда белоэмигрантов, говорили о нём как о мощной военной единице, которая прошла взад и вперёд чуть ли не по всему Китаю. Однако оружие нечаевцев было далеко не самое современное, бронепоезда «домашнего» изготовления, выделяемых финансовых и материальных средств всегда было недостаточно, невыплата жалованья была хроническим явлением. И хотя военные успехи русских добровольцев были очевидны, не следовало забывать, что в период китайской смуты успех операций зависел не столько от доблести, сколько от серебряных долларов, на которые были так падки китайские генералы.
Бывшие колчаковские и семёновские солдаты воевали и на стороне войск Фэн Юйсяна. В течение двух лет в состав 1-й Национальной армии «христианского» генерала входил отряд генерала Капустина. Во 2-й Национальной армии сражался отряд полковника Генерального штаба царской армии А. Ф. Гущина в количестве 100 человек. Бывшие белогвардейцы стремились «честным трудом» заработать право вернуться на Родину.
В этот период на военную арену впервые как организованная сила вышли тайные общества и, в частности, «Красные пики», которые возникли в начале 20-х годов как организации деревенской самообороны в борьбе с бесчинствами милитаристов. Отношения между «Красными пиками» и 2-й Национальной армией в Хэнани обострились, когда командующий армией Юэ Вэйцзюнь для обеспечения дальнейшей войны с Чжан Цзолинем ввёл чрезвычайные налоги и принудительные поставки. Это вызвало восстание местных крестьян, организованное тайным обществом «Красные пики» в январе 1926 г. Этим выступлением воспользовался У Пэйфу и довершил разгром своих бывших союзников.
В апреле 1926 г. в китайскую столицу вошли войска У Пэйфу и Чжан Цзолиня. Дуань Цижуй был вынужден уйти в отставку. 1-я и 3-я Национальные армии, на которые Москва возлагала большие надежды, потерпели поражение и отступили в северо-западные провинции, где до осени 1926 г. вели тяжёлые бои с превосходящими силами Чжан Цзолиня и его союзников. Сам главнокомандующий национальными армиями маршал Фэн Юйсян ещё в январе 1926 г. объявил о своём добровольном уходе в отставку и занял выжидательную позицию. В начале 1926 г. через Монголию он выехал в Москву, где встречался с советскими руководителями. Высказывается также утверждение, что он встречался с И. В. Сталиным 21 мая 1926 г.
В январе 1926 г. в Гуанчжоу проходил II конгресс Гоминьдана, в работе которого приняли участие все группировки Гоминьдана (кроме крайне «правых»), представлявшие почти 250 тыс. членов. Съезд подтвердил право коммунистов на индивидуальное членство, подчеркнул значение сотрудничества с Советским Союзом. Председателем Политического совета ЦИК Гоминьдана стал Ван Цзинвэй. В избранных съездом ЦИК и ЦКК партии «левые» и коммунисты составляли большинство. Позиции, завоёванные КПК в руководящих органах Гоминьдана на его II конгрессе, действительно были впечатляющими, однако они неадекватно отражали роль и позиции КПК в Гоминьдане в целом.
Чан Кайши впервые вошёл в состав ЦИК Гоминьдана. Это свидетельствовало о росте его авторитета после успешного проведения двух походов против Чэнь Цзюнмина. Чан Кайши в то же время являлся членом Военного совета, командующим 1-м корпусом НРА и начальником военной школы Вампу.
Параллельно с действительными достижениями кантонского правительства и внешней левой радикализацией Гоминьдана происходил до поры до времени не прорывавшийся наружу тревожный процесс активизации и сплочения правых сил в Гоминьдане и брожения среди генералитета и офицерства НРА.
Все изложенные выше противоречивые процессы вызывали у советского руководства одновременно преувеличенные, иллюзорные представления о состоянии и потенциале «национально-революционного движения» и серьёзную тревогу. На решениях советского руководства по китайскому вопросу сказывались не только сложность обстановки в Китае, но и неоднозначность оценок, поступавших с мест. К одним из этих оценок в Москве прислушивались и на их основании делались выводы. Другие оценки, если они шли в разрез с уже сформировавшимся мнением, оставлялись без внимания и выводы, а если и делались, то в отношении авторов таких оценок.
В Пекине имелись серьёзные, кардинальные противоречия в части оценки обстановки в Центральной и Северной части Китая между послом Л. М. Караханом, с одной стороны, и военным атташе А. И. Егоровым[87] и его помощником В. А. Трифоновым[88] (направлен в Китай в ноябре 1925 г.), с другой.
Проводивший с Трифоновым переговоры о направлении на работу в Китай А. С. Бубнов, на тот момент секретарь ЦК, «…гарантировал создание в Китае Рев[олюционного] Воен[ного] Совета для военно-политического руководства там». Крупный государственный деятель Трифонов, являвшийся в прошлом членом РВС армий и фронтов, дал согласие на командировку в качестве члена планируемого Реввоенсовета с формальным зачислением на должность помощника военного атташе при полпредстве РСФСР. В дальнейшем ЦК РКП(б) отказался от идеи создания в Китае Реввоенсовета, что, «естественно, вызвало осложнения во взаимоотношениях» и с полпредом Л. М. Караханом, и с военным атташе А. И. Егоровым. Должность помощника военного атташе была слишком незначительной для человека такого масштаба.
В своей записке, поданной в Политбюро ЦК РКП(б), Трифонов писал, что по мнению советского полпредства в Пекине задачу содействия национальному объединению Китая можно разрешить следующим образом: «Китайскому генералу-„феодалу“ нужно „помочь“ превратиться в вождя национального движения; этому вождю нужно помочь организовать армию; этой армии нужно помочь организовать национальное правительство, а правительству – завоевать Китай». Руководителей советского полпредства, замечал Трифонов, «…при этом не смущает… если этот генерал не будет ни левым в политическом смысле, ни национально настроенным, – под давлением материальной заинтересованности и соответствующей обработки, под влиянием растущего национального движения генерал этот, по мнению руководителей полпредства, будет неизбежно эволюционировать в нужную сторону».
В качестве генерала, над которым следовало «экспериментировать», отмечал Трифонов, полпредство «взяло Фына» – Фэн Юйсяна. «В Центральном Китае Фын является главной фигурой, вокруг которой полпредство ведёт свою военно-политическую работу. Ему уделяется львиная часть помощи, в его распоряжение передаются большинство инструкторов, ему уделяется максимум внимания». В части характеристики креатуры советского правительства и полпредства Трифонов писал: «В Китае как у коммунистов и гоминьдановцев, так равно [и] в широких массах населения у Фына твердо установившаяся репутация: типичный китайский милитарист, решительный и бесцеремонный в достижении личных выгод; многократно предавал тех, с кем он был связан узами дружбы и совместной работы; человек, которому верить нельзя; христианский генерал, воспитывающий свою армию в духе христианского послушания; в политическом отношении нечто в высшей степени бесформенное; как и большинство китайских генералов, в политической борьбе он видит главным образом средство к наживе, герой первоначального накопления; к общественному движению относится вполне отрицательно, хотя и пытается использовать его в своих корыстных интересах путём подкупа, угрозы насилия». Жёсткая и, как показало развитие событий, справедливая оценка.
«Если бы советское полпредство хотя бы небольшую часть тех денег, которые сейчас тратятся на поддержку военных авантюристов, истратило на помощь компартии, на подготовку опытных и знающих партийно-политических кадров, на помощь китаеведам, на литературу, то польза для революционного движения была бы неизмеримо большая, а Советская Россия сберегла бы свои миллионы, – отмечал в своей записке помощник военного атташе. – Надо ведь помнить, что мы сейчас ведём работу в Китае, совершенно не зная Китая, не владея языком, располагая всего 3–4 знающими язык переводчиками. Уже одно это обстоятельство должно было внушить нашему полпредству большую продуманность в его чрезвычайно ответственной работе». Трифонов, в отличие от Карахана, считал, что «влияние наших советников и вообще советское влияние на народные армии совершено ничтожно» при том огромном финансовом бремени, которое несёт наша страна.
Однако наряду с обликом типичного китайского милитариста существовал и другой Фэн Юйсян, который не мог не привлечь внимание Л. М. Карахана. Популярность Фэн Юйсяна в середине 1920-х гг. могла сравниться только с известностью Сунь Ятсена. Китайский милитарист обладал необыкновенной харизмой и способностью управлять людьми. Имя Фэна[89] получило широкую известность благодаря его заботе о простом солдате и системе военной подготовки, основанной на нравственных ценностях христианства и традиционной китайской морали, сочетавшей в себе патриотическое воспитание в духе антиимпериализма и борьбу за «исправление сердец», а позднее и «народные принципы» Сунь Ятсена.
Средства на оказание помощи людям, пострадавшим от войны и потерявшим кров, были получены Фэном в Хэнани в результате конфискации имущества и ценностей бывшего губернатора, частная собственность которого оценивалась в 25 млн долларов США. Планы реформ Фэн Юйсяна потрясали воображение, как китайцев, так и иностранцев. Да и как было не попасть под обаяние такого единственного в своём роде милитариста – «революционера» на китайской внутриполитической сцене.
По решению комиссии А. С. Бубнова помощник ВАТа В. А. Трифонов из-за разногласий с советским полпредом Караханом, который, по мнению Трифонова, проводил ошибочную политику в Китае, был отозван на родину в марте 1926 г.
Разногласия между советскими представителями в Китае, в данном случае ещё не доведённые до конфронтации, существовали и на Юге Китая между главным политическим советником национального правительства и ЦИК Гоминьдана М. М. Бородиным и Н. В. Куйбышевым, ставшим после отъезда В. К. Блюхера руководителем южнокитайской группы военных советников и главным военным советником национального правительства. «Считаю, что Бородин со своими застывшими приёмами работы становится всё вреднее и вреднее, – писал Н. В. Куйбышев 13 января 1926 г. военному атташе А. И. Егорову. – Не отрицая, а наоборот, подчёркивая большие заслуги Бородина по нашим достижениям в Китае в прошлом, считаю, что он своё сделал и на большее не способен. Необходима присылка в Кантон нового сильного работника и обязательно партийца в лучшем смысле этого слова. Для успеха работы и для необходимого авторитета в глазах русских работников новый политический советник должен быть крупной революционной и партийной фигурой. …И если я считаю [необходимой] замену Бородина, то не на основании своих взаимоотношений; я считаю, что в его прямой работе он сделал всё от себя зависящее, и вперёд за событиями и обстановкой он не поспевает».
Говоря о прошлых заслугах М. М. Бородина, Н. В. Куйбышев был справедлив. Выступая 15 и 17 февраля 1926 г. в Пекине на заседаниях комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) (комиссия А. С. Бубнова) М. М. Бородин утверждал: «Мы указывали ему [Cунь Ятсену] на то, что без партии и без определённой программы партии он никогда ничего тут не добьётся… Кроме того, мы указывали ему на то, что со старой армией он ничего не добьётся, что необходимо наряду с реорганизацией партии взяться также за реорганизацию армии, даже за создание новой армии». Здесь он явно преувеличивал, так как ещё в январе 1923 г. Сунь Ятсен при встрече с А. А. Иоффе в январе 1923 г. завил, что он планирует в ближайшее время реформы в армии и Гоминьдане. Однако планировать мало. «Мы» не только указывали, но и содействовали в реорганизации Гоминьдана и создании новой армии, в чём немаловажную роль сыграл и М. М. Бородин.
4 января 1926 г. Л. Д. Троцкий направил письмо в секретариат ЦК ВКП(б):
«Развёртывающиеся в Китае события могут иметь решающее значение на ряд лет. В связи с этим поднимаю снова вопрос о посылке вполне компетентной политической комиссии, которая могла бы принимать необходимые и неотложные решения на месте».
Реакция поступила через 10 дней. Из протокола № 3 (Особый № 2) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) (14 января 1926 г.):
«Считать необходимым срочный отъезд в Китай комиссии в составе тт. Бубнова [секретарь ВКП(б), начальник Политуправления РККА] (председатель), Кубяка[90] [член ЦК ВКП(б)], Лепсе[91] [член ЦК ВКП(б)], включив в комиссию т. Карахана [советский полпред в Пекине]». В Китае комиссия была известна как «комиссия Ивановского» по псевдониму А. С. Бубнова.
Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) наделялась широкими полномочиями. Перед ней ставились следующие задачи: «1) выяснить положение в Китае и информировать Политбюро, 2) принять на месте, совместно с т. Караханом, все необходимые меры, поскольку они не нуждаются в санкции Политбюро, 3) упорядочить работу посланных в Китай военных работников и 4) проверить, насколько обеспечен правильный подбор посылаемых в Китай работников и как они инструктируются».
Болезненный удар по политике ВКП(б) и Коминтерна в Китае был нанесён выступлением Чан Кайши в Кантоне 20 марта 1926 г. и его последующими политическими акциями.
Существует ряд версий о причинах этих событий. Однако фактическая сторона представлена в литературе более или менее одинаково и сводится к следующему. 20 марта 1926 г. в связи с приближением к школе Вампу военного корабля, командиром которого был коммунист, Чан Кайши ввёл в Кантоне военное положение. Соратник Сунь Ятсена заявил о «коммунистическом заговоре», направленном на захват военной школы и пленение его самого с последующей доставкой во Владивосток. Было арестовано несколько десятков коммунистов, подвергнуты домашнему аресту представители КПК в подчинённых Чан Кайши воинских частях, лишены были свободы передвижения советские военные инструкторы и советники, работавшие в Кантоне. Но, не получив одобрения со стороны командующих 2-м и 3-м армейскими корпусами НРА Тань Янькая[92] и Чжу Пэйдэ[93] соответственно, Чан Кайши был вынужден отменить ранее отданные приказы. Сам Чан Кайши объяснил эти действия невыполнением его приказа о мерах по пресечению нарушений дисциплины. Фактически события 20 марта стали политическим переворотом, ибо произошла существенная перестановка сил.
Восприняв выступление Чан Кайши как личный вызов себе и проводимой им политике, председатель национального правительства Гоминьдана Ван Цзинвэй, сославшись на болезнь, внезапно покинул Кантон и выехал «для лечения» в Европу. Председателем правительства стал Тань Янькай.
События 20 марта явились полной неожиданностью как для Москвы и советских представителей в Китае, так и для КПК. Гоминьдан явно выходил из-под контроля, что заставляло вести трудные поиски выхода из запутанной и весьма неблагоприятной ситуации.
А. С. Бубнов в письме от 27 марта 1926 г. М. М. Бородину дал оценку возглавляемой им комиссии происшедшим событиям: «Мартовское выступление было ни чем иным, как маленьким полувосстанием, направленным против русских советников и китайских комиссаров. Оно вытекло из внутренних кантонских противоречий. В то же время оно было осложнено, ускорено и обострено крупными ошибками, допущенными в военной работе, а также обнаружило и некоторые общие ошибки руководства».
К «крупным ошибкам» в военной работе комиссия Бубнова сочла необходимым отнести следующие:
«г) слишком быстрым темпом проводимая централизация армейского управления (Главный штаб, Управление снабжения и ПУР) не могли не вызвать глухой оппозиции со стороны верхушки офицерского состава, в значительной степени не изжившей ещё практики, свойственной системе китайского милитаризма; д) чрезмерное окружение генералитета Нацармии органами контроля их работы и воздействия на неё. Комиссар с правом подписи каждого приказа в строевых частях, комиссар с правом вето в военных учреждениях, русский советник, нередко выпячивающий себя на первый план, а в некоторых местах даже и непосредственно командующий». Перегибы по таким вопросам как «империализм, крестьянский вопрос, коммунизм и проч.», отмечала комиссия Бубнова. «создавали лишние поводы для появления (и] развития оппозиции против советников и коммунистов в некоторых прослойках генералитета и офицерского состава».
«Что можно сделать немедленно?» – Задал риторический вопрос Бубнов, и сам сформулировал ответ на него. – «Немедленно можно сделать следующее: во-первых, должна быть в корне ликвидирована практика выпячивания и тем более непосредственное командование со стороны русских советников. …Одновременно с этим должен быть ослаблен комиссарский контроль над генералитетом, а также должно быть проявлено больше осторожности в агитационно-пропагандистской работе (не кричать о милитаристах новой формации, о мелкобуржуазности и проч.)».
Другой причиной таких действий со стороны Чан Кайши были, как сообщали в своих докладных записках о событиях 20 марта И. Б. Разгон[94] и В. П. Рогачев[95], угрозы убийства во многих анонимных письмах, которые «в последнее время Чан Кайши получал». «18 марта комиссар флота (Ли Чжилун, коммунист) получил приказ, отданный от имени Чан Кайши по телефону, о посылке к острову Вампу канонерки „Чжуншань“, – сообщал В. П. Рогачев. – Ли Чжилун „Чжуншань“ отправил, но обратился к Чан Кайши за письменным приказом. Чан Кайши заявил, что он никакого приказа не отдавал. В это время Чан Кайши получил письмо за подписью того же Ли Чжилуна (якобы также подложное), в котором Ли Чжилун предлагал Чан Кайши в трёхдневный срок (Разгон писал о 3-х месячном сроке. – Авт.) провести через правительство национализацию предприятий в Гуандуне, угрожая, в случае невыполнения, арестом и высылкой в Россию». В такой ситуации Чан Кайши справедливо опасался, что готовится заговор, его пытаются похитить и на канонерке доставить во Владивосток.
Возникли трения между советскими советниками и Чан Кайши. Он жаловался: «Я отношусь к ним искренно, но они платят мне обманом. Работать с ними невозможно… они подозрительны и завистливы, и явно обманывают меня».
Чан Кайши настаивал на откомандировании из Кантона «Кисаньки» (Н. В. Куйбышева), ставшего после отъезда В. К. Блюхера начальником южнокитайской группы военных советников, а также двух его заместителей – И. Б. Разгона (псевдоним «Ольгин») и В. П. Рогачева, обвинив всех троих во вмешательстве во внутренние дела национального правительства. Куйбышев неоднократно выступал на заседаниях Военного совета национального правительства с критикой Чан Кайши, который, пользуясь своим положением главного инспектора НРА, львиную долю средств и вооружения, отпускавшихся на Национально-революционную армию, забирал для своего 1-го армейского корпуса.
Комиссия Бубнова приняла решение пойти навстречу требованиям Чан Кайши и отозвать Куйбышева-младшего и двух его заместителей.
«Я считаю нужным сделать здесь заявление, – счёл нужным обозначить перед присутствовавшими которое сводится к тому, что то снятие верхушки, которое нами здесь произведено, никоим образом не может быть понято так, что мы хотим опорочить всё направление военной работы. …Тов. Кисанька и Рогачев были сняты по иным мотивам. …соотношение сил внутри Кантона не в пользу Нацправительства, соотношение сил в провинции в пользу Нацправительства, надо выиграть время, а для выигрыша времени надо сделать уступки. А так как ясно было, что все движение было направлено против русских советников и китайских коммунистов, то и надо было пойти по этой линии, и мы решились на снятие тт. Кисаньки и Рогачева. В результате этой уступки мы добились некоторого равновесия. Насколько оно длительно и устойчиво, насколько оно временно или постоянно, не будем сейчас говорить. Во всяком случае, выигрыш времени получился, и равновесие, может быть мало устойчивое, было достигнуто. Я подчёркиваю перед вами, что этот мотив заставил нас пойти на этот шаг, но не оценка работы этих товарищей. (Хотя нет сомнения, что группой и её начальником были допущены немалые ошибки)».
Рассуждения по поводу соотношения сил в пользу «нацправительства» в Кантоне и в провинции весьма сомнительны. Тем не менее, решение было принято.
24 марта Н. В. Куйбышев (начальник группы военных советников в Южном Китае), И. Я. Разгон (заместитель начальника группы по политической работе) и В. П. Рогачев (заместитель начальника группы) выехали из Гуанчжоу. Рогачев был отозван из Гуандуна, но Китай не покинул, т. к. был назначен помощником военного атташе при представительстве СССР в Пекине). Напряжённость ситуации была ослаблена, хотя и не были ликвидированы причины, её породившие.
События 20 марта 1926 г. явились также следствием существования достаточно широкой оппозиции подготовке Северной экспедиции, инициатором проведения которой выступал Чан Кайши. Он позиционировал себя как продолжатель дела, начатого Сунь Ятсеном, – объединения страны сверху, под властью Гоминьдана, т. е. военным путём в ходе похода на Север из революционной базы в провинции Гуандун.
Только Северная экспедиция могла позволить Чан Кайши стать лидером национального масштаба. Поэтому всех противников похода воспринимал как своих личных врагов, которых он попытался если не устранить, то нейтрализовать или ослабить. Сопротивление суньятсеновской идее Северной экспедиции исходило в первую очередь от представителей Коминтерна и советников, а также от китайских коммунистов, работавших в Гоминьдане и вне его, которые следовали жёстким предписаниям Москвы – Кантон в настоящий момент не должен задаваться целью захвата новых территорий вне Гуандуна. Любое предложение о военных экспедициях наступательного характера должно было решительно отклоняться. Кроме того, консолидация Гоминьдана под флагом подготовки к Северному походу поддерживалась далеко не всеми руководящими деятелями Гоминьдана, включая председателя правительства Ван Цзинвэя (по крайней мере, так считал Чан Кайши).
