Суббота
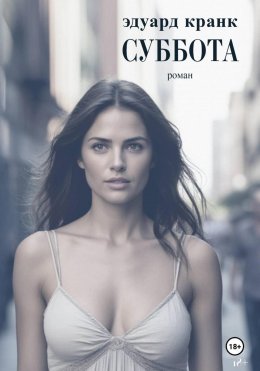
Роман
Место действия, события и герои романа вымышлены. Если кто-то сочтет себя или кого-то еще прототипом того или иного персонажа, то автор готов поклясться, что всякое совпадение носит случайный характер, не зависящий от намерений пишущего.
Э.К.
Unsere Seelen lebten nun immer freier und schöner zusammen, und alles in und um uns vereinigte sich zu goldenem Frieden. Es schien, als wäre die alte Welt gestorben und eine neue begönne mit uns, so geistig und kräftig und liebend und leicht war alles geworden, und wir und alle Wesen schwebten, selig vereint, wie ein Chor von tausend unzertrennlichen Tönen, durch den unendlichen Äther.
Friedrich Hölderlin. Hyperion
Наши души жили вместе всё свободнее и прекраснее, и всё внутри и вокруг нас слилось в золотой покой. Казалось, старый мир умер, и с нами начался новый; всё стало таким духовным, сильным, любящим и легким, и мы, как и всё живое, парили в блаженном единстве, словно хор из тысячи нераздельных тонов, сквозь бесконечный эфир.
Фридрих Гёльдерлин. Гиперион
Глава I. Увидеть «Пьету» и умереть
(Интервью на портале «9муз+»)
В городской художественной галерее открылась выставка нашего земляка скульптора Герасима Иванова «Неслучайные люди». Творчество ваятеля было представлено небольшими полнофигурными изваяниями, фотографиями и набросками, на которых изображены люди из его непосредственного окружения. Предлагаем посетителям сайта «Девять муз плюс» интервью нашего журналиста Ольги Татищевой с талантливым художником. Это, без преувеличения, эксклюзив: господин Иванов в принципе не дает интервью, и нашей корреспондентке пришлось проявить настойчивость и изобретательность, прежде чем герой дня согласился побеседовать с ней. Надо заметить, что объем публикации и некоторые высказывания скульптора расходятся с редакционной политикой нашего издания, но, следуя священному принципу свободы слова, приводим интервью полностью без какой-либо правки.
Ольга. Герасим Вадимович, как бы вы в двух словах определили мессидж вашей выставки?
Иванов. Если вы меня об этом спрашиваете, то, очевидно, никакого такого мессиджа у нее и нет.
Ольга. Экспозиция носит название «Неслучайные люди». Надо ли понимать это таким образом, что те, кого вы запечатлели в этих маленьких шедеврах, что-то для вас значат?
Иванов. Давайте не произносить слово «шедевр».
Ольга. Почему?
Иванов. Это пошло. О чем был вопрос?
Ольга. Что значат для вас те, кого вы изображаете?
Иванов. С каждым из них я как-то связан: родственники, соседи, коллеги, студенты. На самом деле, можно убрать приставку «не» в названии.
Ольга (удивлена). И получатся «Случайные люди»?
Иванов. Название придумал не я, а один писатель. Я давно хочу лепить его, а он отказывается. Почему он так несговорчив, не пойму. Боится, что ли? Бальзак боялся фотографироваться, говорил, что каждый снимок свивает с человека слой. Или вот вуду: если что-то сделать с фигуркой человека, можно причинить ему вред.
Ольга. «Иствикские ведьмы».
Иванов. Что?
Ольга. Фильм по роману Апдайка.
Иванов. Я не смотрю кино. А про Апдайка знаю от Довлатова.
Ольга. Любите Довлатова?
Иванов. Да нет, не особо. О чем мы говорили?
Ольга. О случайных и неслучайных людях.
Иванов. Ах, ну да. Жизнь устроена странным образом: тот, кто случайно оказывается рядом, в какой-то момент становится для тебя необходимым. И наоборот: персоны, без которых ты прежде не представлял своей жизни, вдруг предстают существами довольно случайными.
Ольга. Вы имеете в виду связи с вашим окружением?
Иванов. Никаких особых связей у меня нет, а если и есть, то они более чем относительны. По крайней мере, я не стремлюсь их устанавливать и уж тем более культивировать.
Ольга. Вы одиноки?
Иванов. Мне с собой самим интереснее, чем с другими.
Ольга. В таком случае, вам следовало бы выставить не других людей, а самого себя – получилась бы галерея автопортретов.
Иванов. В общем, так и есть. Когда я леплю кого-то, пытаюсь ответить на вопрос: насколько то, что занимает меня, может быть свойственно другому. Представьте, что вы приблизились к зеркалу, в котором собирались увидеть свое отражение, но вместо себя увидели другого человека.
Ольга. Как интересно! То есть ваши скульптуры – это совмещенные изображения?
Иванов. Отчасти.
Ольга. А бывает, что совмещения не происходит?
Иванов. Бывает.
Ольга. И что тогда?
Иванов. Тогда пиши пропало.
Ольга. Как это?
Иванов. Вы задаете слишком много вопросов.
Ольга. Это моя работа.
Иванов. Иногда бьешься над материалом день и ночь, а ничего не получается. Нужно как бы войти в другого человека, но при этом оставаться самим собой. Надо увидеть характерные черты, придать изображению динамику, не то ведь будет скучно. Да-да, динамику – даже в статичной фигуре: чем она статичней, тем больше должно быть внутреннего движения. А еще – положение корпуса, поза, поворот торса и шеи, наклон ключицы, движения рук и ног, рот, глаза, лоб, доминирующая эмоция, темперамент, характерный жест, облачение наконец. Как у актера: ему надо сыграть какую-то роль, и сыграть убедительно, вот он и пытается найти какое-то соответствие между собой и своим персонажем.
Ольга. По системе Станиславского?
Иванов. Увольте.
Ольга. Не любите Станиславского?
Иванов. Сам он любил себя в такой степени, что моя любовь ему не нужна.
Ольга. Интересная точка зрения.
Иванов. Напомните, пожалуйста, ваше имя?
Ольга. Ольга.
Иванов. Понимаете, Ольга, если я буду придерживаться каких бы то ни было систем, пусть даже самых красивых и увлекательных, я не смогу лепить.
Ольга. То есть рефлексия в вашем деле мало что значит?
Иванов. Довольно и моей собственной. Ну, и той, которой отмечено творчество великих мастеров.
Ольга. Ага, значит, вы на кого-то равняетесь?
Иванов. Когда я впервые увидел фотографию ангела Барлаха, я онемел. И плачу, когда гляжу на «Пьету». Я не бывал в соборе Святого Петра, не то, наверное, умер бы от счастья.
Ольга. От счастья? Но ведь пьета – это скорбь Богоматери по Сыну, снятого с креста.
Иванов. Я умер бы от счастья, что можно так творить, как этот парень, Буонарроти. Вы представляете, что он пережил, когда создавал это? Он был не только Марией, но и Христом.
Ольга. Трудно быть Богом…
Иванов (усмехнувшись). А вы что, пытались?
Ольга. То есть решение о том, как будет изображен человек, приходит не сразу?
Иванов. Когда как. Иногда мгновенно. А иногда мучаешься, как тот, кому объявили, что он скоро умрет. И не будет ни утешения, ни воздаяния, ни чего там еще.
Ольга. Но какое-то решение всегда находится, да?
Иванов. Иногда я просыпаюсь и вдруг понимаю, как надо работать. Но сначала мне нужно понаблюдать за человеком. Если это знакомый, я пою его чаем или вином, слушаю его рассказы о самом себе. Если же незнакомец, просто подмечаю его повадки, жесты, реакции.
Ольга. Повадки – они же у животных.
Иванов. У людей тоже. И те, и другие обретаются в пространстве. Тут важно то, как человек им распоряжается.
Ольга. Распоряжается – чем? Пространством?
Иванов. Ну да, а чем еще?
Ольга. Мы с вами сейчас сидим в этом кафе, которое является пространством для меня и для вас. А также для тех, кто находится за соседними столиками. И я не вижу большой разницы, как этим пространством распоряжается каждый из посетителей.
Иванов. А я вижу. Человек состоит из множества плоскостей, которые взаимодействуют друг с другом. Каждый раз это совершенно уникальное сочетание.
Ольга. Вы сказали, что иногда решение приходит во сне. Как это?
Иванов. Чаще снится всякая белиберда, но иногда можно увидеть готовую форму: позу, жест, то, как ложится свет, детали.
Ольга. Просто мистика!
Иванов. Никакой мистики.
Ольга. А как ваши модели относятся к этому решению?
Иванов. Идеальной оценкой сделанного могут быть слова: «Вы слепили меня таким, каким я сам себя представляю».
Ольга. И часто вы их слышите?
Иванов. Пару раз случалось. Но и это ни о чем не говорит.
Ольга. То есть?
Иванов. Иногда люди верят художнику больше, чем себе самим. Вы говорили об автопортретах. Все эти фигурки и есть автопортреты – мои автопортреты, данные через других людей.
Ольга. А во мне вы тоже видите свое отражение?
Иванов. Каждый человек отражает другого. Вопрос в степени сосредоточения на нем, в способности увидеть в нем себя, или наоборот.
Ольга. Это удивительно!
Иванов. Да нет, довольно элементарно. Когда вы общаетесь с кем-то, вы же пытаетесь его понять.
Ольга. Сейчас я пытаюсь понять вас. Но это не значит, что вы пытаетесь понять меня.
Иванов. Почему же? Я честно отвечаю на ваши вопросы, хотя они утомительны.
Ольга. То есть вы могли бы вылепить меня?
Иванов. Для этого нужно время. Для того чтобы вас раскусить и для того чтобы позировать. Плюс встречное желание модели.
Ольга. Я хочу! Как потенциальная модель, я могу представлять интерес?
Иванов. Мне интересен любой.
Ольга. А я – что же во мне такого интересного?
Иванов. Ваша связь с пространством. Вы высокого роста, у вас довольно объемная грудь (пардон) – эти два обстоятельства порождают сутулость. Узкие бедра говорят о том, что у вас нет детей. А ваши ноги… в детстве вы, вероятно, хотели стать балериной, но что-то не срослось. Высокие скулы и разрез глаз свидетельствуют о вашем курманском или полукурманском происхождении. У вас прямой лоб, которого вы почему-то стесняетесь, и закрываете его волосами. Форма ваших рук удивительна, плюс хрупкие запястья и тонкие пальцы. Зря вы портите их перстнями.
Ольга. Это знаки Зодиака.
Иванов. Наверное, вы не очень уверены в себе, иначе не стали бы нанизывать такое количество побрякушек.
Ольга. Ну, тут вы ошиблись: журналист не просто должен быть уверен в себе – он должен быть напорист, даже нахален.
Иванов. Как скажете. Я лишь о том, что вижу. Вполне возможно, что вижу субъективно. Но это мое право – видеть так, как мне по вкусу.
Ольга. Тогда у вас вряд ли много заказчиков.
Иванов. Иногда (очень редко) приходят люди обеспеченные, чего-то добившиеся в жизни. Чаще всего я таким отказываю.
Ольга. Почему?
Иванов. Они в основном нелюбопытны.
Ольга. Но они, наверное, готовы хорошо заплатить.
Иванов. Представьте, что вам дали задание взять интервью у известного человека. Вы договариваетесь о встрече, изучаете материалы о нем, в общем, готовитесь, а во время самого интервью вдруг ловите себя на том, что вам скучно с этим человеком до такой степени, что пропадает желание вообще с ним говорить о чем бы то ни было. Может такое быть?
Ольга. У вас неверное представление о журналистике. Нужно разбиться в лепешку, чтобы твой собеседник был читателю интересен. Это же просто работа.
Иванов. Понятно. Сочувствую вам. Действительно, есть разница. Ну, хоть ресницы и ногти у вас человеческие. Я могу отказать модели даже тогда, когда уже начал лепить.
Ольга. Надеюсь, со мной этого не произойдет.
Иванов. Не знаю. (Встает.) Ну что ж, сударыня, не припомню случая, чтобы я так откровенничал, как сейчас. А кофе мог бы быть и получше. (Выходит в фойе.)
Ольга (схватив диктофон и сумочку, устремляется следом). Не уходите, пожалуйста! У меня есть еще вопросы!
Иванов. Вы неиссякаемы.
Ольга. Ну, пожалуйста! Еще каких-нибудь пара минут!
Иванов. Пара минут.
В фойе появляется официант.
Официант. А за кофе Пушкин будет платить, что ли?
Ольга. Молодой человек, не мешайте, пожалуйста, у меня интервью. Сейчас вернусь и расплачусь.
Официант. Интервью у ней! Смотрите, я вас запомнил.
Официант возвращается к стойке.
Ольга (официанту в спину). Вряд ли смогу ответить взаимностью.
Иванов. Почему же? Красивый молодой человек.
Ольга (махнув рукой). Зумеры все на одно лицо.
Иванов. Зумеры? А кто это?
Ольга. Как же вы не знаете самых известных вещей?
Иванов. А зачем? Хотите афоризм?
Ольга. Давайте.
Иванов. Теперь все так говорят: «давайте» или, еще чаще, «давай». Самое распространенное слово. Всё равно что фамилия «Иванов».
Ольга. «Давай» – лозунг эпохи потребления. Вы обещали афоризм.
Иванов. Извольте: интеллект человека в информационную эпоху оценивается количеством отсеченной информации.
Ольга. Как это «отсеченной»?
Иванов. Это информация, которая вас не занимает и которую вы поэтому просто отсекаете, как будто ее нет вовсе.
Ольга. Сами придумали?
Иванов. Нет. Один писатель.
Ольга. Кто-то из «Неслучайных людей»?
Иванов. Тот самый, который дал название выставке и который не хочет, чтобы я его лепил.
Ольга. Почему ваши скульптуры такого небольшого размера? Это не статуи, а статуэтки.
Иванов. Изображение человека не должно его заслонять.
Ольга. Прекрасно сказано! Еще вопрос: есть ли у вас заказы от городской администрации?
Иванов. Нет, таких заказов у меня нет.
Ольга. Вы бы не хотели, чтобы на одной из площадей нашего города или, скажем, в парке стоял монумент вашей работы, который был бы частью городской среды?
Иванов. Мне достаточно того, что я сам часть этой среды. Да и кого я мог бы монументально изобразить? Героев? Императоров? Президентов? Отцов-основателей? Родину-мать?
Ольга. Ну, для начала, известных курманских деятелей.
Иванов. Я не являюсь, как это ни прискорбно, представителем курманского племени. Меня вообще не интересует этнология. Мне всё равно, к какому этносу принадлежит тот, кого я леплю. Конечно, какие-то антропологические черты я пытаюсь отобразить, но и не более того. Герои, политики и другие звезды, курманские либо басурманские, меня не занимают. Да что говорить! Всё равно ваш редактор вырежет.
Ольга. У нас свободный интернет-ресурс.
Иванов (скептически). Рассказывайте сказки!
Ольга. Увидите сами: не будет ни одной купюры, обещаю.
Иванов. Да хоть бы они и были. Вы думаете, я буду это читать?
Ольга. Еще вопрос: на выставке больше фотографий и эскизов ваших работ, чем собственно изваяний. Почему?
Иванов. Часто человек, которого я вылепил, хочет обладать статýей.
Ольга. Почему вы их так называете: статýями?
Иванов. Да чтобы не возгордиться. Ведь как живут люди? Зарабатывают себе на жизнь, любят, дружат, ссорятся, ненавидят, страдают, обманывают, рожают детей, мстят, делают карьеру. И вот вопрос: кто дал мне право заниматься чем-то сверх этого? Откуда оно?
Ольга. И вы с легкостью готовы с расстаться с вашими работами?
Иванов. Я их фотографирую. Плюс эскизы, они остаются.
Ольга. А ваши модели хорошо вам платят? Или это нескромный вопрос?
Иванов. Нескромный, конечно. Одна женщина заплатила мне столько, что я смог позволить себе автомобиль.
Ольга. Это же здорово! Из чего вы исходите, когда назначаете цену?
Иванов. Я ее не назначаю. Люди сами назначают. Были такие, кто заплатил по одному рублю.
Ольга. Как так?
Иванов. Вот вас спрашивают: сколько я вам должен (или должна)? И что вы ответите?
Ольга. Сколько не жалко?
Иванов (хмыкнув). Ну, почти.
Ольга. А бывает так, что вы просто дарите статуэтку?
Иванов. Бывает. Слушайте, давайте заканчивать. Еще немного – и у меня язык отсохнет. Или я возомню о себе, как ваш Станиславский.
Ольга. Но мы совсем не поговорили о вашей личной жизни!
Иванов. Здрасьте! Да ведь я только об этом и вякал.
Ольга. Каковы ваши предпочтения в частном существовании?
Иванов. Нет у меня никаких предпочтений. Да и никакого такого частного существования тоже нет. Просто живу, занимаюсь любимым делом, преподаю немного, чего еще желать?
Ольга. Вы женаты?
Иванов. А что?
Ольга. У вас есть дети?
Иванов. А у вас?
Ольга. У меня еще всё впереди.
Иванов. Полагаю, у меня тоже есть какие-то перспективы. По крайней мере, у нас обоих есть перспектива уйти в небытие. Уже что-то.
Ольга. Как часто вы обращаетесь в министерство культуры за содействием?
Иванов. Министры не интересуются искусством. Они даже книг не читают.
Ольга. Я говорю о министре культуры.
Иванов. А вы проведите с ним интервью и спросите, какие книги он прочитал за последние полгода. И – я уверен – вы услышите в ответ, что у него просто нет времени читать. Он же действует, руководит, «создает культуру» в соответствии с установками сверху. Ему важно не читать, а от-читать-ся. И еще «сохранить традиции». Разве нет? Ведь вот – выставка. Министра нет.
Ольга. А вы его приглашали?
Иванов. Я вообще никогда никого не приглашаю.
Ольга. Но все-таки – выставка же происходит.
Иванов. Да это один знакомый меня просто достал: «пора выставляться, пора выставляться»!
Ольга. Тот писатель?
Иванов. Да не всё ли равно! И вот я послушался. И вот я выставился. И что? И ничего! Напиши я книгу, настоящую, живую, – министр ее читать не будет, ему до фени. Министры заняты карьерой. А карьера и искусство (ох, как я не люблю это слово!) – две вещи несовместные.
Ольга. А Союз художников? Разве вы не являетесь его членом?
Иванов. Я никаким членом не являюсь. Посмотрите на эти союзы? Пауки в банке, бьющиеся за мастерские, заказы, звания и прочую туфту. Даже говорить об этом не хочу.
Ольга. Ну, у вас же есть мастерская…
Иванов. Вряд ли комнатку в институте можно назвать мастерской. Казенное пространство. Я не могу им распоряжаться.
Ольга. Где же вы работаете?
Иванов. У себя дома.
Ольга. Дома?
Иванов. Сломал стену в своей двушке. Там и работаю. Мне пора.
Ольга. Спасибо!
Иванов. Дернул же меня черт согласиться беседовать с вами! Сколько раз твердил себе: не говори ни с кем о работе. И вот пожалуйста! Дурак!
Ольга. Эти слова я тоже могу оставить?
Иванов. Как хотите.
Ольга. И могу надеяться, что вы будете лепить меня?
Иванов. Не знаю. Не уверен.
Ольга. Но можно попробовать?
Иванов. Можно. Правда, теперь я занят другой идеей.
Ольга. Какой, если не секрет?
Иванов. Надоело лепить людей. Теперь хочу лепить аллегории.
Ольга. Аллегории? Аллегории чего?
Иванов. Всего. (Усмехнувшись.) Может, смогу слепить из вас аллегорию журналистики.
Ольга. Очень интересно! Когда и куда мне подойти?
Иванов. Вот карточка. Позвоните, прежде чем…
Ольга. О, разумеется! А когда?
Иванов. Да хоть завтра. У нас сегодня что? Четверг?
Ольга. Пятница. Завтра суббота.
Иванов. Завтра суббота?! В субботу работать нельзя – Создатель отдыхает. Приходите в воскресенье.
Ольга. Обязательно!
Иванов. Сколько с меня за кофе?
Ольга. Не беспокойтесь. Я расплачусь.
Иванов. Это хорошо. Расплатитесь. Так как, говорите, вас зовут?
Ольга. Ольга.
Иванов. Так вот, Ольга, будете позировать ню: мне надоели тряпки. Вы готовы?
Ольга. То есть голой?
Иванов. Голой.
Ольга. Я подумаю.
Иванов. Это никогда не бывает лишним.
Реплики читателей:
Pin-Pin: жалко я не скульптер
Анастасия Чемоданцева: ишь голую ему захотелось на дармовщинку
Некто: у него нет ни жены ни детей ни друга ни товарища не понимаю как земля носит такова
Vera: Спасибо за интересное интервью. Я бы хотела познакомиться с художником и позировать ему.
Сергей: кто ваще этот иванов
Отдел культуры города: Негативные высказывания в адрес министра культуры недопустимы.
ГаЛКа: Ваш Герасим – чудесный, редкий и талантливый человек. Герой нашего времени. Выставка – просто откровение!
Демьян Бедный: аллегории ему подавай! сам он сплошная аллегория
Старший Товарищъ: а чо, журналиска талантливая. готов пригласить на свидание
Большая Женщина: зря мужик пропадает. интересно он пьющий?
Патриот: гнать в шею пятую колонну из нашего курманского города!
Местное отделение Союза художников: Без комментариев.
И др.
Глава II. Фрагмент автопортрета
Наверное, я смешной человек, не жалкий, нет, не как легендарный переписчик бумаг, а просто как бы не совсем ловкий. Я боюсь публичных выступлений, открытых лекций, приветственных слов; даже со своими немногочисленными студентами чувствую себя зажатым, особенно если это девушки, а что до того, например, чтобы выступить на собрании или перед незнакомой аудиторией, – тут мое косноязычие вкупе с врожденной стеснительностью празднуют труса. Представьте себе еще не пожилого человека невысокого роста, узкоплечего, с несколько куцеватой шевелюрой, с животиком, который вопреки диетам (ем один раз в день, максимум два) выдается над брючным ремнем, побуждая пряжку опуститься ниже, чем мне представляется допустимым; с коротковатыми руками, так что рукава пиджака или свитера норовят прикрыть кисти, и мне приходится их подворачивать, – в общем, мне не доставляет наслаждения описывать свою внешность, которая, если сказать одним словом, непрезентабельна. Хотя, как скульптор, я испытываю своего рода удовольствие, лепя себя сейчас не из привычных материалов, а посредством слова: оказывается, это тоже довольно занятная сфера – описывать персонажа, даже если это ты сам. Так что я продолжу, из любви к телесности как таковой. У меня широкий приплюснутый нос, белесые брови (которых поэтому даже не очень видно) над небольшими глазами с повыцветшими радужками и незаметными ресницами; покатый лоб, то и дело собирающийся в четыре горизонтальные складки. Что до растительности на лице, то когда-то я намеревался отрастить для солидности усы и бороду, но ничего хорошего из этого не получилось и получиться не могло, поскольку если что и произрастает у меня на лице, то весьма неубедительно. Наконец – в довершение автопортрета – у меня плоскостопие: к медвежьим ступням небольшого размера присовокупьте чуть подпрыгивающую походку, так что, если мы с вами незнакомы, то при случайной встрече вы, вероятно, пройдете мимо или направите взгляд в противоположную от покорного слуги сторону. Впрочем, и за знакомыми я часто наблюдаю эту, так сказать, тенденцию – пройти и не заметить. Понимаю, что это происходит непроизвольно, и не сержусь: привык. Однако, у моей невыгодной внешности есть свое преимущество – благодаря ей я, что называется, не особо бросаюсь в глаза. Короче, я малозаметен. Тут и фамилия сыграла свою роль. Когда я был юн, мне казалось в иные минуты, что я вообще прозрачен, что еще немного – и встречные люди пройдут сквозь меня. А позднее я понял, что это – отменный механизм: когда кто-нибудь входит в мою бестелесность, моя прозрачность обволакивает его, усиливая телесность входящего. Кто знает: может, подобные ощущения и сделали из меня скульптора. И, насколько могу судить, недурного.
Я пишу об этом отнюдь не из самолюбования: дескать, вот я каков, уж какой есть, такой есть, – а с тем только, чтобы показать, насколько неожиданными для такого незаметного человека, каким являюсь, были события, приключившиеся со мной в течение всего лишь одного дня в эпоху, когда никаких особых приключений ожидать не приходится, за вычетом разве что самых негативных, как то: тебя вдруг попросят с работы, или заболеешь, или кто-то из твоих знакомцев отдаст Богу душу, а не то и ты сам.
В ночь с пятницы на субботу мне приснился сон. Мне редко снятся сны, или я их мгновенно забываю, едва проснувшись. А этот запомнил. Вообще-то я не люблю, когда люди делятся своими сновидениями. Во-первых, это совершенно не исследованная область, и ни психологи, ни физиологи тут ничего толком объяснить не могут. А во-вторых, когда человек пытается рассказать свой сон, он вольно или невольно начинает связывать его отдельные куски в некий сюжет, который по тем или иным причинам ему выгоден. Так или иначе, но мы в таких рассказах всегда имеем дело с подтасовкой. И если сейчас я собираюсь ступить на эту зыбкую почву, то только с тем, чтобы указать на обстоятельство, имевшее продолжение наутро.
Итак, сон. Приснилась мне юная женщина, в которую я был когда-то романтически влюблен. Мы снимали с нею гостиничный номер в небольшом городе. Гостиница была довольно комфортна, во всяком случае – у меня было ощущение уюта и беззаботности. Помню также, что в соседнем номере жил один знакомый из моей теперешней жизни, о котором, возможно, как-нибудь расскажу. Мы с моей избранницей счастливо проводили время, я вел занятия по скульптуре в местном художественном колледже (кажется, я не сказал, что во сне я был лет на двадцать моложе), а вечерами мы бродили по городу, бывали в галереях и театрах. Я очень хорошо помню, что опера, которую, среди прочего, нам привелось посетить, называлась «Сердце льва», хотя совершенно не помню ее сюжета, не говоря о мелодиях (я лишен музыкального слуха; поговорка «медведь на ухо наступил» всегда воспринималась мной как нечто, сопутствующее моему плоскостопию). Мы были так счастливы, как не бывает в жизни. Мы любили друг друга, физически в том числе, иногда в самых неподходящих для этого местах. Нами владела какая-то удивительная, упоительная, прекрасная нежность; ею было овеяно всё, что нас окружало. Вероятно, мы оказались в этом городке потому, что здесь жили родители моей возлюбленной. И вот мы приходим к ним на обед, во время которого я прошу ее руки. Отец и мать полны сомнений: в состоянии ли буду я обеспечить их любимое чадо материально? Пока родители обсуждают проблему, мы предаемся любви в комнате, которая не так давно была ее детской. Но в самый острый момент моя возлюбленная исчезает, непонятно каким образом, просто раз – и ее нет рядом. То ли родители выступили против нашего брака и она вдруг куда-то упорхнула, то ли что еще, но я остался в этом городке один, если не считать моего знакомца из соседнего номера. Вечерами он скрашивал мое одиночество за бутылкой какого-то синего вина (шартрез?).
– Где же ваша избранница? – как-то спросил он меня.
– Не знаю, – отвечал я. – Я просто жду, когда она вернется.
– А если она не придет никогда? Вас это не беспокоит?
– Беспокоит, конечно, но, знаете, как-то не очень, – признался я не столько моему собеседнику, сколько себе самому. – Я и сейчас переполнен страшной нежностью и ощущением дикого счастья.
– Мне знакомо это чувство, – откликнулся мой визави.
– Вряд ли, – сказал я. – Оно слишком лично.
– Не думаю, – возразил сосед. – Чувства существуют прежде нас и вне нас. Мы полагаем, что являемся первооткрывателями тех или иных ощущений. Это кажется нам естественным, ведь мы их переживаем, но еще более естественным было бы предположить, что существует некая сфера, содержащая в себе арсенал чувств.
Я рассмеялся в ответ:
– Скажите еще, что этой сфере мы не нужны!
– О нет, напротив, мы ей очень нужны, ведь без нас, носителей чувств, они просто исчезнут.
– Может быть, но это не имеет значения, ведь это со мной впервые – так живо ощущать присутствие возлюбленной, даже если ее нет.
И это было правдой: такое ровное и – одновременно – такое напряженное чувство, как если бы наше незавершенное совокупление все длилось и длилось.
Глава III. Наутро
Проснулся я от скрипа двери. «Надо бы наконец когда-нибудь смазать,» – первое, что пришло мне в голову.
– Конечно, надо смазать. Нечего валяться, у тебя сегодня собеседование, – сказал мучительно знакомый женский голос.
– У меня сегодня собеседование, – пробормотал я. Откуда мне известен этот голос?
– Да открой же наконец глаза!
Я послушался.
Светлый силуэт возвышался надо мной.
– Я вас плохо вижу.
– Так надень очки.
На пирамидке книг возле дивана я нащупал очки и водрузил их на нос.
Передо мной стояла молодая женщина в светлом шелковом платье на тонких бретельках. Красивая. Можно сказать – идеальная. Очень похожая на ту, что снилась мне только что. Я решил, что мой сон продолжается.
– Это не сон, – сказала гостья.
Мне не пришло в голову ничего лучшего, как по-идиотски спросить:
– Да?
– Да.
Обнаружив, что я наг (я сплю голым) и что мой причиндал похож на макет Останкинской телебашни, я поспешил закрыться пледом.
– Ба, да он стесняется! – рассмеялась женщина. – Думаешь, я ничего не вижу?
– Что вы имеете в виду?
– Что ты возбужден.
– Я не возбужден.
– А это что такое? – она одним движением сбросила с меня плед, и мне ничего другого не оставалось, как прикрыть башню руками.
– Отдайте плед! В конце концов, это вовсе не в ваш адрес, а просто потому, что утро.
– Не волнуйся. Сейчас мы устраним причину.
Женщина легко сняла с себя платье, стащила с меня очки и оседлала мое неловкое тело.
Далее могло бы быть описание полового акта, но таковые подробности если и не были бы нарушением писательской этики, то перевели бы повествование в жанр бульварного чтива. Я этого не хочу, ибо то, что со мной происходило, меньше всего можно вынести на бульвар. Замечу лишь, что мое естество было ублаготворено. О, с каким наслаждением погружал я свои чуткие пальцы в ее восхитительные fossae1: яремную, большие и малые надключичные на шее и таинственные fossae lumbales laterales2 на спине – эти последние просто какое-то чудо! А ромб Михаэлиса! А мягкий переход средней ягодичной мышцы в большую! И какая-то мерцающая почти перламутровая кожа, не говоря уже о груди. Женская грудь всегда вызывает у меня благоговение, сродни Кантовскому: эти поразительные линии, особенно верхние; всякий раз, когда я леплю бюст, пеняю на недостаточность моих способностей – так нелегко эти линии передать пластически. Я как будто перевоссоздавал эту плоть в течение бесконечных минут, пока длилась наша близость. И не мог отделаться от ощущения, что всё это мне снится: сходство гостьи с той, кого незадолго до ее появления я видел во сне, озадачивало. Особенно этот легчайший пушок между лопаток и красота нежных мышц.
– Это была не я, – словно прочитав мои мысли, сказала женщина.
– В таком случае, кто вы? И как вы сюда попали? – спросил я, едва переведя дух.
– Два вопроса. Отвечаю в обратном порядке: входная дверь не была заперта, и я подумала, что это приглашение, венец твоим бесконечным призывам, – отвечала женщина, лежащая справа. – Когда-нибудь я ведь должна была отозваться на них. Кстати сказать, это лучший способ завоевать женщину.
– Какой?
– Призывать, не ослабляя хватки.
– Вот как? Но разве я… разве я домогался?
– А то нет! – Она села в изножье дивана. – Теперь ответ на первый вопрос: зовут меня Суббота. А нынче суббота. Чем не повод пообщаться? А снилась тебе Пятница.
– Откуда вы знаете? То, что я назвал ее в честь аборигена на Робинзоновом острове, неизвестно даже ей самой.
– Ей неизвестно, зато известно мне.
– Интересно.
– Ему интересно, подумать только!
– Не надо смеяться надо мной. В конце концов, у вас нет для этого оснований. И вообще, вы ворвались…
– Иди мыться, – срезала мои невысказанные инвективы гостья.
И я пошел в душ. И она пошла следом. Я попытался прогнать ее:
– Ванная – это интимная комната.
– Кто спорит, – отвечала Суббота. – Но ведь интимнее меня нет существа на свете. Хочешь, я потру тебе спинку?
И она потерла мне спинку.
– У меня нет лишнего полотенца.
– Ничего, я и твоим обойдусь.
– Оно же мокрое.
– Не мокрее меня.
Когда мы вышли, я поспешил обзавестись чем-то набедренным, затем напялил рубашку и джинсы (никак не наведаюсь в мастерскую, чтобы мне их подшили, хожу, как хиппи, с отворотами над туфлями). Она стояла в дверях комнаты, нагая, и критически смотрела на меня.
– Что-то не так? – я провел рукой по молнии на джинсах.
– Да нет, всё хорошо. Просто задумалась.
– Не хотите надеть платье?
– Понятно. У нас начался день. – Она прошла в комнату и облачилась. – Так хорошо? – спросила Суббота, вернувшись.
– Вам очень идет. Правда, заметно, что у вас под платьем ничего нет.
– Это тебе заметно, а другим не заметно. Хочешь, я приготовлю тебе завтрак?
– Я сам.
– Чай и пара бутербродов?
– Ну да.
Я прошел на кухню. Суббота последовала за мной.
– Что будете вы? – спросил я, поставив чайник на огонь.
– Я обхожусь без еды. И уж во всяком случае – без бутербродов.
– Диета? Хотите быть в тонусе?
– Я всегда в тонусе. Разве ты не понял?
Полагаю, я покраснел. Заверещал чайник.
– Что это ты такое сыплешь?
– Черный классический.
– Раньше ты заваривал «Высокую гору». – Я поймал себя на том, что мне вдруг как-то наскучило удивляться ее осведомленности. – Экономишь?
– Не то чтобы. Просто он есть в «Шестерочке». А ты предпочитаешь «Высокую гору»?
– Я предпочитаю простую воду. И перестань говорить мне «вы», тем более после…
– После того, как ты потерла мне спинку? – подхватил я.
– Приблизительно, – она очаровательно улыбнулась. Ямочки на щеках. И удивительная форма губ!
– Так-таки ничего не будешь?
– Ну, налей чаю, если тебе нужна компания. Хотя зачем она тебе? Ты ведь живешь один и привык завтракать в одиночестве.
– Но сейчас-то я не один.
– Дам тебе один совет, Герасим: не замечай меня. – Суббота провела ладонью перед глазами. – Просто как будто меня нет.
– Откуда ты знаешь, как меня зовут?
– Если хочешь, буду звать тебя «Му-Му», как одну худосочную креветку дразнили в школе.
– Мне все равно, как ты будешь меня называть, Суббота, – отслоив обиду, выдохнул я. – Если «Му-Му» и имело место, то «худосочная креветка» – это, пожалуй, слишком.
– Да не всё ли равно, если ты знаешь, о ком речь. В общем, не смущайся моим присутствием. Так или иначе, кроме тебя, меня никто не видит и не слышит.
– Так ведь никого и нет.
– Появятся в свой час. Ты вроде как куда-то собирался.
– В институт.
– Значит, будут люди. Но запомни: я для них не существую – ни зрительно, ни слухово, ни осязательно.
– Ни обонятельно? – меня разобрало.
– Ну, если от меня тащит тленом… – хохотнула в ответ Суббота.
– Прости. Так ты кто, призрак?
– Ну, пусть призрак… или ангел… или демон… или просто тень, как тебе понравится, – отвечала гостья, разглаживая платье на коленях.
– У ангелов, демонов и призраков нет пола, – подумав, сказал я.
– А у меня есть. Могу еще раз продемонстрировать, – подол ее платья медленно пополз от колен к бедрам.
– Принято, – у меня не было оснований усомниться в ее правоте. – Хочешь сказать, что мое душевное здоровье оставляет желать лучшего? – помешкав, спросил я ее.
– Как тебе сказать… – Она посмотрела мне в глаза взглядом, пронявшим до самых костей. – Поверь: за всю свою долгую жизнь я не встречала никого, чье душевное здоровье не оставляло бы желать лучшего.
Я едва не захлебнулся чаем.
– Постучать по спине? – безучастно спросила Суббота, пока я откашливался.
– Не нужно, – выдавил я.
Блямкнул телефон.
– Почему не прочтешь сообщение? – спросила Суббота.
– А нужно?
– Могу озвучить.
– Озвучь.
– Отбой атаки дронов.
– Теперь они нацелились на наш город, собаки!
И тут я почувствовал позывы.
– Извини, – сказал я, стараясь не краснеть. – Мне нужно в сортир.
– Не следует злоупотреблять алкоголем на ночь глядя.
– Думаю, причина в другом.
– В чем же?
– В обилии физических упражнений по пробуждении.
– Да ладно. Я же практически одна упражнялась. Говорю тебе: не пей крепких напитков на ночь.
– А я и не…
– Не ври, ради Бога. Иди, что ли, не то обделаешься. И станешь обонятелен.
И я сорвался со стула и, запершись в нужнике, выделил стул иного рода. Сидел я долго, пытаясь исторгнуть из себя максимум. Потом, раздевшись в сортире (спасибо юноше, занимавшемуся у меня ремонтом пару лет назад: он сообразил врезать два крючка с внутренней стороны двери), я выглянул наружу и, поскольку дверь в кухню была закрыта, проскользнул в ванную.
– Ты как? – спросила Суббота, когда я вновь предстал пред ее светлые очи.
– Кажется, лучше, – прислушиваясь к своему пищеварению, ответил я.
За открытым окном из проезжающего авто грянула попса.
– Как они надоели! Недоноски в автомобилях с оглушительной дрянью выводят меня из себя. И это каждый день, каждую ночь!
– Хочешь, подарю тебе винтовку? – спросила Суббота.
– А вдруг я кого-нибудь убью?
– Ну, они же убивают тебя своими саунд-буферами.
– Иногда очень хочется, – признался я.
– Убивать?
– Напрасно ты смеешься.
– Ты забыл побриться.
Я машинально провел рукой по подбородку.
– О черт! Так и опоздать можно.
И я пошел скрести свою щетину. О чем я думал, скребя? Я думал о том, почему мне так легко с моей гостьей. С женщинами я не испытывал ничего подобного.
– Тебе звонили, – сказала она, когда я вернулся, благоухая лосьоном.
– Кто?
– Твоя сестра.
– Ты взяла трубку?
– А почему нет? Ты ведь не женат.
– И что она сказала?
– Она попросила напомнить тебе, что вечером придет Алеша. Он у тебя ночует нынче.
– Надо же, я и забыл.
– Из-за меня?
– Из-за тебя. У тебя очень красивы локтевые части рук. И не только.
– Спасибо.
– Сестра с младшеньким нынче едут в деревню. А Алеша остается в лагере. Можно вопрос?
– Пожалуйста.
– Тебе, должно быть, не очень со мной любопытно? – сказал я.
– Это почему же?
– Ну, как же: всё обо мне знаешь.
– Ты не прав. Информация информацией, но она не может заменить живое общение. Тебе надлежало бы задать мне другой вопрос, – заметила она, поправляя ремешок изящных золотых часиков на левой руке.
– Какой же?
– Ты должен был спросить: зачем вообще я здесь?
– Хорошо. Зачем ты пришла?
– Самое странное в том, что я и сама этого не знаю.
– Тебя кто-то прислал?
– Вроде того.
– Что значит «вроде того»?
– Я не противилась. Ты мне нравишься, несмотря на твою смешную внешность и закоренелую меланхолию. Но поскольку мне нравятся и другие люди и поскольку у меня, вследствие этого, могут быть обязательства перед ними, я должна буду тебя покинуть. Но этот день обещаю посвятить тебе.
– Как ты великодушна! – пробубнил я. – Но я вовсе не меланхолик.
– Правда? – расхохоталась она. – Твои статуйки говорят об обратном.
– Просто моя любовь к людям не абсолютна.
– Собственно, поэтому я к тебе и пришла. – Суббота поднялась со стула и приблизилась ко мне. Ее темный взгляд – он проник, как сказал бы поэт, в самое средоточие моей души. – Абсолютна моя любовь к тебе, – тихо добавила она. – Любовь вообще штука абсолютная.
И тут внутри меня вздулась волна – волна печали, любви и красоты. Я вдруг понял, что безумно люблю эту женщину – так люблю, что готов был бы умереть. И едва не задохнулся.
– Жаль только, что твоя любовь обращена не ко мне одному, – выдал я, совершенно неожиданно для себя самого.
– И вовсе не жаль. Если любишь кого-то по-настоящему, то любишь весь мир, как будто сам его творишь. Правда?
– Да, как бы лепишь, – потупившись, согласился я.
– Вот видишь. – И она поцеловала меня в губы.
– Amor brevis est, sed vita longa3, – вот всё, на что меня хватило. Всё-таки я должен был как-то владеть собой.
– Приблизительно. Ты, как я вижу, еще не всё забыл.
– Люблю латынь. Если скинуть лет двадцать пять, я, наверное, стал бы богословом, корпел бы над латынью схоластов.
– У тебя и сегодня есть такая возможность, – заметила Суббота.
– Думаешь? Я ведь не могу изменить судьбу.
– Зато судьба может изменить тебя. И кто тебе сказал, что твоя судьба в том, чтобы лепить статуэтки, а не наслаждаться аурой, веющей от средневековых манускриптов?
– Просто я так чувствую.
– А-а-а, – насмешливо протянула Суббота. – Ну, чувствуй-чувствуй.
– Во всяком случае, теперь поздно что-либо круто менять.
– Никогда не поздно. Всё доступно, стоит только захотеть.
– А я и хочу. – Я невольно сглотнул. – Может, все-таки останешься хотя бы на одну ночь? – Ох, эти жалкие потуги не показаться просителем!
– С тобой будет ребенок. Но ты не расстраивайся: я когда-нибудь снова приду.
– Не беспокойся, я вполне владею собой.
– И это хорошо, – сказала Суббота. – Ну что, пойдем?
Глава IV. Дуремар
Едва мы стали спускаться, как внизу стукнула парадная дверь; раздались характерные хлопки пластиковых шлепанцев.
– Давай подождем, – предложил я вполголоса. – Он живет на втором этаже.
– Кто?
– Иван Ильич.
– Как у Толстого.
– Иначе – Дуремар, по своей приверженности к пиявкам.
– Как у другого Толстого. А чего ждать?
– Будет расспрашивать, кто ты и вообще.
– Не будет. Он меня не увидит, – отвечала Суббота.
Шлепки тапок как-то неубедительно затихли.
– Ждет, – решил я.
– Вперед! – скомандовала Суббота.
Дуремар встречал нас на площадке между этажами.
– Ой, Герасим, а я-то думаю: ты или не ты? – заголосил он с таким напором, что я вздрогнул.
Он стоял возле лестничного окна, в шлепанцах на босу ногу, шортах и какой-то несусветной футболке яркого салатного цвета на выпирающем брюхе.
– Извините, Иван Ильич, я спешу.
– Ночью читал Рильке, вспомнил о тебе, – объявил он.
– Спасибо. Я правда спешу.
– А я с девурства. Придумал новый способ уборки территории. Купил себе вот эту фтуку.
В его руках вдруг оказался агрегат, который до этого мгновения Дуремар прятал за спиной.
– Что это?
– Садовый пылесос! Работает на выдув и всасывание. Пока листвы мало, но через месяц будет полно. Я уве опробовал.
– Подумать только!
– В профлый раз ты о Розанове говорил. Я прочитал его переписку с Леонтьевым. Читал Леонтьева?
– К сожалению, он прошел как-то мимо меня.
– Видишь, одного Розанова мало, – поддела меня Суббота.
– Тихо, пожалуйста, – попросил я ее a parte.
– Он все равно меня не слышит.
– С кем ты разговариваеф? – с ноткой сочувствия спросил Иван Ильич, сощурив глазки.
– С вами, Иван Ильич.
– Эта воздуходувка проглотит все опавфие листья.
– Это ирония, Иван Ильич?
– В смысле?
– У Розанова есть сочинение под таким названием.
– «Садовый пылесос»?
– «Опавшие листья».
– Футиф? – подозрительные глазки Ивана Ильича впились в меня, как пиявки.
– Отнюдь.
– Вот это я попал! – забрызгал слюной Дуремар.
– Да-да, очень кстати.
– Ты опоздаешь, – напомнила Суббота.
– Простите, Иван Ильич, но мне нужно в институт.
– Один вопрос, Герасим. Скавы, а моя статуйка тове была на выставке?
– Так ведь она у вас дома стоит.
– Я имею в виду фотографию.
– Да, фото выставлено.
– С торчафим хреном?
– Ну да, вы же сами согласились позировать. Но если вы против, то я сниму.
– Не-не! – запротестовал Иван Ильич, едва не двинув меня своим пылесосом. – А там указаны мои ФИО?
– Указаны инициалы.
– Эх, надо было полностью!
– Зачем же?
– Я бы прославился.
– Вы можете разместить фотографию статуи в социальных сетях.
Иван Ильич затрясся в мелком смехе.
– Неувэли ты думаеф, Герасим, что я этого ефё не сделал?
– Серьезно?
– Конефно! – самодовольно хрюкнул Илья Ильич. – Лайки сплофняком! Ты настояфий фтукарь, Герасим!
– Видиф, мовеф гордиться, – передразнила Суббота Ивана Ильича.
– Я теперь Веберна изучаю. «Протестантскую этику», – закричал мне вслед Иван Ильич. – Читали?
– Веберн – это композитор, – заметил я.
– Макс? – озадаченно спросил, перегнувшись через перила, Иван Ильич.
– Нет, Антон…
Интермедия 1
Голый человечек с выдающимся брюхом, без головы. То есть голова есть, но она отделена от шеи и обретается в правой согнутой в локте руке персонажа. Взгляд направлен на страницы раскрытой книги, которую держит левая рука. Со страниц свисают какие-то тельца, которые при внимательном рассмотрении оказываются впившимися в книгу крупными пиявками. Короткие толстые ноги, присогнутые в коленях, придают статуе впечатление, что человечек вот-вот пустится в присядку, и венчаются агрессивно торчащим половым членом.
– Зачем же ты его так? – укоризненно спросила Суббота. – Ведь Дуремару, наверное, было обидно.
– Напротив, он мгновенно согласился, как только я рассказал ему о своем замысле. И позировал голым, следя, чтобы его детородный орган не увядал на протяжении сеанса. Это было ужасно, – меня передернуло.
– Можно было обойтись без этой пошлости.
– Нельзя. Пошлость есть сущность Дуремара. Член символизирует его поразительный экстравертивный настрой. Он не может без вожделения пройти мимо представительниц прекрасного пола, стоит им попасть в поле его зрения. В их адрес он готов отпустить самую грязную и тупую остроту, которая придет ему на ум, и его совершенно не волнует, какой возраст и статус у предмета вожделения.
– Зато он читает книги, – вступилась за Дуремара Суббота.
– О да, но лучше бы он этого не делал! Купив квартиру в нашем доме лет пятнадцать назад и узнав, что у меня, его соседа, есть степень кандидата искусствоведения, он мне прохода не дает. Прежде Дуремар был закоренелым алкоголиком; вечерами подстерегал меня в своей машине перед подъездом и под предлогом, что хочет обсудить какое-то свое «экзистенциональное» открытие, настаивал на том, чтобы я сел рядом. Я пытался отнекиваться, но напор был таков, что легче было пять минут провести с ним в автомобиле, чем этот напор выдерживать. Стоило мне сесть рядом, как у Дуремара в руках, как по волшебству, оказывалась бутыль какого-нибудь высококачественного зелья, а из бардачка извлекались жестяные стопки. Я тогда еще плохо был с ним знаком, но скоро раскусил, что ему просто нужен был человек, с кем можно откупорить бутылку, которую затем он тут же, в авто, и опустошал. Уже без меня. И вдруг с ним что-то произошло: он бросил пить, но стал читать. Причем читает он так же, как прежде пил, без устали, непрерывно, запоем. И если раньше ему нужен был кто-то, чье присутствие каким-то косвенным образом оправдывало пьянство, то теперь ему понадобился специалист, с которым необходимо обсудить прочитанное. Читает он в основном высокоинтеллектуальную литературу, ручкой надписывая прямо в тексте свои комментарии. Мне как-то случилось прочитать пару таких заметок – Дуремар настоял. Впечатление незабываемое: его комментарии если и имеют отношение к тексту, то более чем ассоциативное, причем эта ассоциация понятна (если понятна) только самому Дуремару и никому другому. Очень похоже на то, как герой одной знаменитой повести занят чтением переписки Каутского с кем-то из классиков научного коммунизма. Просто горе от ума, причем вся соль состоит в том, что ума-то и нет!
– Это лучше, чем если бы он занимался чем-то непотребным, воровал, насиловал или грабил. Или пил.
– Не думаю. Иногда мне кажется, что профанация страшнее уголовщины, – возразил я.
– Тут можно поспорить. А пиявки зачем?
– А затем, что он их выращивает, уж я не знаю, где он их берет. Через сеть находит себе клиентов, разъезжает по городу и ставит людям. За деньги, разумеется. Представь, он как-то записался ко мне на курс. Не помню уже, по какой причине, но мне нужно было выйти из аудитории, где проходили занятия, а когда вернулся, увидел, что у моей самой юной слушательницы с уха свисает огромная ненасытная пиявка. Девушка была бледна, а на шее алела струйка крови. Понятно, я выговорил Дуремару. Но он, кажется, так ничего и не понял.
– А что девушка? – осведомилась Суббота.
– С ней, слава Богу, всё обошлось. Правда, мне пришлось выдержать не очень приятную беседу с ее матерью. Примечательно, что сама жертва теперь обучается скульптуре в одном из столичных училищ.
– Вот видишь, – улыбнулась Суббота. – Может, если бы не пиявка и не беседа с матерью, девушка не стала бы скульптором.
– Интересная мысль, – ответил я, но, кажется, слишком увлекся рассказом, чтобы остановиться. И продолжал:
– Его экстравертивность беспримерна, и выдающийся живот и то, что под ним, есть символ самолюбования, этой его направленности вовне. Он жаден. Кстати, за курс он так и не заплатил. Мне известно, что он сдает внаем квартиру, или даже квартиры, уж не ведаю, сколько их у него. При этом работает ночным сторожем сразу в двух детских садиках. Вот почему ему понадобился садовый пылесос. А недавно похвастался, что они с женой подрядились убираться в женской бане. Как-нибудь расскажу тебе анекдот, приключившийся не без участия Дуремара. И заметь, какой у него шикарный автомобиль, я даже мечтать о таком не могу. И эти его постоянные упоминания об уикендах с кем-то из курманских чиновников. То есть «всё схвачено».
– Почему бы тебе у него не поучиться? – спросила Суббота.
– Чему же это? – я даже остановился от неожиданности.
– Жизнелюбию, – отвечала моя спутница.
– Это не жизнелюбие, это смертолюбие, – сказал я.
– И ты решил отсечь ему голову? – засмеялась она.
Солнце палило нещадно. Авто было заляпано липовым соком. Щурясь, я открыл дверь справа.
– Прошу.
– Тебе необязательно это делать, – заметила Суббота.
– Что именно?
– Открывать мне двери, пропускать вперед и вообще учинять весь этот версаль.
Мы выехали через арку.
– У тебя что-то скрипит справа.
– Я знаю. Не пойму, что за звук. Колодки? Ступица?
– Суппорт. Но накладки тоже следует заменить. И правую верхнюю шаровую опору. И стойки стабилизатора. А еще отремонтировать рулевую рейку: она течет. И масло поменяй. И в трансмиссии тоже. И отремонтируй правое заднее колесо. Спускает.
– Да, на пол-атмосферы в три дня. Никак не вспомню, когда в коробке менял масло в последний раз.
– Четыре года назад, – равнодушно ответила Суббота.
– У тебя испортилось настроение? – спросил я.
– С чего ты взял? – она повернула ко мне голову и провела рукой мне по шее. По спине пробежали мурашки. – Что, не любишь этого? – засмеялась она.
– Не люблю.
– А я знаю, что не любишь. Смешной ты, Герасим!
Глава V. В десятом часу
– Ты уверена, что церберша тебя не увидит? – засомневался я, остановившись на институтском крыльце.
– Ой, простите! – кто-то наткнулся на меня сзади.
– Не загораживай проход, – подсказала Суббота.
Церберша восседала в своей будке за стеклом. На турникете горел красный огонек.
– В чем дело? – спросил я не очень вежливо.
– По распоряжению ректора вы в обязательном порядке должны прикладывать пропуск к турникету, – назидательно изрекла вахтерша.
– Это же делается в обычные дни, а сейчас я, будучи в отпуске, вызван на экзамен.
– Приложи пропуск и поздоровайся, – посоветовала Суббота.
– Поздороваться? Я даже не знаю, как ее зовут.
– Ее зовут Серафима Рафаиловна, – подсказала моя спутница.
– Меня зовут Серафима Рафаиловна, – подтвердила церберша.
– А меня Герасим Вадимович.
– Я знаю. Я тут уже почти десять лет и всех знаю.
– А я только пять. Вы, наверное, гордитесь тем, что так долго и рьяно выполняете обязанности… – я едва не сказал: «Цербера», но тут Суббота наступила мне на ногу, и моему плоскостопию стало больно, – … обязанности стража, – закончил я.
– Чему тут гордиться? Никакого порядка нет! Вот вы даже пропуск не прикладываете к турникету. А ведь есть приказ по институту. И все так, не только вы.
– Безобразие, – согласился я. – Обещаю исправиться.
– И не здороваетесь.
– Этого не может быть! – возразил я.
– Да ладно! – с тоскою отмахнулась вахтерша. – Проходите, что ли. Создали тут пробку, – она нажала на кнопку и загорелась зеленая лампочка. Я оглянулся: за мной стояло человек пять абитуриентов.
Интермедия 2
Женщина в очках (огромная оправа на пол-лица), с тяжелым узлом волос на затылке, облаченная в строгий костюм, правой рукой выставила перед собой табличку на палочке. На табличке значится странная формула: «1=1». Центр тяжести тела приходится на правую ногу, отставленную назад, как и сам ее торс: левой рукой она удерживает на поводке оскалившегося добермана, тело которого устремлено навстречу тем, к кому обращается его хозяйка. Нет ни малейшего сомнения, что, стоит ей отпустить поводок, как пес бросится на ее собеседников. Из левого рукава вот-вот вывалится носовой платочек.
– Ну, это, пожалуй, слишком! – заметила Суббота. – Серафима почти три десятилетия была директором школы, одной из лучших в городе. Идеальный порядок во всем. Создала прекрасный коллектив учителей, хоть и не сказать, чтобы те очень директоршу жаловали.
– Заслуги человека часто превращают его в карикатуру на самого себя, – сказал я. – Теперь ее привычка к власти подменена церберством. Лимб: «взгляни на них и мимо».
– Лимб сторожит не Цербер, а Харон, – поправила меня Суббота.
– Пусть так, но на Харона Серафима не тянет: Харон человечен, тогда как Цербер – пес.
– Ее сын уже который год сидит за изнасилование несовершеннолетней, – продолжала Суббота, проигнорировав мое замечание. – Скоро он выйдет из колонии, и мать с ужасом ожидает его возвращения. У мужа – подагра в стадии нефросклероза. Он почти не встает с постели, и все заботы по уходу за ним лежат на несчастной женщине. Плюс собака. Тебе не жаль Серафиму?
– Я не знал. Жаль, конечно. Но зачем она сплетничает обо мне?
– Все сплетничают. И не только о тебе, хоть ты и пуп.
– Кто я?
– Пуп земли. По крайней мере, таковым себя считаешь и не признаешься в этом.
– Скромней меня нет человека на свете.
– Ха-ха!
– А кем мне надо себя считать?
– Никем. Или, на худой конец, Герасимом Ивановым.
– Буду иметь в виду, спасибо.
Засвиристел телефон. Звонила Матильда Карповна.
– Зайдите за ведомостями, – услышал я визгливый голос.
– Уже иду, – отвечал я. – Новая глава приемной комиссии, – пояснил я Субботе. – Не видит различия между академическим часом и астрономическим.
– Ну, и что? Чем она только не занималась в этой жизни! Последний десяток лет работала администратором в одном из театров. Знаешь, в чем заключается работа театрального администратора?
– Весьма смутно.
– Погугли на досуге.
– Всенепременно. Так или иначе – кругом сплошь некомпетентные люди.
Интермедия 3
Курносое создание с небольшой головкой, брюшком и тяжелой грудью. Очень легкие руки – не две, а много рук, словно их обладательница производит одновременно массу операций: подписывает ведомости, перебирает бумаги, передает кому-то дырокол, говорит по телефону, ест пирожное. Чтобы голова хоть как-то соотносилась с многоруким телом, она увенчана торчащими во все стороны начесанными и залакированными волосами. Жуя, она что-то говорит невидимому собеседнику – что-то если не грубое, то не очень радушное.
– Все некомпетентны. Ты тоже.
– Как сказать.
– Ее не возьмут.
– Кого?
– Девушку Ксюшу, абитуриентку.
– Потому что она будет одна на собеседовании?
– Да. Просто не откроют специальность, и всё.
– Жаль, девушка хорошая.
– Не облизывайся.
– С чего ты взяла?
– Знаем мы вас.
– И текучка: странно, что никто не задерживается на этой должности. Вот Веня. Здравствуйте, Веня.
– Здравствуйте, Герасим Вадимович.
Интермедия 4
Цвет – только в волосах: прическа состоит из разноцветных прядей. А в остальном – просто белый пластик. Молодой человек, стоя на одном колене, держит в руках перевернутую микрофонную стойку. Одет он в топик и короткую юбку-клеш с рюшами, как если бы это была девушка. Но это не девушка. Микрофон упирается в пол, а в круглое основание стойки встроено зеркало, в котором отражалось бы лицо эстрадного певца, если бы оно у него было. Но лица нет, а есть лишь овальная плоскость, тоже зеркальная. Получается, что два пустых зеркальца глядятся друг в друга. Оголенные части тела сплошь покрыты черными рисунками и надписями на разных языках. Если бы у зрителя было увеличительное стекло, он мог бы рассмотреть эти рисунки и прочитать надписи, что, в общем, не имеет особого смысла, поскольку и рисунки, и надписи никак друг с другом не соотносятся, словно подобраны с помощью генератора случайных чисел.
– Веня в одиночестве представлял приемную комиссию в прошлом году. Не могли найти человека на должность. А Веня у нас студент. И на занятия он не ходит, потому что он на работе. И мы ставим ему тройки, за красивые глазки. А он полагает, что так и нужно, что он незаменимое существо, к тому же – эстрадная звезда. И как представитель шоу-бизнеса раз в месяц меняет прическу: или выкрасит волосы в какой-нибудь невообразимо-красный, а то и ядовито-зеленый, или завьется, как нынче.
– Герасим Вадимович, а с кем это вы разговариваете? – тихо спросил Веня.
– Это внутренний монолог. Вы знаете, Веня, что такое внутренний монолог?
– Это когда в желудке шебуршенье?
– Точно! – я с трудом удержался от смеха.
– Это у вас одна абитуриентка, что ль? – сказала, войдя в кабинет, мне в спину Инесса Берендеевна, глава кафедры прикладного искусства.
– К тебе обращаются, – усмехнулась Суббота.
– Почему же она не назовет меня по имени-отчеству? И ты слышала, с какой интонацией она это сказала?
– А зачем, что ль, тогда собеседование проводить? – все так же мне в спину говорила Инесса.
Интермедия 5
Статуя поистине монументальна: широко расставленные ноги свидетельствуют о том, что персонаж, что называется, крепко стоит на ногах. Голову украшает шишак с монистами. Опущенный вниз подборок, как черта человека упрямого, контрастирует со льстивой улыбкой, насколько ее может выразить выдающаяся нижняя челюсть. Широко раскинутые руки навстречу миру говорят как будто о радушии и готовности принять этот мир, но вертикально стоящие ладони сообщают об обратном – не просто о защите от него, но о паническом неприятии исходящей от мира угрозы. Большая голова, короткая напряженная шея, плотный торс без талии и выдающаяся грудь усиливают впечатление основательности такого бытия, как и трапециевидное платье персонажа, с вышитым на груди узором-свастикой из курманской символики, обозначающим «величие рода».
– Когда ты хочешь что-то мне сообщить, тебе вовсе не нужно произносить это вслух, – напомнила Суббота, словно предваряя мой монолог об Инессе; меня же просто распирало от желания набросать ее портрет, нелицеприятный, как можно догадаться.
– Ты читаешь мои мысли? – беззвучно спросил я, проверяя ее способность к телепатии.
– Именно так.
– Тогда у нас получится монолог, а я хочу слышать тебя.
– И ты будешь меня слышать. Но не будут слышать другие.
– И мы никого нашим диалогом не обидим? – сообразил я.
– Вот-вот, – кивнула Суббота. – Твое критико-скептическое отношение к тебе подобным останется между нами. Плюс немаловажное преимущество: никто не станет задавать тебе этот дурацкий вопрос: «С кем это вы разговариваете, Герасим Вадимович?». Чем чаще тебе будут его задавать, тем скорее тебя сочтут сумасшедшим. А люди любят ставить диагнозы.
– А когда я буду причислен к категории сумасшедших, мне уже и не будут его задавать, – насмешливо возразил я.
– Всё дело во времени, – равнодушно согласилась Суббота. – Чем меньше мы его удивляем, тем устойчивей диагноз.
– «Мы»? Ты сказала «мы»? То есть ты тоже причисляешь себя к человекоподобным?
– А к кому же мне себя причислять?
– Ну как же: к ангелам-демонам.
– Видишь ли, – церемонно заметила Суббота, – нас не беспокоит проблема самоидентификации. По крайней мере, не так, как вас, смертных.
– А мысли других людей – ты их тоже слышишь?
– Довольно неразборчиво, с помехами. Но в этом нет ничего удивительного: я настроена только на твою волну.
– Здорово! Но… значит, там… еще дома… ты слышала мои мысли о… о…
– О любви? Конечно! И что же?
– Да нет, ничего, – ответил я, пытаясь скрыть смущение. – Я просто о том, что у меня могут быть мысли, предназначенные только для меня самого.
– Клянусь, о них никто не узнает, – рассмеялась Суббота. – И, пожалуйста, не смущайся.
– Я смущаюсь? – наверное, я опять покраснел.
– Поминутно! – хохотнула Суббота. – Итак, кто у нас на очереди? Инесса Берендеевна?
– Пожалуйста. Она чрезвычайно скоро сходится с людьми, мгновенно переходя с ними на «ты», наверное, на том основании, что знакомцы должны же есть, пить, спариваться и играть свою социальную роль.
– Так это же очень хорошо! – возразила Суббота. – Тебе бы не помешало у нее поучиться. А то носишься со своим отшельничеством, как с писаной торбой.
– Нет, дорогая Суббота, это нехорошо, это фамильярность, переходящая в амикошонство. Впрочем, у нее племенное мышление: мир для нее делится на два племени: на свое и не-свое. Одно племя – конкретно и во всех отношениях благостно (в силу того, что Инесса к нему принадлежит), а второе – хоть и превосходит по численности первое, но аморфно и неинтересно. Его составляют те, кто находится за пределами курманской вотчины.
– Но будь хоть немного справедлив. Не похоже, чтобы это не-свое племя воспринималось Инессой как враждебное.
– Одной неприязни в адрес «чужих» с ее стороны вполне достаточно.
– Неприязни? У тебя-то самого неприязнь ко всем на свете.
– У меня иногда такое чувство, что, несмотря на нашу близость, ты принимаешь меня за кого-то другого.
– Ах, как я невнимательна! – съязвила Суббота. – Обещаю исправиться. Продолжай.
– Единство курманского племени подразумевает мораль, которая обязательна для всех соплеменников. И, как во всяком родовом объединении, эта мораль, с одной стороны, весьма брутальна, а с другой – довольно гибка, относительна, широка: ее носители сквозь пальцы смотрят на то, что считается неподобающим или даже недопустимым, – при условии, чтобы внешне всё было прикрыто пологом благопристойности.
– Ну да, вы все хотите произвести впечатление непогрешимости.
– Мне всё равно, что обо мне думают другие.
– Ври да не завирайся, твой перфекционизм питается тем же.
– Оставь меня в покое, хотя бы на время. Мы же говорим об Инессе.
– Об Инессе, – согласилась Суббота.
– Так вот, как и всякое племя, племя Инессы строго иерархично: вот главный вождь – глава Курмании, затем идет его представитель – министр курманской культуры, потом конкретный вождь – ректор, а у вождя, конечно же, должна быть свита, к которой Инесса причисляет себя, а еще ниже – все остальные, у которых при этом могут быть свои родственные связи как с представителями свиты, так и с вождями. Получается прихотливая неформализованная сеть отношений, этакая маленькая внутренняя коррупция, не особо выраженная, почти даже невинная, квалифицируемая замечательным словосочетанием «вась-вась».
– А у нас с тобой тоже вась-вась? – съерничала Суббота.
– Это у тебя надо спросить, – заметил я не без щемящего чувства неотвратимости расставания. – Ведь ты скоро исчезнешь. Сколько нам осталось: несколько часов?
– Прости, – моя спутница потупила взгляд. – Продолжай.
– Укорененность племени в этносе как бы легитимирует эти вась-вась-отношения. Не будучи курманом, я естественным образом подпадаю под категорию «чужих», про которых говорят, что они «без роду без племени». Этих «чужих», что опираются в своих действиях и мыслях лишь на себя самих, Инесса назвала бы жалкими одиночками, если бы вообще испытывала к ним интерес. Они для нее что-то вроде досадной помехи, вроде насекомых: если нет возможности раздавить, то можно от них отмахнуться. Эта вась-вась-иерархия и тупой морализм, вкупе с родственным попустительством в адрес тех, кто «с тобой одной крови», вызывал бы, наверное, у меня отвращение, если бы не был мне глубоко безразличен, как безразлично мне то, как вписана жизнь Инессы в круговорот ее племени. Сам я, слава Богу, ни к какому племени себя не причисляю.
– Может, в этом вся проблема? – вставила Суббота с какой-то очень серьезной интонацией.
– Не думаю. Мне кажется, что любой человек дороже его атрибута, этнического в том числе. Атрибут агрессивен, он всегда хочет превратиться в сущность, отменив другие атрибуты.
– Интересная мысль! Разве, выделяя какое-либо свойство у тех, кого ты лепишь, ты не гипертрофируешь это свойство?
– Ты думаешь, это мой недостаток?
– А ты полагаешь – достоинство?
– Я не знаю. Инесса в этом смысле находится в более выгодном положении: она не видит людей, кроме соплеменников, и ей не приходится никого гипертрофировать. Она подвизалась на курманских костюмах. Мастерит шишаки с монистами и вышивает курманские руны. Весьма в этом поднаторела. У нас в городе открыли музей курманской вышивки, как будто специально для нее.
– Ты преувеличиваешь.
– Может быть. Гипетрофирую, как ты изволишь выражаться. Ну, если не только для нее, то для бонз курманской культуры, которые готовы часами распространяться на тему, какой глубочайший философский смысл заключен в каждом узоре и даже стежке. Представь, существуют целые исследования на этот счет. Я даже пытался читать, но скоро наскучило: такая гиль!
– Я ведь не спорю, – отвечала Суббота, – там действительно много детского и наивного. Но люди хотят знать о своих «корнях и истоках», не мешай им.
– Между прочим, Берендеевна так и не выучилась нормально говорить по-русски, – посетовал я.
– Зато она кандидат наук.
– И на каком языке она писала диссертацию? – не унимался я.
– Ей помогали.
– Кто бы сомневался! Да и защищалась она по педагогике. По педагогике не защитится разве что наш Веня… Веня, вы хотите быть кандидатом педагогических наук? – обратился я к Вене.
– Конечно, – отозвался тот. – А что, так можно?
– Спросите у Инессы Берендеевны, – ответил я.
– Инесса Берендеевна, вот Герасим Вадимович говорит, что можно стать, как вы, кандидатом педагогических наук. Это правда?
– Надо вступить в аспирантуру, – с пафосом отвечала та. – И писать диссертацию.
– А о чем? – Веня был явно заинтересован.
– Ты, что ль, собираешься вступить в аспирантуру? – критически взглянув на него, процедила Инесса Берендеевна.
– Почему нет? – подсказала Суббота, хватаясь за живот.
– Почему нет? – повернулся я к курманской вышивке.
– Что «нет»? – Инесса отпрянула от меня.
– Почему бы Вене не стать кандидатом педагогических наук?
– Шутки, что ль, шутить хотите? – ответила Инесса.
– Он шутник! – Суббота захохотала так выразительно, что я сделал усилие, чтобы удержаться, и произвел что-то вроде чиха.
– На здоровье, – подозрительно отозвалась Берендеевна.
– Спасибо. Матильда Карповна, я, собственно, за ведомостями, – обратился я к начальнице отдела.
– Да-да, вот, всё готово.
Она подала мне бумаги.
– Ну что, Суббота, идем?
– Я могу послушать, что они будут говорить, когда ты выйдешь, – ответила она.
– Ах, дорогая, это же гадко! – невольно заговорил я вполголоса, забыв о том, о чем мы условились с Субботой. – К тому же, я и так знаю. Ничего хорошего. Они ждут не дождутся, когда пуп земли их покинет, добровольно или вынужденно.
– Вы мне, что ль, говорите? – спросила Инесса.
– Я вообще говорю, – отвечал покорный слуга.
– А-а-а, – протянула Берендеевна, – а то я не поняла.
– Вот и хорошо.
– У тебя искусство наживать себе недоброжелателей, – сказала Суббота, когда мы вышли из кабинета.
– Ты не права, – отвечал я мрачно. – Я максимально доброжелателен ко всем.
– Значит, ни к кому, – отозвалась моя спутница.
– Ты не можешь не признать, что я человеколюбив и никому не желаю зла.
– Ты забываешь, что люди обидчивы и мстительны. Но, может быть, так даже лучше.
– Почему же лучше?
– Потому что, когда число недоброжелателей достигнет критической отметки, что-то произойдет.
– Они сживут меня со свету? Или я попросту умру?
Суббота странно посмотрела на меня:
– Ты не умрешь, но ты изменишься.
– В какую же это сторону? – не унимался я.
– Ты изменишься внутри, – серьезно произнесла она.
– А как же тогда мое сокровенное «я»?
– Ты что же, намерен сохранять его до скончания века? – едко спросила Суббота.
– Я об этом не думал, но, кажется, это само собой разумеется.
– Да? Тогда вспомни, что тебя занимало год назад. Вспомнил?
– Мне надо сосредоточиться.
– То-то же, ваше превосходительство Сокровенное Я!
– Я ключи забыл взять.
– Иди. Я подожду.
– От 208-го, пожалуйста, – сказал я Серафиме Рафаиловне. Я смотрел на ее отекшие руки и думал о том, что, вероятно, для нее это праздник – быть стражем в институте, где она могла хотя бы на время забыть о подагрическом муже, вечно голодном псе и о том, как ей смотреть в глаза сыну, когда тот вернется из заключения.
Глава VI. Род человеческий
– Ты знаешь, я, кажется, слишком прекраснодушен был в юности, – вдруг начал я, когда мы стали подниматься по институтской лестнице. – Мне казалось, что люди представляют из себя прекрасную большую семью, в которой каждый связан друг с другом и поэтому необходим.
– Почему «в юности»? Разве теперь ты мыслишь иначе?
– Вчера я говорил с одной журналисткой…
– Я читала интервью, – вставила Суббота.
– Тем лучше. Кстати, как оно тебе?
– Интервью как интервью. Надо отдать тебе должное – ты был откровенен.
– Даже слишком. Дело не в этом. Я, среди прочего, обмолвился по поводу аллегорий.
– Она придет к тебе завтра, твоя журналистка, позировать ню, – улыбнулась моя спутница.
– Наверное. Так вот, она спросила меня, не хотел бы я слепить монумент для города. И мне вдруг вспомнился мой давнишний юношеский замысел. Многофигурная композиция – я даже боюсь себе представить, сколько в ней должно быть персонажей: пару дюжин или, может, полсотни, разного возраста, этносов, профессий. Что-то вроде того, что сделал когда-то Стейхен с выставкой «Семья человека». Но если у Стейхена это просто множество фотографий, на которых люди представлены в различные моменты жизни (рождение, смерть, война, любовь, профессии, развлечения), то в моем замысле персонажи должны быть соединены друг с другом.
– Держаться за руки? – лукаво спросила Суббота. – Или это как фонтан Дружбы народов на ВДНХ? Или как Глазуновская «Вся Россия»? А еще есть «Памятник тысячелетию России» в Новгороде. Там персонажей больше ста.
