Сквозняки времени. Книга вторая. Перекресток тупиков
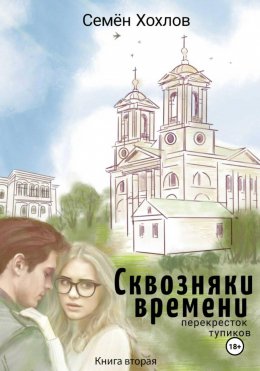
Глава 1. 1995-й
Рванувшись вперед, в темноту, Света оказалась в узком коридоре, стены которого почти касались ее плеч. Лицом девушка наткнулась на паутину и стала судорожно стряхивать липкие волокна, облепившие щеки и лоб. Сзади слышался шум борьбы и глухие удары: похоже, Саня продолжал яростно бить Соплю. Так тому и надо! Света стала пробираться по узкому коридорчику вперед. О том, чтобы вернуться назад, она даже и не думала. Ощупывая руками стены, девушка чувствовала, что они сделаны из тонких кирпичей – такие обжигали до Революции. Кирпичи были влажными от сырости, пару раз Света натыкалась на ползующих по ним слизней. Ну и черт с ними, со слизнями, лишь бы тут крыс не было!
Внезапная мысль пронеслась у нее в голове, отчего Света даже остановилась – в этом подвале был убит Дмитрий Тараканов! А что если она сейчас наступит на его кости или череп? Нет, костей тут быть не может, ведь тело Тараканова нашли весной 1919-го в ключе на Юрюзанской дороге! Но здесь может бродить его призрак! Света заставила себя отбросить эту мысль и попробовала сосредоточиться на том, куда может вывести этот подземный ход.
В том, что это подземный ход, она уже не сомневалась: для чего еще нужен узкий кирпичный коридор, ведущий из подвала старого особняка. Но вот куда он ведет? Сейчас она не могла вспомнить, в каком углу подвала она была, когда наткнулась на эту дверь. Задние окна особняка Белосельских-Белозерских выходили на обрыв горы, под которой стоял завод. Весьма логично было ожидать, что ход выведет ее на склон этой горы.
Девушка прошла по подземному ходу уже шагов сорок или пятьдесят, когда ее руки наткнулись на деревянную дверь. Света попробовала ее открыть, но вскоре убедилась, что дверь закрыта снаружи. Уже поняв, что не сможет ее открыть, Света дернула дверь несколько раз, но тут ей показалось, что она слышит какие-то звуки с обратной стороны. Надеясь привлечь к себе внимание, она стала еще сильнее дергать дверь вперед-назад.
– Кто здесь? – из-за двери послышался приглушенный мужской голос.
– Пожалуйста, откройте! Мне грозит опасность! – попросила Света.
Вместо ответа за дверью послышались какие-то шорохи, несколько раз о доски полотна что-то ударилось, потом раздался скрежет засова, и наконец дверь стала осторожно отворятся на девушку. Вопреки ожиданию, открывшийся проем выводил не на улицу, а в помещение, скорее всего, тоже подвал, потому что в нем было полусумрачно, хотя не так темно, как в подземном ходе.
В подвале стоял человек с карманным фонариком, силуэт незнакомца был каким-то мешковатым. Выйдя из двери, Света с удивлением поняла, что открывший дверь одет во все черное, на голове у него черная шапочка, а лицо заросло густой черной бородой. Тот тоже с интересом рассматривал девушку, однако не направлял на нее свой карманный фонарик, видимо, боясь ослепить светом.
– Где я? – спросила девушка, продолжая рассматривать черного человека.
– В Божьем храме! – ответил он приятным грудным голосом, в котором Свете почудились нотки иронии.
– Так вы священник! – догадалась Света.
– Отец Михаил! Имею честь возглавлять наш приход! – отрекомендовался он. – Так какая опасность вам угрожала, что вы решили покинуть музей через подземный ход?
– А откуда вы знаете, что я из музея? – удивилась девушка. – Давайте сначала закроем дверь!
Священник закрыл дверь и задвинул засов, после чего ответил:
– Из нашего храма раньше шло целых два подземных хода. Один соединял церковь с домом настоятеля. Вы его наверняка знаете: двухэтажный такой, напротив дворца культуры, там сейчас дом детского творчества располагается!..
Света кивнула, она даже слышала, что это здание иногда по старинке называют поповским домом.
– …но тот ход завалили, когда булыжную мостовую на улице Дмитрия Тараканова стали менять на асфальтовую, – продолжил отец Михаил. – Строители побоялись, что грунт под тяжестью грузовика или автобуса не выдержит и провалится. Зато второй подземный ход между храмом и особняком Белосельских-Белозерских остался. Эти здания начинали строить в один год и, видимо, тогда же и подземный ход заложили. Уж не знаю, из каких соображений это было сделано! Может, из рыцарской романтики, а может, хотели иметь путь для отступления на случай повторения пугачевщины.
Света стояла и с удивлением слушала отца Михаила. Еще ни разу в жизни ей не приходилось общаться со священниками, и теперь его ровный и сильный голос успокаивал ее после всех пережитых волнений.
– Однако что все-таки случилось в музее? – спросил настоятель. – Кому-то еще нужна помощь?
– Нет, я была там одна…
– То есть как одна? Вы кто? И где Галина Евгеньевна? – удивился отец Михаил.
– Галина Евгеньевна сегодня приболела, а меня Светой зовут, я студентка истфака! Я в музее на преддипломной практике. А они приехали и хотели, чтобы я их пропустила. Им нужно было понять, можно ли на второй этаж джакузи установить.
– Какой еще джаз Кузи? – не понял отец Михаил.
– Да не джаз, а джакузи, ванна такая большая с пузырьками! – Света сама понимала, что ее рассказ звучит как бессмыслица, и сама сердилась на себя за это, но пережитое волнение давало о себе знать, и девушка объясняла сбивчиво.
– Зачем же в музее большую ванну ставить?
– Так он хочет здание музея не то в гостиницу, не то в свой особняк превратить!
– Ничего не понимаю! Кто-то хочет забрать себе музей?
– Ну да, Николай Гнедых! Я же вам и объясняю! – девушка обрадовалась, что ее собеседник стал наконец-то что-то понимать. – Пришел в музей вместе с реставратором, а я их не хотела пускать!..
– Гнедых? Николай? – ахнул отец Михаил. – Это он загнал тебя в подземный ход?
– Да, то есть нет! То есть не совсем он! Я пошла милицию вызывать, а он на меня натравил одного из своих охранников!
– Так, понятно! Пойдем наверх, в подвале нам делать больше нечего!
Они поднялись по крутым железным ступеням наверх и оказались в небольшом подсобном помещении, окна которого выходили на фасад музея. У здания по-прежнему стояло два автомобиля, рядом с которыми прогуливался Олег.
– Видать, еще не уехал, паскудник! – пробормотал отец Михаил, по-видимому, отлично знавший машину Гнедых. – Ну ничего, я с ним сейчас потолкую! Тоже мне, православный христианин, справился с молодой девою! Да еще когда? В страстную неделю!
Он подвел девушку к небольшой двери.
– Ты, Света, сходи пока умойся да в порядок себя приведи! А я покуда пойду с заблудшей душой потолкую!
За дверью оказалась небольшая уборная. Выглядела она хоть и скромно, зато довольно чисто. Про себя Света отметила: что бы там не врали в желтой прессе, а золотых унитазов у служителей церкви не наблюдалось. Как и в музее, горячей воды в кране не было, и девушке пришлось довольствоваться холодной. Света умыла лицо и как смогла почистила свитер и джинсы, испачканные в подземном путешествии. Приведя себя в порядок, девушка вернулась к выходящему на музей окну и тут же увидала отца Михаила.
Неторопливой, но в тоже время твердой поступью священник шагал вдоль наружной стороны церковной изгороди. Девушка успела заметить, что за то время, пока она умывалась, отец Михаил успел переодеться. В подвале на нем была потертая, видимо, старая ряса. А сейчас по улице он шагал в чистой. На груди священник нес большой крест, который время от времени поблескивал на солнце.
Когда настоятель уже подходил ко входу в музей, из него сначала вышел слегка пошатывающийся Сопля. Даже издалека Свете было видно, что ее недавнему обидчику крепко досталось: лицо было в садинах и кровоподтеках, к носу была прижата какая-то тряпица. За Соплей из музея показались Николай и Иосиф Маркович, последним из дверей шел нахохлившийся Саня, вид у него был сердитый.
Увидев подходящего священника, Гнедых поздоровался, во всяком случае, Свете было видно, как он кивнул головой. В ответ на это отец Михаил стал его отчитывать, потрясая при этом рукой. Девушке даже показалось, что она через стекло слышит обрывки реплик настоятеля. Гнедых как будто согласно кивал и время от времени сам что-то говорил священнику. Один раз он мотнул головой сначала в сторону Сопли, потом в сторону Сани.
Наконец отец Михаил проговорил еще что-то и назидательно потряс указательным пальцем, в ответ на это Гнедых опять покивал головой с видом смиренного человека. После этого Николай сказал несколько фраз Сане, и все, кроме Птицына, стали садиться в машины. Когда автомобили тронулись от музея, отец Михаил пошел назад к храму, а Саня вернулся внутрь особняка.
Войдя в церковь, настоятель перекрестился и негромко прочитал какую-то короткую молитву, после чего подошел к ожидавшей его девушке.
– Гнедых утверждает, что все произошло по его недогляду. Будто бы один охранник неправильно понял его слова, а второй стал за тебя вступаться, вот они и разодрались и тебя напугали! – сообщил он Свете
– Второго рядом не было, он потом с улицы прибежал, когда первый меня уже в подвал загнал! – Света опять вспомнила случившееся, и недавно пережитый страх снова пробежал по ней неприятным холодком.
– Я так и подумал, что он врет, охальник! – настоятель словно бы одернул себя и перекрестился. – Прости, Господи, мне этот грех! Заставил меня на страстной неделе серчать!
Священник перекрестился еще раз и опять прочитал какую-то молитву. После чего продолжил уже спокойным голосом:
– Ну так вот, Гнедых божится, что больше такого не повторится, обещает, что своего нерадивого охранника накажет, а перед тобой извинится…
– Очень нужны мне его извинения! – не выдержала Света. – Лучше бы выкинул из головы мысль о приватизации музея!
– Об этом ты мне как-нибудь потом подробно расскажешь, – попросил настоятель. – Сейчас в музее остался тот второй охранник, чтобы присмотреть за зданием. Мы сейчас с тобой туда вместе сходим!
– Спасибо вам большое, отец Михаил! – девушка немножко замялась перед тем, как назвать его по имени, ей отчего-то было неудобно произносить «отец Михаил». – Только я одна схожу, мы с Сашей много лет друг друга знаем, и он меня не обидит!
– Ну раз так, поступай, как знаешь! Если потребуется помощь, то заходи! – отец Михаил улыбнулся, и ровные зубы сверкнули сквозь бороду. – Ты в храм теперь несколько дорог знаешь!
– Спасибо вам большое! – Света улыбнулась в ответ и пошла в сторону выхода.
Выходя из церкви, она припомнила, что в такие моменты вроде бы положено креститься, но, как правильно это делать, Света не знала. Не сочтет ли настоятель такой ее уход обидным для себя и для храма? Совсем смутившись, девушка вышла из церкви и быстро пошагала ко входу в музей.
Глава 2. 1918-й
Томош Гжечич проснулся от нестерпимого зуда, его опять заедали вши. Почесавшись сквозь грязную гимнастерку, он вполголоса выругался и сел на нарах. Одного взгляда в небольшую отдушину, заменявшую в их теплушке окно, было достаточно, чтобы понять: за то время, пока он отсыпался после ночного караула, их состав не сдвинулся с места. За окном был все тот же скучный вид одного из тупиков железнодорожной станции Челябинска.
Гжечич спрыгнул с нар и еще неровной после сна походкой, задевая плечами другие нары, пошел к завешенному рваной тряпкой углу вагона, где прямо в полу было пропилено большое прямоугольное отверстие для справления человеческих потребностей. Не доходя до завески несколько метров, он почувствовал характерный запах нечистот, стоило ли этому удивляться – вагон стоял на месте уже четвертый день.
– Матка Божий, Томош, ну куда ты прешся? – раздалось с ближайших нар. – Состав стоит на месте, на улице весна, не поддувает, сходи подальше от вагона!
Гжечич на это только досадливо отмахнулся рукой. Он понимал, что жителям ближайших от дыры нар жилось несладко, но терпеть не мог искать подходящее место где-нибудь в окружающих насыпь кустах или под вагонами соседних составов. Так уж его приучили с детства, что делать свои дела надо в замкнутом с четырех сторон пространстве, пусть оно и закрыто дырявой завесью.
За четыре года войны Томош насмотрелся всякого, но все это время он помнил слова отца, сказанные ему перед самой отправкой. Почти все молодые парни их небольшой шахтерской деревеньки, расположенной в двадцати километрах от Острава, стояли на деревенской площади рядом с таверной, где по праздникам выпивались бочонки пива и жарилось сразу несколько поросят. Прибывший за ними капрал объявил, что они выступают через пять минут. Кто-то обнимал напоследок матерей и жен, кто-то громко храбрился и обещал подстрелить как можно больше французов. Тогда отец Томоша, крепкий и опытный забойщик, обнял сына и проговорил ему на ухо так, чтобы никто вокруг не услышал:
– Вот что, сынок, помни, что это не твоя война. Ты – чех, и тебе не надо умирать за проклятых Габсбургов и за этого выжившего из ума Франца Иосифа.
Вопреки ожиданиям, их отправили не во Францию, а на русский фронт. Воевать за Австро-Венгерскую монархию против братьев-славян не хотелось, поэтому Томош сговорился с несколькими земляками при первой возможности перебежать к русским. Однажды их роте дали приказ выбить русских стрелков из небольшого местечка. Они шли редкой цепью по несжатому пшеничному полю и никак не могли понять, заняты ли вообще передние дома неприятелем или нет. Вдруг кто-то испуганно крикнул: «Казаки!» Из рощи слева скакала казачья полусотня, грозно гикая и размахивая шашками.
Цепь рассыпалась и побежала, Томош и два его товарища бросили винтовки и подняли руки вверх, молясь, чтобы не испытать на себе страшных казачьих ударов. В плен их тогда попало семеро, причем все были целы и здоровы, только одному досталось от казака нагайкой.
Зимой в лагерь для военнопленных, где находился Томош, прибыл офицер и рассказал, что в составе русской армии воюет Чехославацкая дружина. Император Николай II пообещал помочь Чехословакии приобрести независимость, если чехи помогут русским воевать против Австро-Венгрии и Германии. Большинство находящихся в лагере чехов и словаков пожелали вступить в дружину, вместе со всеми туда вступил и Томош Гжечич.
За два года Чехословацкая дружина выросла сперва до размеров дивизии, а потом до размеров корпуса. Почти все офицеры были русскими, но с большим уважением относились к легионерам, общее число которых достигло семидесяти тысяч человек. Летом 1916 года дивизию Томоша отправили на строительство Мурманской железной дороги. Тогда Гжечич стал понимать, что до свободной Чехословакии еще очень далеко, война зашла в тупик и она все больше раздражает людей в тылу.
На строительстве дороги чехов кормили плохо, многие начали болеть, и каждую неделю в их казарме кто-нибудь умирал. Из газет Гжечич знал, что в конце ноября от воспаления легких скончался император Франц Иосиф, просидевший на троне шестьдесят восемь лет. Однако проклятая Австро-Венгрия еще не распалась, ее возглавил Карл I, племянник предыдущего императора.
В начале марта 1917 года легионеры Чехословацкого корпуса узнали, что в Петрограде произошла Революция и император Николай II отрекся от престола. Русский фронт посыпался, распропагандированные войска не хотели воевать, и Чехословацкий корпус срочно перебросили на Украину. Несколько месяцев они были одной из самых боеспособных частей, раз за разом отражая атаки немецких войск. Но хаос в армии возрастал, командиры в частях стали выборными. К чехословакам постоянно приезжали агитаторы разных мастей, пропагандируя идеи социал-революционеров, большевиков и анархистов. В октябре большевики совершили еще один переворот, после чего по корпусу разнесся слух о скором мире.
В Париже был создан Чехословацкий национальный совет, который в будущем должен был возглавить Чехословакию. С февраля 1918 года Чехословацкий корпус находился под руководством совета, в котором было принято решение о перевозке корпуса на Западный фронт. Предполагалось, что чехословаки попадут в Европу, описав по миру большой крюк. Сначала они должны были на поездах доехать до Владивостока, откуда потом морем доплыть до Франции.
Однако Германия, недовольная медленными темпами переговоров, перешла в наступление, и большевисткое правительство в начале марта 1918 года было вынуждено подписать крайне невыгодный Брест-Литовский мир и выйти из Империалистической войны. По условиям мира большевики обязались освободить из плена сотни тысяч солдат германской и австро-венгерской армий. Поэтому из Сибири на Запад двинулись многочисленные составы с бывшими военнопленными. С другой стороны, Германия была совсем незаинтересована в том, чтобы двигающиеся на Дальний Восток чехословаки рано или поздно попали на Западный фронт и тем самым усилили позиции Антанты.
Выйдя из-за завеси, Томош подошел к прибитому к стенке вагона рукомойнику. Он уже давно привык, что вместо мыла рядом с рукомойником была прикреплена большая жестяная коробочка, в которую дежурный насыпал древесную золу. Мыло последний раз им выдавали в Пензе в конце марта, а последний банный день был под Уфой, но к тому времени мыло у всех успело закончиться, и они отмывались таким же щелоком из печки. Стоило ли удивляться, что легионеров заедали вши.
Гжечич решил прогуляться до станции, где можно было раздобыть кипятка и разузнать новости. Спрыгнув из теплушки, он увидел, как в двух вагонах от него по насыпи идет Франтишек Духачек, с которым Томошу пришлось побывать в нескольких переделках на Украине.
– Франтишек! Франтишек! – окликнул Томош товарища. – Ты куда, на станцию? Закурить есть у тебя?
– Привет, Томош! – обрадовался другу Духачек. – Нет, я уже два дня без курева, даже уши в трубочку сворачиваются!
– А какая теплынь сегодня, даже и не верится! – Гжечич расстегнул гимнастерку. – Подумать только, ведь всего неделю назад, когда мы стояли в том городке в горах, снег шел! Я когда из ночного караула пришел, у меня на каждом плече по сугробу было, и это в начале мая! Как этот город называют? Златец, Злотень…
– Златоуст, – подсказал Франтишек, – он стоит на границе Европы и Азии!
– Вот как? Никогда не был силен в географии. Все время думал, что дальше Днепра мне ничего и знать не надо!
– А у нас в гимназии в Праге географию вел то ли поляк, то ли еврей. Злющий был, как цербер, и была у него предлинная такая линейка, – Духачек широко развел руки в стороны, – если ты урок плохо выучишь, он этой линейкой пребольно по ушам бил! Поэтому мы все хорошо знали, где Волга, где Енисей и даже где Владивосток!
Томош засмеялся – Франтишек был отличным рассказчиком.
– И сколько классов ты окончил?
– Семь! Потом отец сказал, что мне пора помогать ему в лавке.
– С семью классами гимназии тебя должны были по крайней мере сделать унтер-офицером! – удивился Томош.
– Меня даже в учебную команду направили. Но капитаном там был венгр, который оказался очень придирчивым к чехам. Я как-то недостаточно тщательно отдал ему честь, и меня оттуда вышвырнули, о чем я нисколько не жалею!
Томош понимающе кивнул. Он сам несколько раз видел, как вдоль залегшей под пулеметным огнем стрелковой цепи носились унтер-офицеры, силясь заставить вжавшихся в землю людей подняться в атаку. Поэтому в австро-венгерской армии, да и в других армиях воюющих сторон, унтеры погибали чаще остальных.
За разговорами они сами не заметили, как дошли до станции, на которой яблоку негде было упасть. Всюду лежали узлы и спали люди, по много суток ожидавшие попутного поезда. Легионеры пробились в буфет и попросили кипятка, но им сказали, что огромный бак только что залили холодной водой и кипяток будет через час, не раньше. Чтобы не толпиться, они вышли на небольшую мощенную булыжником площадь.
– Смотри-ка, это же Ян, писарь канцелярии! – увидел знакомого Франтишек. – Ян, Ян! Пойдем к нам!
Молодцеватый краснощекий Ян подбежал и поздоровался с земляками.
– Ян, ты табачком не богат? Сил нет, как курить хочется! – пожаловался бывший гимназист.
Ян извлек из кармана пачку и угостил каждого папиросой.
– Французские! Богато живешь! – удивился Томош.
– Куда там! – махнул рукой Ян. – Последнюю пачку докуриваю!
– Что слышно? Когда мы дальше поедем? – спросил Франтишек.
– А черт их разберет! Все твердят, что нет ни паровозов, ни угля! Один состав с нашими до сих пор в Златоусте торчит, два состава тут, да еще четыре в Омске! И ни у кого нет угля!
– Да, за пятьдесят дней нам удалось проехать от Пензы до Челябинска, – стал размышлять вслух Франтишек, – это примерно двадцать пять километров день. До Владивостока нам еще примерно семь с половиной тысяч километров, то есть если ехать с такой же скоростью, то понадобится триста дней!
У Томоша от удивления полезли на лоб глаза.
– Неужели Сибирь настолько большая? – недоверчиво спросил он. – Говорят, тут неподалеку шахтерский городок, кажется, Копейск. Может, нам послать туда делегацию и попросить продать угля? Я сам шахтер, я мог бы поехать с делегацией!
– Не в этом дело! – возразил Ян. – Подполковник Войцеховский говорит, что угля и паровозов нет только для нас, но их находят для венгров и немцев, которых вывозят из Сибири!
Томош и Франтишек, услышав это, выругались.
– И еще… – продолжил писарь, – я вчера в штабе слышал, что получена телеграмма, предписывающая всем составам чехословацкого корпуса, не достигшим Омска, следовать в Мурманск, чтобы быть отправленными в Европу оттуда!
Томош и Франтишек стояли, открыв рты. Оба вспомнили, как полтора года назад на строительстве Мурманской железной дороги их летом заедал гнус, а зимой косила цынга.
– Хотя, если подумать, плыть из Мурманска или Архангельска ближе, чем от Владивостока… – начал размышлять Франтишек.
– Вот только господин подполковник говорит, что все большевики – сволочи, которые уже продали немцам Украину, и никто не знает, что будет с чехословацким корпусом, если его разделят! – Ян стал пересказывать те опасения, которые слышал в штабном вагоне. – А что, если Германия потребует, чтобы всех солдат чехословацкого корпуса передали Австро-Венгрии?
Это было самым убийственным аргументом. Каждый понимал, что он нарушил присягу, и в случае передачи будет подвергнут судебно-полевому суду, после которого грозит виселица.
– Уж лучше мы десять месяцев будем ехать до Владивостока! – проговорил Томош.
В этот момент откуда-то из тупиков станции раздались паровозные свистки. На привокзальной площади и на вокзале все зашевелились и стали выходить на перрон, надеясь каким-нибудь чудом попасть в нужный всем поезд. Троица тоже двинулась туда, надеясь узнать что-нибудь интересное. В самом начале перрона уже стояла группа чехов, двое из которых были с винтовками в руках. По всей видимости, они пришли сюда прямо со своих постов. Ян, Томош и Франтишек подошли к землякам.
Вскоре они увидели паровоз, который с натугой тащил за собой длинный состав из теплушек, точно таких же, в каких ехали солдаты чехословацкого корпуса. Состав двигался на запад, видимо, паровоз только начинал разгон.
– Ну что я говорил! Это состав с бывшими венгерскими военнопленными! – сказал всезнающий писарь. – Два часа назад он прибыл из Омска, и вот их уже отправляют дальше! Их даже из вагонов не выпускали: то ли стремились побыстрее отправить, то ли опасались, чтобы они с нами не схлестнулись!
– Ох, с каким удовольствием я бы с ними поговорил! – процедил сквозь зубы Томош. – Ведь наверняка среди них и офицеры есть!
Состав медленно проплывал мимо челябинского перрона. Двери теплушек были открыты, и около них стояли одетые в потертую австро-венгерскую форму мужчины. Какая-то баба с большим узлом засеменила вдоль состава, намереваясь влезть в открытую дверь. Оттуда ей навстречу протянулись руки. Она сначала сунула в них свой большой узел, который с охотой приняли. Но когда обрадовавшаяся тетка попыталась сама залезть в вагон, то ее отпихнули. Растянувшись на перроне, она слала проклятие в сторону уходящего вагона, а оттуда звучал громкий смех.
Увидев эту безобразную сцену, Томош сплюнул и громко крикнул:
– Венгерские мародеры! Только с бабами воевать и умеете!
Мимо группы чехословаков в этот момент проплывал предпоследний вагон состава. Поняв, что на перроне стоят чехи, венгры из этого вагона начали кричать:
– Предатели, висеть вам всем в петлях!
Когда последняя теплушка почти поравнялась со стоящей группой, из глубины вагона кто-то запустил в сторону чехов чугунную ножку от печки-буржуйки. Описав дугу, тяжелая чугунная деталь пролетела рядом с Томошом и стукнула Франтишика в висок. Духачек упал, как подрезанный, из разбитой головы начала вытекать кровь, его руки и ноги конвульсивно задергались.
Все стоявшие рядом чехи были опытными фронтовиками и с первого взгляда поняли, что Франтишек мертв. Возмущенно крича, они побежали за составом. Венгры в заднем вагоне быстро закрыли дверь, тогда Томош и Ян побежали вдоль состава, не обращая внимание на поленья и брань, летевшие в их сторону из вагонов. Один из тех чехов, что пришел на перрон с поста, поднял винтовку и два раза выстрелил в воздух.
Пробежав почти два километра, Томош догнал паровоз и полез вверх по его ступеням. Ворвавшись в кабину машиниста, он что было сил заорал:
– Тормози состав!
Должно быть, Гжечич в этот миг был очень страшен, потому что машинист почти сразу исполнил его требование. К остановившемуся составу уже сбегались легионеры чехословацкого корпуса, у некоторых в руках были винтовки. Новость об убийстве венграми Франтишека Духачека распространялась среди них со скоростью молнии.
Мало кто видел, что произошло на перроне, поэтому венгров начали выкидывать из трех последних вагонов состава. Перепуганные военнопленные уже не рисковали переругиваться с вооруженными людьми. Они стояли, сбившись в кучу, рядом со своими вагонами. Возбужденные чехи ходили вдоль насыпи и выдергивали наиболее подозрительных, сбивая их в отдельную кучу.
Когда в группе подозрительных набралось восемь человек, Томош Гжечич подскочил к ним. Рот Томоша был страшно перекошен, в руках у него была выхваченная у кого-то трехлинейная винтовка с примкнутым к ней штыком.
– Мадьярские собаки! – заорал Томош. – Всех перестреляю! Кто бросил железку?
Венгры, прячась друг за другом, вытолкнули вперед испуганного белобрысого детину.
– Как зовут?! – неожиданно тихо спросил у него Гжечич.
– Иоганн, Иоганн Малик… – пробормотал белобрысый.
Тогда Томош, коротко размахнувшись винтовкой, ткнул венгра штыком в живот, тот выпучил глаза и согнулся пополам, кто-то подбежал сбоку и вонзил второй штык. Гжечич резко выдернул штык и ударил еще раз, Белобрысый завалился на землю, на губах у него вздувались кровавые пузыри.
Со стороны станции к ним бежали красноармейцы и комендант вокзала, они размахивали винтовками и что-то кричали.
Глава 3. 1774-й
Быстро перебирая руками, Ванятка вскарабкивался по лестнице на площадку вышки на Караульной горе. С прошлой зимы, когда началось восстание башкир, управляющий Катав-Ивановского завода убрал отсюда караульный пост, чтобы зря не рисковать людьми. Теперь, когда завод находился в полуосадном положении, необходимость в дальнем карауле отпала, вместо этого приходилось доверяться многочисленным и противоречивым слухам, приходящим на завод со всех сторон.
Вот уже шесть дней Ванятка жил у бабушки Лукерьи в Карауловке, сюда его отправил отец, который наказал сыну вернуться на завод, если ему удастся разузнать что-нибудь о продвижении отрядов бунтовщиков или правительственных войск.
Несколько дней Ванятка наблюдал, как в окружающих деревню лесах в свои права вступает весна. Бабушка Луша, как ласково называл травницу внук, отправляла Ванятку за березовым соком, каждый раз подробно наставляя его, чтобы он не брал помногу сока от одного дерева и чтобы замазывал надрезы специальной глиной. Ванятка почти не удивлялся, что сделанные им надрезы на березах после бабушкиной глины быстро рубцевались – он чувствовал, что деревья в лесу любят бабушку Лушу так же сильно, как она любит и уважает их.
Вчера с утра Ванятка услыхал с закатной стороны громовые раскаты, которые звучали то реже, то чаще. При этом весеннее солнце светило не переставая и плывшие по небу облака имели безобидный молочный цвет, совершенно непохожий на цвет грозовых туч.
Бабушка вышла на улицу и начала всматриваться в ту сторону, откуда доносились раскаты. Пасшаяся неподалеку коза Зойка, увидев хозяйку, радостно заблеяла и побежала к ней. Зойка была очень привязана к бабушке и часто сопровождала ее, когда травница отправлялась в лес.
– Бабушка, что это, гром? – спросил Ванятка.
– Это не гром, касатик, – ответила бабушка, – это люди смертным боем убивают друг друга!
– Пушки! – догадался Ванятка.
– Да, не иначе, как по Сибирскому тракту бой идет! Не сегодня-завтра надо ждать гостей, пойду травки лечебной подготовлю!
Ванятка знал, что деревня Карауловка стоит в стороне от Сибирского тракта и что этой дорогой ездят только те, кому надо попасть на Катав-Ивановский завод. Ему было очень интересно, каких гостей ждет бабушка – неужели прямо сюда придут восставшие башкиры или высланные их усмирять солдаты? Весь вчерашний день он вслушивался в звуки боя, который медленно перемещался вдоль горизонта, обходя деревню.
Когда Ванятка залез и удобно расположился на площадке вышки, то почти сразу увидел, как на дорогу из леса со стороны Сибирского тракта вышли двое. Один ехал верхом, второй вел коня в поводу. По мере того как эти двое приближались к деревне, Ванятка смог рассмотреть, что они были с густыми черными бородами и при оружии. Тот, что ехал верхом, держал в руке пику. Лошадь второго сильно хромала на заднюю левую ногу, она выглядела явно измученной: то пыталась прыгать на трех ногах, то опиралась на больную ногу и при этом судорожно дергалась от боли.
Путники заметили Ванятку, конный подскакал к вышке и окликнул его:
– Эй, малец! Где у вас тут знахарка живет?
Ванятка спустился с вышки и спросил:
– Дяденьки, а вы кто? Казаки?
– Ишь, догадливый какой! – осклабился конный. – Казаки! Зиновьеву коньку вчера ногу продырявили, подлечить ее надо! А у вас, говорят, тут бабка знающая живет.
– Это бабушка моя, Лукерья Трифоновна, – подтвердил Ванятка.
– Вот-вот! – обрадовался второй казак. – Нам с Остапом как раз говорили про бабку Лукериху. Веди нас скорее к ней.
Ванятка подвел казаков к бабушкиной избе. Пока он ходил за ней в дом, ехавший на здоровом коне Остап успел стреножить своего скакуна и пустить его щипать первую зеленую травку, которая начала проклевываться под весенним солнцем. Второй казак, которого товарищ называл Зиновием, так и стоял, растерянно глядя на своего раненого жеребца.
Вышедшая из сеней травница сразу накинулась на него:
– Ну чего стоишь? Расседлывай скорей! Аль не видишь, что он у тебя, сердешный, еле на ногах стоит!
Зиновий тут же начал снимать седло с раненого коня, его товарищ, услыхав повелительный окрик, тоже начал помогать. Обеспокоенный жеребец испуганно заржал.
Лукериха ушла в дом и вернулась оттуда с чугунком горячей воды, из которого поднимался парок. Подойдя к коню, она поставила чугунок на землю, заглянула жеребцу в глаза и погладила его по морде, отчего тот быстро успокоился. После этого знахарка достала тряпицу и, обмакнув ее в чугунок, начала бережно протирать ногу вокруг раны. На внешней стороне ладони травницы между большим и указательным пальцами были заметны три родинки, выстроившиеся в правильный треугольник.
– Ой, бабка, он у меня с норовом! Как бы не лягнул! – испугался казак.
– Ничего! Меня, небось, не обидит! – Лукериха обращалась не столько к казаку, сколько к коню. – Чем это его так ранило, пулей?
– Из ружья навылет… – подтвердил Зиновий.
– Эх, вы, воины! Промеж себя воюете, а кони от этого страдают!
Лукериха закончила протирать рану и внимательно ее осмотрела: пуля на входе пробила удивительно круглую дырочку, а на вылете вырвала кусок плоти и кожи. Все это время жеребец стоял смирно, немного вздрагивая кожей в тех местах, где старуха проводила тряпицей. Потом знахарка присела и, обхватив ногу коня, потянула ее вверх. Конь послушно приподнял ногу, а потом, следуя за движением рук старухи, опустил ее назад. Казак с удивлением смотрел, как его конь слушается эту странную бабку.
– У коня кости целы, а мясо нарастет! – сказала Лукериха. – Опять же повезло тебе, что мух еще нет, не успели они в рану нагадить!
Сказав это, бабка ушла в дом. Вскоре она вернулась, неся в руках небольшую деревянную плошку, в которой была какая-то желто-бурая кашица, травница на ходу мешала снадобье деревянной ложкой.
– Сымай исподнюю рубаху! – обратилась она к хозяину раненого коня.
– Зачем это? – испуганно спросил Зиновий, опасливо косясь на плошку с кашицей. Похоже, он подумал, что его сейчас будут этим обмазывать.
– Рану коню твоей рубахой перевяжем! – пояснила знахарка.
– Так она ведь того… Который день не стиранная! – забормотал казак.
– Ничего, ничего! Мужской пот для коня, как и конский пот для мужика, – без вреда друг другу! – успокоила его Лукериха. – Как раз твоя сила поможет быстрее рану затянуть.
Зиновий стыдливо разделся и снял нижнюю рубаху. Как он и обещал, она была не первой свежести. Старуха взяла рубаху, встряхнула ее и одним неожиданно сильным движением вдруг разорвала на две половинки: переднюю и заднюю. Остап, молча наблюдавший всю сцену со стороны, только удивленно крякнул при этом.
– Сбереги эту назавтра! – Лукериха бросила одну половинку владельцу.
После этого она взяла щепоть снадобья и начала втирать коню в отверстие раны, при этом негромко нашептывая слова:
– В полночь глухую в темном лесу
Я собирала эту траву.
Мимо и волк, и лось пробегал,
Что я там делала – он не видал.
Лунная травка нам лесом дана,
Силы она восстановит коня!
Станет быстрее ветра тот конь,
Сможет тот конь пролетать сквозь огонь.
Тверже железа эти слова,
Знают их ветер, огонь и вода.
Хозяин коня, подозревая колдовство, испуганно закрестился двумя перстами. Остап трижды плюнул через левое плечо. А конь вдруг неожиданно сильно и радостно заржал.
Закончив втирать и нашептывать, Лукериха быстро и умело перевязала рану вокруг, используя половину рубахи.
– Завтра чуть свет перевяжу конька второй раз, и сможете отправляться в дорогу, – сказала травница Зиновию. – Только завтрашний день он должен ехать без седла, послезавтра снимешь тряпицу и наденешь седло, но садиться на коня будет нельзя, а уж третий день сможешь ехать верхом.
– А переночевать пустишь нас куда? – спросил Остап.
– В сарае переночуете, – Лукериха кивнула головой на небольшое строение, – сейчас уж не холодно. Да коза у меня там живет, вы уж ее не обидьте.
Казаки согласно замотали головами, похоже, они робели и боялись ночевать в доме травницы.
Рано утром бабушка подняла Ванятку и, сунув ему в руки крынку с козьим молоком, сказала:
– Поди снеси нашим постояльцам!
Когда Ванятка подходил к сараю, то заметил, что вокруг сарая на земле прочерчена какая-то линия. Он вошел в сарай и разбудил спавших на соломе казаков. Проснувшись, они начали разминать затекшие со сна руки и ноги. Справив нужду и умывшись, казаки принялись завтракать. Хлеб у них был свой, Зиновий отломил большой кусок и протянул его мальчику.
Когда казаки почти закончили трапезу, в сарай вошла Лукериха. Пристально посмотрев на гостей, она спросила:
– От кого это вы вокруг сарая защитный круг начертили? Аль нечистой силы боитесь?
Зиновий, отведя глаза, забормотал что-то про больного жеребца.
Лукериха тем временем подошла к стоявшему тут же раненому коню, который сегодня выглядел намного лучше. Знахарка развязала рану и вынула оттуда набухшее и изменившее цвет снадобье. Сделав шаг к открытой двери сарая, она выкинула набрякший комок за угол, пробормотав:
– Ворон эту боль возьмет, воронятам отнесет!
Из-за угла сарая шарахнулась вверх какая-то темная птица, может, и вправду ворон понес в свое гнездо странную добычу.
После этого Лукериха осмотрела рану, которая за одну ночь начала затягиваться коркой. Довольно кивнув сама себе, знахарка ушла в дом и вскоре вернулась со вчерашней плошкой с кашицей.
– Остатки рубахи давай! – сказала она хозяину коня, быстро вмазывая снадобье.
Когда Зиновий подал тряпицу, Лукериха сделала аккуратную повязку. Конь при этом довольно фыркнул и ткнулся старухе в плечо. Та в ответ ласково его потрепала.
– Ну все! Можете отправляться! – обратилась она к казакам. – Помните, что сегодня конь должен ехать без седла, завтра, как снимете перевязь, – с седлом, но без ездока, а уж послезавтра сами увидете, что он готов будет.
Через полчаса казаки выезжали со двора знахарки. Выводя неоседланного коня под узцы, Зиновий сказал:
– Не знаю, как тебя и благодарить, бабушка! Конь этот верно мне служил, и я очень боялся его потерять. Возьми вот золотой рубль! – он протянул старухе блеснувшую на утреннем солнце монету.
– Не возьму! – Лукериха отрицательно покачала головой. – Не твоя это деньга, касатик, и нечестным путем она тебе досталось.
Зиновий, казалось, и не удивился, словно ожидая такого ответа.
– Так возьми что-нибудь другое!
– Чего у тебя есть – мне без надобности, а в чем у меня нужда – у тебя сроду не было! – витиевато ответила травница. – Но однако же, коли хочешь расплатиться, то обещай мне одну вещь…
–– Какую? Сказывай! – спросил Зиновий.
– Пожалей в бою душу человеческую, над которой смерть уже крылья расправит.
Казак задумался, взвесил решение и ответил:
– Что ж, обещаю!
– Ну и ступайте, попутный вам ветер в спину! Зря никого не губите да сами живыми останьтесь!
Казаки тронулись. Остап несколько раз оглядывался, будто бы ожидая, что старуха покрестит их во след. Но Лукериха вместе с внуком провожали их молчаливым взглядом.
После обеда бабушка отправила Ванятку на лесной родник за водой. Недалеко от ее дома односельчанами был вырыт глубокий колодец, из которого можно было достать воду с помощью журавля. Почти вся деревня пила из колодца, но знахарка брала оттуда воду только для хозяйственных нужд: для того чтобы что-нибудь помыть или напоить козу. Воду же для питья и приготовления еды она предпочитала брать из лесного родника, не ленилась ходить туда даже в сильные морозы. Когда у Лукерьи гостил внук, то его постоянной обязанностью было доставлять вкусную родниковую воду.
Мальчик прошел по знакомой тропинке через околицу и начал углубляться в лес, который был наполнен звуками весны. Согретые солнцем, громко пели птицы, на кустарниках начали распускаться молодые листочки. Даже на бурых краях еловых лап появились свежие, еще светло-зеленые иголки, отчего хмурые ели казались нарядными и помолодевшими.
Ванятка увлекся всем происходящим в лесу так, что не заметил, как на тропинке появился незнакомец.
– Ой! – Ванятка вздрогнул от неожиданности.
– Здравствуй! – ответил незнакомец. – Скажи, чужие в деревне есть?
Человек был одет в военный мундир, сильно испачканный и местами рваный, на голове у него была треуголка, на левом боку в ножнах висел тяжелый палаш. Бритые когда-то щеки начали зарастать щетиной, под носом топорщились небольшие усы, внимательные глаза словно буравили мальчика.
– Ну, башкиры или казаки есть? – нетерпеливо допытывался солдат.
– Нету! – наконец ответил мальчик. – Были, но уехали сегодня.
– Башкиры?
– Нет, казаки, – ответил мальчик
– Много их было? – продолжал допытываться неизвестный.
– Двое, – ответил Ванятка.
– А чего они хотели?
– Конь у них раненый был, они к моей бабушке приезжали его лечить.
– К твоей бабушке? А она у тебя кто, знахарка? – в голосе солдата промелькнула надежда.
– Да, бабушка Луша – травница, ее все в округе знают! – с гордостью сказал мальчик. – Лукерья Трифоновна, может, слышали?
– Да, мне говорили в соседней деревне про какую-то знахарку, – солдат неопределенно мотнул головой, – А ты ее внук? Мне тебя сам Бог послал! Веди нас скорее к ней!
– А вы кто? – Ванятке самому очень хотелось узнать про этого солдата.
– Драгуны мы! Офицер у нас ранен! – солдат схватил мальчика за руку и потащил вбок от тропинки в сторону околицы. – Пойдем, пойдем, меня дядька Ефим зовут!
Идти за драгуном было трудно. Ефим мерил землю большими шагами, почти не разбирая дороги. Обутый в сапоги, он мог не обращать внимание на торчащие корни и мелкие камни. Ванятка по весеннему дню был уже без лаптей, и ему надо было выбирать дорогу, чтобы голым ступням было не так больно.
Идти, однако, было недалеко: за очередным кустом им открылась небольшая полянка – опушка леса была рядом, и сосны здесь росли не так густо. На полянке Ванятка увидел двух запряженных лошадей, на одной из них полусидел-полулежал еще один военный. Когда подошли ближе, то мальчик увидел, что мундир на военном гораздо богаче, чем на дядьке Ефиме, по обе стороны от седла были приторочены кобуры с пистолетами, на ногах у седока были шпоры.
Ванятка заглянул в лицо офицера и испугался – оно было бледным и осунувшимся, как у покойника. Лоб раненого был мокрый, волосы слиплись и частично съехали на глаза, между которыми торчал острый нос.
– Его надо скорее к бабушке! – почти выкрикнул Ванятка. – Пойдемте за мной!
Драгун отвязал от дерева поводья и повел коней за мальчиком.
– Ничего, ничего, вашбродь, сейчас мы вас доставим к знахарке! – бормотал он на ходу. – Она вас мигом…
Чего «мигом», Ефим и сам не знал, но ему надо было что-то говорить: за последние два дня мытарств после тяжелого боя он почти не спал и сам уже еле держался на ногах .
Лукериха то ли увидала, то ли почувствовала, что у нее опять гости. Выбежав из дома и бегло взглянув на раненого, она всплеснула руками:
– Как же тебя, касатик угораздило?
Ефим стал отвязывать своего раненого начальника, тот сразу начал съезжать с седла куда-то вбок. Ванятка бросился ему помогать. Потом драгун бережно стянул офицера с седла, и тот в первый раз еле слышно застонал. Вдвоем они затащили раненого в дом: дядька Ефим, пыхтя и шагая спиной, вперед нес офицера под мышки, Ванятка приподнимал за сапоги, но силенок не хватало и ноги волочились. Травница держала двери и показывала Ефиму, куда нести.
Когда Ефим и Ванятка дотащили наконец раненого до постели, травница приказала им сначала стянуть с него сапоги и штаны. Потом они с Ефимом не без труда сняли с офицера куртку, на которой были видны следы крови. Мальчик заметил, что куртка рассечена саблей.
Под курткой обнаружились следы спешной перевязки – вокруг плеча был намотан платок, весь бурый от крови. После того как Ефим и Лукериха, вспарывая набрякшую кровью ткань ножом, избавились сначала от верхней, а потом от нижней рубахи, то все увидели идущую по плечу и левой части груди глубокую рубленую рану, от которой по избе тут же пополз нехороший дух гниющего мяса. Ванятку замутило, он отшагнул назад.
– Ой, плохи дела, касатик! – Лукериха закачала головой. – Это Антонов огонь!
Глава 4. 1918-й
Лев Давыдович Троцкий сидел в своем кабинете и просматривал донесения о количестве добровольцев, вступивших в ряды Красной Армии. Два месяца назад он стал народным комиссаром по военным и морским делам и теперь делал все возможное, чтобы у молодой Советской Республики появилась дисциплинированная армия, способная противостоять контрреволюции.
Лев Давыдович каждой клеткой своего тела чувствовал, что сейчас все враги Революции не дремлют и в любую секунду могут нанести сокрушающий удар. Месяц назад во Владивостоке высадились японцы, мотивировав свои действия заботой о живущих на Дальнем Востоке соотечественниках. Противостоять японской интервенции было просто некому – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке находились лишь небольшие отряды, состоящие из воинов-интернационалистов и представителей местных советов. Узнав об этом, Германия и Австро-Венгрия потребовали ускорить вывоз своих военнопленных из Сибири. За апрель численность штыков в Красной Армии удалось увеличить со ста пятидесяти до двухсот тысяч, но для такой большой страны это была капля в море.
В любой момент могли ударить страны Антанты – бывшие союзники Российской империи. Ни Англия, ни Франция пока официально не признали Советской России, их представители ограничивались проведением консультации с народным комиссаром иностранных дел. Ситуация усугублялась тем, что на складах Архангельска и Мурманска лежали английские военные грузы, которые охранялись английскими же солдатами. Кроме того, в самом центре России находился Чехословацкий корпус, который формально подчинялся расположенному в Париже Чехословацкому национальному совету.
Семидесятитысячный хорошо вооруженный корпус представлял собой грозную военную силу, и Ленин в марте просил вывести чехословаков как можно быстрее. Тогда на переговоры в Пензу был отправлен Сталин, который, как тогда всем казалось, сумел договориться с представителями чехословаков. Многие в те дни аплодировали телеграмме этого самолюбивого грузина:
«Предложения чехословацкого корпуса считать справедливыми и приемлемыми при условии немедленного продвижения эшелонов к Владивостоку и немедленного устранения контрреволюционного командного состава. Чехословаки продвигаются не как боевые единицы, а как группа свободных граждан, берущих с собой известное количество оружия для своей самозащиты от покушений контрреволюционеров. Совет народных комиссаров готов оказать им всякое содействие на территории России при условии их честной и искренней лояльности. В каждом эшелоне оставить вооруженную роту численностью в сто шестьдесят восемь человек, включая унтер-офицеров и один пулемет. На каждую винтовку – триста, на пулемет – тысячу двести зарядов. Все остальные винтовки и пулеметы, все орудия должны быть сданы русскому правительству в руки особой комиссии в Пензе, состоящей из трех представителей чехословацкого войска и трех представителей советской власти».
Вот только чехословаки не спешили и оружие сдавали крайне неохотно, а у Советов рабочих и солдатских депутатов на местах не было фактических рычагов, чтобы заставить их разоружиться.
У Троцкого еще была надежда воздействовать на легионеров через пропаганду. Чехи и словаки шли в корпус, чтобы бороться за независимость своих народов от гнета Австро-Венгерской империи, и их можно было зазывать в Красную Армию, бойцы которой пойдут в борьбу за свободу всех угнетенных классов всех стран. Однако, просмотрев бумаги, Лев Давыдович увидел, что агитбригадам удалось сагитировать к вступлению в Красную Армию только сто пятьдесят чехов. Похоже, идея о создании ядра новой армии вокруг Чехословацкого корпуса разбивалась о камни.
В кабинет постучали.
– Войдите! – ответил Троцкий.
– Лев Давыдович, срочная телеграмма из Челябинска! – подтянутый секретарь протянул листок с текстом.
Троцкий побежал глазами по строчкам, и его кулаки сжались так, что костяшки побелели. После самосуда чехов над одним из пленных венгров на станции Челябинска местными властями была создана специальная комиссия, арестовавшая семнадцатого мая десятерых чехов. От чехословаков в челябинский Совет была направлена делегация во главе с офицером, которая потребовала освободить арестованных, поскольку они мстили венграм за убитого в тот день прямо на перроне чехословацкого стрелка. Однако все члены делегации были разоружены и посажены под арест. Тогда командующий дивизией подполковник Войцеховский приказал своим бойцам занять вокзал Челябинска, после чего чехословацкие солдаты выдвинулись в город, освободили своих товарищей и захватили все органы власти, артиллерийскую батарею и военый склад с двумя тысячами восьмьюстами винтовками. В ближайшие дни в Челябинске должен пройти съезд членов филиала Чехословацкого национального совета и командиров чешских частей.
Лев Давыдович дважды прочитал переданное сообщение. Как бы не хотелось, но надо было докладывать Ленину. Он поднял телефонную трубку и, когда услышал на другом конце провода приглушенный картавый голос, кратко рассказал о происходящем в Челябинске.
– А я вас, товарищ Троцкий, предупреждал, что эти попытки заигрывания с чехословаками не приведут ни к чему хорошему!..
Ленин, как всегда, говорил с ним хлесткими фразами. Пятнадцать лет назад они познакомились в Европе. Владимиру Ильичу тогда импонировал этот молодой революционер, бежавший из сибирской ссылки. Троцкий поначалу проникся идеями старшего товарища и охотно занимал его сторону во время многочисленных партийных дискуссий, за это его тогда даже прозвали «дубинкой Ленина». Однако, когда социал-демократы раскололись на «меньшевиков» и «большевиков», Троцкий не пошел за Лениным и даже осмелился его критиковать, за что бывший учитель назвал его «иудошкой Троцким». После Февральской революции они примирились, а летом 1917-го произошло объединение возглавляемой Троцким партии «межрайонцев» и большевиков. В итоге Лев Давыдович фактически возглавил организацию Октябрьского переворота и стал в партии и стране вторым человеком после Ленина.
– …Я сейчас же свяжусь с Дзержинским, – продолжил Ленин, – и категорически потребую от него арестовать заместителей председателя филиала Чехословацкого национального совета Прокопа Макса и Богумила Чермака. Будут сидеть в ЧК, пока не подпишут приказ о полном разоружении всех чехословацких отрядов! Вы слышите? Они должны сдать все оружие, если хотят ехать дальше!
Приказ, о котором говорил Ленин, был подписан и отправлен по всей линии Транссибирской магистрали, однако в ответ на него от делегатов чехословацкого съезда из Челябинска пришло две телеграммы. Первая поступила прямо в ЧК для Прокопа Макса, в ней говорилось: «Съезд избрал исполком для руководства передвижением. Не издавайте приказов, они не будут приниматься во внимание». Вторая телеграмма предназначалась Совету народных комиссаров: «Советское правительство не может обеспечить свободный и беспрепятственный проезд корпуса, съезд решил оружия не сдавать».
После прочтения телеграмм Троцкий пришел в бешенство. По сути, отказываясь подчиняться, Чехословацкий корпус объявлял Советскому правительству войну. Лев Давыдович вызвал помощника и продиктовал следующую телеграмму:
«Все Советы по железной дороге обязаны под страхом тяжкой ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на железнодорожных линиях, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором будет найден хоть один вооруженный, должен быть выкинут из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссариаты обязуются немедленно выполнить этот приказ. Всякое промедление будет равносильно измене и обрушит на виновных суровую кару.
Одновременно посылаю в тыл чехословацким эшелонам надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся советской власти, поступать, как с братьями, и оказать им всяческую поддержку. Всем железнодорожникам сообщается, что ни один вагон с чехословаками не должен продвинуться на восток».
Через несколько часов после отправки телеграммы помощник снова постучался в кабинет Троцкого.
– Лев Давыдович, пензинский Совет сообщает, что они только что отправили восемьсот человек на борьбу с войсками атамана Дутова и теперь у них недостаточно сил для разоружения чехословаков! – помощник прочитал кусок телеграммы. – «На расстоянии ста верст находится около двенадцати тысяч войск с пулеметами, впереди нас стоят эшелоны, имеющие по шестьдесят винтовок на каждые сто человек. Арест офицеров неминуемо вызовет выступление, против которого мы устоять не сможем!»
Троцкий метнул на помощника быстрый взгляд.
– Сколько чехословаков стоит непосредственно в Пензе?
– Около двух тысяч! – быстро ответил помощник, он знал, что Демона Революции в такие моменты страшно раздражала медлительность подчиненных.
– Трусливые бабы! Они должны действовать решительнее! – в стеклах очков Троцкого мелькнули недобрые искры. – Запишите ответную телеграмму!
Помощник вынул из кармана остро отточенный карандаш и стал записывать под скорую диктовку: «Товарищи, военные приказы отдаются не для обсуждения, а для исполнения! Я передам военному суду всех представителей военного комиссариата, которые будут трусливо отклонятся от распоряжения разоружить чехословаков! Нами приняты меры и двинуты бронированные поезда. Вы обязаны действовать решительно и немедленно! Больше добавить ничего не могу!»
– Записали? Немедленно отправьте в Пензу!
Однако события стали развиваться как снежный ком. Легионеры Чехословацкого корпуса начали действовать по всей линии Транссибирской магистрали. Двадцать шестого мая были расстреляны представители советской власти в Челябинске, двадцать девятого мая была взята и разграблена Пенза, вскоре та же участь постигла Самару. Девятого июня пал Омск, и войска подполковника Войцеховского стали контролировать участок Транссиба от Челябинска до Омска. Ножка печки-буржуйки, брошенная венгром в чеха на перроне Челябинска, стала искрой, летевшей прямо в пороховую бочку Гражданской войны.
Стояли самые длинные дни. Описав по небу семнадцатичасовую дугу, солнце плюхнулось за растущий на склонах западных гор сосновый лес и принялось там что-то переплавлять, окрасив небо в беспокойные багряные тона. Антон пробирался переулками к зданию Совета; днем к ним прибежал друг Андрейки Марат и сказал, что дядя Дима Тараканов просит дядю Антона вечером после заката как можно незаметнее прийти в бывший особняк управляющего заводом.
Теперь Антона терзало беспокойство: Тараканов явно чего-то опасался, может быть, он получил какие-то новости от Ерофея? Две недели назад после падения Челябинска Метелин и почти все красногвардейцы отбыли под Златоуст, где красные отряды пытались сдержать наступление восставшего чешского гарнизона. С тех пор о катав-ивановцах не было ни слуху ни духу, зато со всех сторон ползли нехорошие разговоры о том, что повсюду подняла голову контра и во многих поселках и и городках советская власть уже сброшена, а ее представители арестованы и кое-где уже и поставлены к стенке.
Идти к особняку Белосельских-Белозерских напрямую было слишком опасно, и Гнедых сделал большой крюк, обойдя центр города и зайдя к зданию Совета через Застенную улицу. Пробравшись вдоль развалин старой противопожарной стены, он зашел к зданию Совета с тыла.
Поднявшись в темноте по чугунным ступеням лестницы, Антон полуощупью пошел по комнатам. Воздух тут был горячий и душный, и Гнедых не сразу понял, что в помещении зачем-то топятся печи. Во второй комнате он увидел человека, засовывающего что-то в топку голландки. Услышав шаги Антона, человек вздрогнул и резко выпрямился, в отблеске открытой печи в руке человека мелькнул пистолет. Гнедых узнал Тараканова, но только что смотревший на пламя председатель не узнал вошедшего.
– Руки вверх! – почти выкрикнул он.
– Дмитрий Петрович, это я, Антон Гнедых!
– Уф, Антон, извини, совсем я дерганный стал! – Тараканов опустил оружие. – Вот видишь, документы жгу!
Председатель вновь наклонился к печи и пошебуршил в топке кочергой, после чего вновь сунул внутрь пачку бумаг и закрыл створку.
– Что, совсем плохо? От Метелина слышно что-нибудь?
– Не знаю, Антон! Ничего не знаю! – Тараканов вытер потное лицо. – Телеграф молчит, телефонная линия тоже оборвана! Последние новости были три дня назад, Дутов снова под Оренбургом, чешские отряды наступают от Самары по железке… На Златоустовском фронте тяжелые бои, Войцеховский сильно жмет от Челябинска!
– А что московские товарищи? Обещают помочь?
– Я боюсь, что они не успеют! Повсюду саботаж и предательство! Чехи, похоже, действуют вместе с царскими офицерами… Кто мог подумать, что они выступят против нас?
– Что же будем делать?
– Для этого я тебя и позвал. Я сегодня днем отправил на Вязовую Дмитрия Птицына разузнать, что там к чему. Жду его с часу на час. Мы пока с тобой должны сжечь все документы. Нельзя допустить, чтобы они попали в чьи-то руки! Там на столе еще две стопки, неси их сюда!
Они закинули в печь последнюю пачку, когда внизу едва слышно стукнула дверь и скрипнула половица. Тараканов вновь достал пистолет и отошел в темный угол. В проеме двери возникла фигура почтальона.
– Дмитрий Илларионович, мы тебя заждались! – шагнул к нему навстречу Тараканов. – Тебе удалось что-нибудь узнать?
Вошедший Птицын тяжело опустился на стул.
– Сегодня утром белочехи взяли Златоуст…
– Белочехи? – не понял Тараканов.
– Так теперь называют эту восставшую чешскую контру… – пояснил Птицын.
– Это точно известно, что Златоуст пал?
– Точно. Оттуда днем паровоз с двумя вагонами прорвался. Говорят, что три дня назад погиб комиссар фронта Иван Малышев, а утром белые вошли в Златоуст…
– Илларионович, а те, прорвавшиеся, про наших ничего не знают? – не утерпел и перебил Антон.
– Там двое вязовских железнодорожников среди них приехало. Говорят, что несколько дней назад видели Метелина и других наших, что с ними стало потом, не знают, – почтальон тяжело вздохнул и продолжил. – Со стороны Златоуста больше никаких заслонов нет, завтра или послезавтра белые будут на Вязовой и в Усть-Катаве, потом у нас… Вязовские товарищи просили передать тебе, что уходят в подполье!
– Так… – задумчиво сказал Тараканов. – Значит нам все надо закончить этой ночью, следующую нам просто может никто не дать! Мне в городе оставаться нельзя, Илларионовичу тоже, его слишком часто видели в Совете, да и по нашим поручениям он немало ездил то на Вязовую, то в Усть-Катав. Но он может отсидеться в Бедярыше, у него там дядька живет, и деревенские привыкли к его периодическим визитам…
Говоря все это, Тараканов смотрел на Антона. Видимо, они с Птицыным давно все уже обговорили.
– Дядьку моего старым Матвеем зовут, его изба на околице стоит, вторая от леса. Ночью или в сумерках к дому можно незаметно подойти, – пояснил почтальон.
Антон никогда не бывал в Бедярыше, но знал, что это село спряталось в нескольких десятках верст от Катава. Однако Гнедых пока не понимал, к чему весь этот разговор.
– А мне что делать, тоже уходить? – наконец спросил он.
– Понимаешь, Антон Данилович, мы думаем, что люди в Катаве тебя не так сильно связывают с советской властью… – Тараканов стал говорить заметно тише, словно бы боясь, что здесь в пустом доме их может кто-то подслушать. – А нам надо, чтобы в городе оставался надежный человек. Ты должен стать нашим связным!
По голосу своего бывшего ученика и по тому, как Тараканов аккуратно подбирает слова, Антон понял, что задание это непростое и сопряжено с опасностью. Конечно, Гнедых не состоял в Совете рабочих и солдатских депутатов Катав-Ивановска, но нередко приходил на заседания. К тому же, многие в городе знали, что они с Метелиным близкие друзья, а Ероха был секретарем, и его активные действия успели зацепить очень многих в городе.
– Ну что скажешь, товарищ Гнедых? – пристально посмотрел на Антона Дмитрий.
– Что скажу?! Раз заварили кашу, надо ее теперь расхлебывать!
– Другого ответа я от тебя и не ожидал! Где найти Илларионовича, тебе теперь известно. Он будет запасным связным, и через него можно будет передавать продукты. Теперь давайте решать вопрос с оружием, у нас в арсенале есть девять винтовок и почти тысяча патронов к ним, еще есть с десяток гранат. Надо придумать, куда все это спрятать!
– Можно у меня в сарае под полом закопать! – предложил Гнедых. – Если сверху еще кучу навоза положить, то никому в голову не придет там искать!
– Эх, Антон, плохо ты себе представляешь наших врагов! – покачал головой Тараканов. – Они люди очень неглупые, и в первую очередь проверяют всякие неприятные места, не гнушаются даже в выгребные ямы лазить! Нет, правила конспирации запрещают хранить у тебя основную массу оружия. Максимум двести патронов и две гранаты, чтобы в экстренном случае ты смог их быстро выдать.
– Тогда остальную часть можно в сарай к деду Афанасию запрятать! – предложил Антон.
– К деду Афанасию? – председатель на минуту задумался. – Что же, на первое время место вроде неплохое, старик он надежный! Давайте к нему, а потом постараемся часть арсенала в Бедярыш к Илларионовичу переправить!
Той же ночью они перевезли и спрятали оружие у деда Афанасия. Старый кричник был рад помочь – у него имелись свои счеты с царскими властями, упекшей его сына на каторгу после событий прошлой революции.
Короткая июньская ночь сменялась утренними сумерками, когда они крепко пожали друг другу руки и разошлись каждый своею дорогою.
В подвале опустевшего особняка Белосельских-Белозерских оставался сидеть Иван Котенко. За последний месяц всем было не до него, и теперь Тараканов перед самым уходом из Совета, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить арестованного, просто открыл ведущую в подвал дверь.
Глава 5. 1774-й
Ротмистр Лыкин подскакал к Михельсону:
– Господин подполковник! Симской завод занят неприятелем! – начал он докладывать результаты разведки. – Перед заводом выставлен отряд примерно в одну тысячу человек о восьми орудиях, но его можно обойти лесом и ударить с фланга. Завод стоит в низине и наступать нам под гору. Если вы с основным отрядом ударите во фронт, а мой эскадрон во фланг, то они вылетят с завода, как пробка из бутылки!
Иван Иванович Михельсон, командир состоящего из пехоты, конницы и артиллерии деташемента, на минуту задумался. Несколько недель назад он вместе с солдатами своего отряда снял осаду с Уфы и теперь его люди были воодушевлены и рвались дальше громить пугачевцев.
– Ох, ротмистр, вашими бы устами да мед пить! – подполковник старался своею осторожностью немного успокоить симпатичного и смелого командира эскадрона драгун. – Башкиры не так просты и умеют достойно встречать кавалерийские атаки. Впрочем, давайте попробуем! Только передайте своим драгунам, чтобы зря кровь не лили – рубить только вооруженных, пытающихся оказать нам сопротивление!
Лыкин согласно кивнул головой и поехал готовить свой эскадрон к атаке.
Через полчаса смявшие правое крыло и обратившие неприятеля в бегство драгуны на всем скаку ворвались на сонные улицы Симского завода. Бунтовщики не смогли оказать почти никакого сопротивления. Крестьяне из восставших сочли благоразумным не выходить из домов, где остановились на ночлег. Башкиры и казаки, кое-как одевшись, пытались сразу ускакать. Бежавших было много, во много раз больше, чем ворвавшихся драгун. Однако атакующие громко шумели, стреляли вслед убегавшим из пистолетов, а некоторых, особенно задиристых, рубили или обезоруживали.
Когда подполковник Михельсон со своим основным отрядом входил в улицы завода, с колокольни церкви уже раздавался праздничный благовест и на ступенях перед храмом стоял его настоятель отец Никонор, который благословлял иконой входивших воинов.
– Отлично, ротмистр! – поблагодарил Лыкина командир деташемента. – Смотрите, раз поп еще жив, значит сюда не поспел никто из главарей бунтарей! Те или заставляют присягать самозванцу или вешают служителей церкви.
К подполковнику подошли, низко кланяясь, мастера завода.
– Спаси тебя Господь, барин! Ослобонил ты нас!
– Небось пушки лили для супостатов? – строго спросил их Михельсон.
– Что ты, вот тебе крест! – перекрестился один из мастеров. – Я самолично козла в домну пустил!
– Какого еще козла? – не понял подполковник.
– А самого что ни на есть неприятного! – ответил мастер. – Они как к заводу подходить стали, мы домну разожгли, да так и оставили остывать с расплавом! Теперь ее не меньше месяца ломами отшкрябывать надо!
– Ага! – понял Михельсон. – Значит, это у вас, как у военных, мы тоже, когда пушки сдавать не хотим, заклепываем их.
– Вот-вот! – поддакнул мастер. – И мы, значит, козла пустили!
– А ты тут, как я посмотрю, старший? Как звать? – спросил командир деташемента.
– Захар Бирюков я, плотинный мастер. Но, как башкиры пришли, наш приказчик на Катав-Ивановский завод убег и я тут, малясь, распоряжаться стал.
– Ну это вам повезло, что живы остались! – сообщил мастеровым подполковник. – Пугачев на Белорецком заводе дал приказ, чтобы все непокорные заводы жечь до почвы. И сжег ведь, каналья!
– Белорецкий? Сжег? До почвы? – мастера ахнули и закрестились. Белорецкий, как и Симской завод, принадлежал кумпанству Твердышевых и Мясникову и на Белорецком у каждого трудилось немало знакомых.
– Ну а про самого Пугачева тут что слышно было? – спросил подполковник.
– Да толком-то ничего и не знаем, – опять ответил Захар. – У башкир тут за старшего был Салаватка Юлаев, так, баяли, что он Пугачева все в гости ждал, но вы первыми приехали.
– Приехали и планируем к вечеру быть на Усть-Катавском заводе! – голос Михельсона выражал полнейшую уверенность. – Сколько до него ехать?
– До Усть-Катавского-то? Верст сорок будет! – ответил мастер. – Только дорога все по горам идет, трудная!
Командир деташемента обернулся к офицерам отряда:
– На Симском заводе оставить команду из пятнадцати человек с фельдфебелем. Всем крестьянам, принимавшим участие в бунте, всыпать по пять ударов розгами и распустить по домам! – распорядился Михельсон. – Через полчаса выступаем дальше по Сибирскому тракту, к вечеру необходимо занять Усть-Катавский завод! Ротмистр Лыкин!
– Я здесь, господин подполковник! – отозвался ротмистр.
– Ваш эскадрон будет обеспечивать разведку и охрану всего отряда! Боюся, что эти канальи скоро опомнятся и начнут чинить нам разные неприятности! Ваш передовой отряд должен выступить через двадцать минут! Кто будет командовать авангардом?
– Авангардный полуэскадрон поведу я сам! – ответил ротмистр. – Арьергардным полуэскадроном будет командовать поручик Меседов!
Михельсон кивнул головой, одобряя намерения ротмистра. После этого выдал последние распоряжения:
– Следуйте впереди нашего отряда, но больше, чем на три версты не отрывайтесь! На боковые дороги, которые будут отходить от основного тракта, направляйте разъезды по пять-семь драгун, пусть разведывают их на глубину в две-три версты. В случае обнаружения больших отрядов неприятеля, ввязываться в бой запрещаю! Связь через вестовых, жду их каждые полчаса! Все, ступайте с Богом!
Когда через двадцать минут Лыкин во главе полуэскадрона выезжал из Симского завода, то увидел, что на площади у церкви уже были поставлены двое козел, к которым в две очереди выстроились провинившиеся крестьяне. Ротмистр отметил про себя, что подполковник назначил малое наказание и теперь мужики спешили со всех сторон поскорее пройти экзекуцию и получить отпущение грехов.
Очередной мужик подошел к козлам, находу развязывая портки. Покрестившись на церковь, он повалился на бревно:
– Секите! Скорее заболит, скорее заживет! – сказал он и, видимо, боясь закричать, закусил правую руку.
Под свист розог и оханье мужиков драгуны покинули взятый ими завод. Следующие пять часов полуэскадрон пробирался по Сибирскому тракту, производя разведку. Дорога почти все время шла в гору. Башкирские всадники маячили где-то впереди, не пытаясь сближаться.
Первые часы драгуны догоняли большое количество мужиков, принимавших участие в бунте, но не имевших лошадей. Одни из них вставали на краю дороги на колени, склонив головы в знак вины, таким просто указывали вернуться на Симской завод. Другие, завидев драгун, пытались убежать. Их догоняли и с размаху били плоской частью палаша по спине, после чего конвоировали до отряда Михельсона.
В деташементе подполковника Михельсона было немало пушек, поэтому скорость передвижения в горах была небольшой. Очередной вернувшийся разъезд доложил ротмистру, что впереди примерно в полутора верстах стоит на привале небольшая группа башкир из шести всадников. Судя по всему, башкиры еще не успели заметить приближающихся драгун и, если постараться, можно настичь их, связать боем и попытаться взять в плен.
Идея очень понравилась Лыкину, он был еще полон уверенности после утренней удачи и, взяв с собой двенадцать человек драгун, ротмистр выдвинулся вперед. Подобраться к отдыхающим башкирам незамеченными драгунам, однако, не удалось. Башкиры вскочили в седла и громко крича понеслись прочь. Отряд Лыкина поскакал вслед за ними, пытаясь настичь хоть кого-нибудь.
Через полверсты скакавшие миновали перекресток, дорога уходила направо, и Лыкин вспомнил, как был здесь лет десять назад. Эта дорога шла на Катав-Ивановский завод, и Лыкин тогда, будучи еще поручиком, должен был сопровождать Юлая Азналина.
Башкиры скакали впереди, и расстояние до них постепенно уменьшалось. Кое-кто из драгун уже выхватил из ножен палаши; готовясь к сшибке, они горячили коней, постепенно обгоняя офицера, которому не хотелось давать шпоры своему коню Булату – дорога шла немного в гору и силы коня надо было приберечь.
Впереди маячила высокая скала – огромный камень, вывороченный невероятными земными силами. Тракт обходил его и терялся за поворотом. Внимание Лыкина привлекло поведение самого заднего из башкирских всадников. Молодой батыр скакал на сильной кобылице трех-четырех лет, лошадь выглядела довольно свежей, и башкирин наверняка мог легко уйти на ней от погони. Однако он скакал последним, лошадь под ним делала лишние виражи, и наездник при этом как-то уж очень по-театральному испуганно вскрикивал.
В голове ротмистра промелькнули какие-то обрывочные рассказы о тактике степняков, слышанные от офицеров на привалах и пирушках. Истории изобиловали красочными терминами «скифская ловушка», «ордынский поворот», «татарская засада»…
– Назад! Всем назад! Они нас заманивают! – заорал Лыкин скачущим впереди драгунам.
Крики его не возымели никакого действия – увлекшиеся погоней драгуны сами что-то кричали. До заднего, явно кривляющегося башкирского воина, драгунам оставалось сажен десять, когда тот скрылся за скалой. Драгуны один за другим исчезали за поворотом, и ротмистру ничего не оставалось, как скакать вместе со своим отрядом, хотя он уже почти наверняка знал, что там их не ожидает ничего хорошего.
Обогнув скалу, дорога поднималась в очередную гору почти перпендикулярно ее гребню, и по ней во все ширину просеки катилась вниз лава из башкирских всадников, которые размахивали саблями и дико визжали. Среди башкир были и казаки, выделяющиеся из общей толпы густыми бородами.
– Назад, всем назад! – еще кричал Лыкин, на всем ходу осаживая и разворачивая своего коня.
Взик! Прямо перед ротмистром просвистела стрела. Подняв голову, Лыкин увидел, что на скале стоят четверо башкир, которые быстро натягивают и отпускают тетивы своих луков. Кто из этих четверых выпустил стрелу, Лыкин не понял, но если бы ротмистр не затормозил Булата, то стрела нашла бы свою цель.
Все драгуны уже повернули коней, и теперь им предстояло проскакать участок пути под скалой, с которой одна за другой летели злые стрелы. Набирая ход после разворота, скакун Лыкина поравнялся с лошадью одного из драгун, и ротмистр сам не понял, в какой момент осознал, что из шеи животного торчит стрела. В следующее мгновенье раненая лошадь с жалобным ржаньем перекатилась через голову и начала биться на земле. Скакавший на ней драгун каким-то чудом оказался невредим и смог выбраться из-под смертельно раненной лошади.
Мчавшийся первым в атаке, а теперь оказавшийся сзади драгун резко осадил своего коня рядом со спешенным товарищем и помог тому взобраться на круп своей лошади. Такая удобная мишень из остановившегося коня с двумя седоками привлекла к себе внимание стоявших на скале стрелков. Все стрелы полетели в них, давая возможность остальным ускакать из-под скалы. Однако дувший в тот день ветер был на стороне драгун и своими порывами уводил стрелы в стороны.
Конь ротмистра был лучшим не только в эскадроне, но и во всем отряде Михельсона. Булата офицеру подарил два года назад его отец, когда штабс-ротмистр приехал к нему в Смоленскую губернию, возвращаясь с турецкого военного театра. Лыкину говорили, что отец отдал за коня почти половину своего ежегодного дохода. Что ж, вполне похоже, Булат мог составить гордость не только драгунского офицера, но и и кирасира – столько в нем было силы и скорости.
Вот и сейчас ротмистр мог легко вырваться вперед, но вместо этого скакал одним из последних: надо было прикрыть этих двоих, уходивших от преследования на одном коне, который может быстро устать.
Взик! Рядом пропела еще одна стрела, но откуда ей было взяться? Скала со стрелками была уже далеко. Лыкин обернулся и не поверил своим глазам – лава башкир уже выкатилась из-за скалы и несколько воинов стреляли из луков на полном скаку. Ему и раньше приходилось слышать истории про степняков, способных бить из луков на скаку, но ротмистр считал эти росказни явным преувеличением.
Драгуны имели возможность стрелять во время конного боя из пистолетов. Но пистоли были дороги, и их могли себе позволить только офицеры и унтер-офицеры. К тому же прицельно выстрелить из пистолета можно только на расстоянии в несколько сажен, а после этого, чтобы перезарядить оружие, нужно остановиться, а еще лучше – слезть с седла. Поэтому пистолет в атаке являлся одноразовым оружием.
Очередная пропевшая стрела вонзилась между лопаток скачущего чуть впереди драгуна Норкина. Взмахнув руками, он повалился с седла. Норкин был опытным воякой и во время турецкой кампании нередко вызывался охотником для опасных вылазок. У Лыкина засосало где-то под сердцем, тяжело было вот так терять людей, не имея возможности дать отпор. Ротмистр оглянулся и увидел, как молодой башкирский воин, вырвавшись вперед, настигал скачущих на одной лошади драгун.
Ну уж нет! Терпеть такую дерзость ротмистр больше не мог. Он достал из левой кобуры пистоль и начал взводить курок. Курок шел тяжело, и, чтобы он не так сильно впивался в руку, Лыкин надевал перед боем на большой палец широкое серебряное кольцо. Сейчас это кольцо позволило выиграть одно-два мгновения, так необходимых в быстром конном бою.
Когда молодой башкирин уже начал поднимать саблю, чтобы рубануть заднего драгуна, офицер поднял пистолет до уровня груди и нажал спуск. Пистоль громыхнул и сильно дернулся вверх, вместе с этим башкирин кувыркнулся с седла и теперь волочился за конем, зацепившись ногой за стремя. Ротмистру сейчас было все равно, убил он этого бунтовщика или только сильно ранил. Главное, что он выиграл несколько мгновений для своего отряда.
Дорога сделала поворот, и Лыкин увидел тот самый перекресток с уходящей в сторону Катав-Ивановского завода дорогой. Но самое неожиданное из увиденного был несущийся им навстречу полуэскадрон. В преследовавшей их сейчас массе всадников было не меньше четырех сотен сабель, и самое разумное для полуэскадрона было отойти до основного отряда подполковника Михельсона и укрыться там за рогатками, прикрывшись огнем из ружей и пушек.
Вместо этого драгуны, повинуясь чувству товарищества, бросились на выручку своему передовому разъезду, и сейчас здесь, на этом перекрестке, им предстояло быть перемолотым несущейся во весь опор лавой.
Отряды стукнулись на самом перекрестке. Те из драгун, что имели пистолеты, успели выстрелить из них, повалив трех или четырех башкир. Дальше началась сабельная рубка, самое страшное в которой было вывалиться из седла и быть затоптанным своими и чужими конями.
Проскакав перекресток, ротмистр развернул коня и врезался в самую гущу боя. Для многих из башкир это была первая конная сшибка. Не имея достаточного опыта молодые воины пытались компенсировать его смелостью, стараясь как можно сильнее размахнуться и ударить противника саблей. Многие из драгун побывали на турецкой войне, некоторые участвовали в семилетней войне с войсками Фридриха, к тому же, драгунские кони были привычны к сшибкам и понимали команды своих седоков, подаваясь во время рубки то вправо, то влево.
Если бы количество конных с обоих сторон было одинаково, то драгуны вышли бы победителями, но башкир было намного больше, и на месте раненого или убитого быстро появлялся другой. Сражение раскололось на несколько отдельных очагов, и ротмистр с небольшой группкой человек в пять драгун был оттеснен на боковую дорогу, в то время как остатки полуэскадрона, теснимые все той же массой бунтующих башкир, начали отходить назад к отряду Михельсона.
Лыкин рубил и рубил, то вставая на стременах, то быстро опускаясь в седло. Добрая половина его ударов доходила до цели. Опытный офицер, он даже в кутерьме боя понимал, что его почти перемолотый полуэскадрон спешно отходит по основной дороге, в то время как он с еще тремя драгунами – Сытовым, Катунькиным и, кажется, Дупловым, бьется в стороне с группой из одиннадцати башкир, среди которых выделялся молодой батыр, одетый в дорогую кольчугу.
Ротмистр рубанул по незащищенной шее очередного неприятеля, тот, схватившись за рану, отъехал в сторону. Перед Лыкиным оказалось пустое пространство в несколько саженей. Воспользовавшись возникшей передышкой, офицер выхватил второй пистолет и, взведя курок, удачно выстрелил еще в одного воина. Одновременно с этим два конных башкирина обрушили свои сабли на бившегося с ними Дуплова, тот, захрипев, повалился на землю.
Ротмистр успел подумать, что выстоять им троим против девятерых было мало шансов, когда все услышали со стороны Сибирского тракта частые ружейные выстрелы, за которыми последовало два выстрела из пушек. Башкиры опасливо покосились в сторону канонады. Теперь оттуда, казалось, доносились громкие крики раненых.
Лыкин знал почти наверняка, что сейчас происходит в одной-двух верстах от них. Угадав по звукам боя, что на них катится большая конная масса, подполковник Михельсон приказал распрячь две пушки и приготовить рогатки. Солдаты по всей длине отряда приготовили свои ружья, и, когда к пушкам отступил заметно поредевший драгунский полуэскадрон, рогатки были выставлены вперед и передние стрелки открыли огонь из ружей. В это время все остальные не занятые боем солдаты начали передавать вперед заряженные ружья и принимать назад разряженные.
Таким образом, находившиеся впереди отряда стрелки могли вести почти непрерывную ружейную стрельбу по нахлынувшим башкирам, которые в горячке боя пытались рубить преграждавшие им путь рогатки. Когда всадников перед рогатками набралось очень много и они, казалось, вот-вот прорвутся, артиллеристы дали картечный залп.
Ударившая в упор картечь почти целиком скосила передние ряды атакующих, ободрало до костей людскую и конскую плоть и оставило без коры сосны вдоль дороги. Лава атакующих дрогнула и покатилась назад, продолжая нести потери от ружейного огня. Успевшие сделать перезарядку артиллеристы выстрелили вдогонку ядрами, одно из которых угодило в лес, срезало вековую лиственницу, но не причинило никакого вреда, а второе попало в самый центр отступавших, проделав там небольшую просеку.
Башкиры на боковой дороге угадали в Лыкине офицера. Тот, что был облачен в кольчугу, отдал команду, и в сторону драгун полетели два аркана. Первым арканом был выдернут из седла драгун Сытов, вторая петля прилетела на шею ротмистру и начала быстро затягиваться. Лыкин схватился за все туже натягивающуюся веревку, стало нечем дышать, в голове застучало: «Только не плен!» Ротмистр уже знал, что бунтовщики предлагают пленным офицерам на выбор или присягу воскресшему царю или виселицу. А принести присягу самозванцу он позволить себе не мог.
Когда петля аркана сдавила так, что ротмистр уже ничего не видел вокруг, то последний из оставшихся драгун Катунькин налетел на тянувшего аркан башкирина и рубанул его палашом. Падая, тот выпустил аркан. Лыкин наконец-то смог ослабить веревку и вздохнуть полной грудью. К офицеру начало возвращаться чувство реальности, хотя перед глазами еще стояли красные круги.
Ротмистр вдруг понял, что перед ним оказался воин в кольчуге, на левой щеке которого был заметен розовый шрам от недавнего сабельного удара. Башкирин привстал на стременах и замахнулся саблей. Их глаза встретились, и Лыкин узнал этот взгляд: глаза молодого башкирского воина были точь-в-точь как у Юлая Азналина десять лет назад. Вне всякого сомнения перед офицером был сын башкирского старшины – Салават Юлаев. Лыкин попробовал парировать удар, но тело после аркана слушалось плохо.
Салават рубанул офицера наискось: он узнал в нем того, кто много лет назад приезжал к его отцу, чтобы вести того под конвоем, и сейчас батыр ликовал, радуясь возможности расплаты за родовой позор. Салават нанес удар с оттягом, сабля противно лязгнула, значит, перерублены или задеты ребра, из раны сразу брызнула кровь. Салават хотел нанести добивающий удар, но в это время последний из оставшихся драгун схватил коня офицера за повод и, сильно дернув, поскакал с ним вдоль дороги.
Надо было преследовать этих двоих и добить офицера, но сзади на большой дороге шел бой, и, судя по звукам, сородичам Салавата там приходилось туго, поэтому Юлаев решил не преследовать своих противников, а возвращаться назад. Перекинув через круп лошади связанного полузадушенного драгуна, воины поехали назад.
Глава 6. 1995-й
Перед входом в музей Света остановилась, ей снова стало не по себе. Здание особняка теперь казалось небезопасным. Переборов страх, девушка вошла внутрь и тут же увидела Саню, слонявшегося по вестибюлю безо всякого дела.
– Света! – парень явно обрадовался ей. – С тобой все в порядке?
– Здравствуй, Саша! Ну, так… могло бы быть и лучше… Хотя, как знать, не приди ты вовремя на помощь, могло быть и гораздо хуже…
– Света, я ведь даже и не знал, что ты здесь работаешь! Мы сюда приехали, чтобы здание этому бизнесмену из Свердловска показать. Николай Петрович велел нам с Олегом ждать на улице, а когда тут шум начался, я в окна глянул, и мне показалось, что тебя увидел! Внутрь забежал, а тут нет никого, потом слышу – из угловой двери какой-то шум, забегаю туда, а там этот придурок, парашютист отмороженный, к тебе пристает!
– Почему парашютист? – не поняла девушка.
– Да потому что он придурок! – Саня чуть не сплюнул, не замечая того, что его объяснение зациклилось. – Он же на «малолетке» сидел…
– Малолетке? – опять не поняла Света.
– Ну, зона такая для несовершеннолетних! Они тогда с пацанами попытались двадцать пятый магазин обокрасть, но перепились там все и уснули.
– Ааа, это он там был?
– Их там человек шесть было, ну и он в том числе, – подтвердил Саня.
Света вспомнила ту историю, о которой пять лет назад говорил весь город. В стране полным ходом шла перестройка. С экранов телевизоров генсек Михаил Горбачев вещал о демократии и гласности, и его слова эхом отражались от пустых прилавков магазинов. Многие товары можно было приобрести только при наличии специальных талонов, которые в начале каждого месяца разносили по квартирам старшие по дому. Однако наличие талона еще не гарантировало приобретение масла, мяса, сахара, муки или сигарет. Нужный товар еще нужно было подкараулить в магазине и отстоять за ним длинную очередь. Когда товар за прилавком иссякал, все, кому не досталось, начинали почем зря костерить советскую торговлю, продавцов и Мишку Меченого, как за родимое пятно на голове прозвали в народе Горбачева.
Под Новый год по Катаву пронесся невероятный слух – в один из центральных универмагов города, в двадцать пятый магазин на улице Ленина, завезли новогодние продукты: шампанское, мандарины и шоколад. За дефицитными товарами с самого утра выстроилась длинная очередь. Чтобы увеличить число осчастливленных семей, в одни руки отпускали не больше одной бутылки шампанского, две плитки шоколада и не больше двух килограммов мандаринов. Удивительно, что к концу первого дня в магазине оставалась нераспроданной примерно половина из столь желанных атрибутов новогоднего стола, и все, кто не успел приобрести шампанское или мандарины, планировали сделать это на следующей день.
Ночью двадцать пятый магазин был взломан: через подсобное помещение, не оборудованное сигнализацией, в него проникла компания пацанов. Они сумели вскрыть и обчистить магазинную кассу со всей дневной выручкой, после чего добрались до ящиков с шампанским, шоколадом и мандаринами. Будь в этой компании кто-нибудь поумнее, они бы унесли с собой столько, сколько бы смогли. Но поумнее никого не нашлось, и взломщики тут же принялись отмечать удачное дело шампанским, заедая его шоколадом.
Пришедшие утром продавцы обнаружили всю банду спящими на полу среди шоколадной фольги, мандариновых кожурок и пустых бутылок советского шампанского. Милиция взяла всех тепленькими. Дело получилось резонансным, и прокурор на суде потребовал реальных сроков. Самому старшему в момент совершения преступления было семнадцать, но пока шло следствие, ему успело стукнуть восемнадцать, и, как достигший совершеннолетия, он был отправлен на взрослую зону. Двоим из взломщиков не было четырнадцати, и под уголовное наказание они не попали, отделавшись постановкой на учет в детской комнате милиции. Троих, включая Соплю, отправили на два года в колонию для малолетних преступников.
– На «малолетке», по слухам, порядки хуже, чем на взрослой зоне, – продолжил Саня. – Там много странного. Если, например, кто-нибудь присел на толчок, и в это время над зоной пролетел самолет, то ему нельзя слезать, пока не пролетит второй, иначе он становится парашютистом и должен начинать прыгать с нар, как только над зоной пролетает любой самолет.
– Дикость какая, – Света даже невольно усмехнулась – настолько нелепым поначалу показался Санин рассказ, но она тут же вспомнила, как им на лекции профессор Ткачев однажды объяснял магическое мышление средневекового человека, после чего сказал, что такой образ мысли полностью не ушел и до сих пор встречается во многих субкультурах, помнится, он тогда для примера приводил обитателей зон и лагерей.
– Я же говорю, придурок! Я попробовал ему мозги немножко вправить, но не факт, что это помогло! По-моему, Николай Петрович в ахтунге был от его поведения!
– Не знаю… – с сомнением проговорила девушка. – По-моему, Сопля напал на меня по приказу Гнедых.
– Да ну, вряд ли! Николай Петрович залетел в подвал, когда я учил этого придурка хорошим манерам. Он сначала наорал на меня, чтобы я прекратил бить этого умалишенного. Я остановился и рассказал, что Сопля загнал тебя в подвал, тогда он наорал на него, а потом спросил меня, куда ты делась. А я во всей этой суматохе не заметил, как ты мимо нас проскочила!
– А я мимо вас и не проскакивала! Я в церковь по подземному ходу перебежала!
– По подземному ходу? – не поверил парень.
– Этот особняк строили вместе с храмом и тогда же заложили подземный ход между ними.
– Так ты поэтому в подвал побежала, чтобы через подземный ход уйти?
– Нет, так случайно получилось, я хотела в кабинет директора попасть, чтобы милицию вызвать, но замок заело, и я побежала в подвал, а там случайно на дверь в подземный ход наткнулась. Мне очень повезло, что ты на выручку прибежал. Спасибо тебе огромное, Саня! – Света обняла парня, из ее глаз потекли слезы. – Если бы не ты и отец Михаил… Не знаю, что со мною было бы…
Саня стоял слегка растерянный и легонько поглаживал девушку по спине. Вдруг он весело засмеялся.
– А мы только на улицу вышли, и тут к нам из церкви идет этот священник, ну как его… отец Михаил! И как давай Николая Петровича отчитывать за то, что мы тебя напугали! Даже Иосиф Маркович покраснел! Мне Николай Петрович велел остаться, чтобы перед тобой извиниться и помочь порядок навести. Просил, чтобы ты милицию не вызывала, и обещал, что он этого придурка сам накажет.
– Не очень-то я ему верю после всего случившегося! – Света с сомнением покачала головой. – Это он, скорее, перед отцом Михаилом да перед Иосифом Марковичем себя выгораживал! Ну пойдем посмотрим, что там в подвале творится!
Они спустились в подвал и попробовали поаккуратнее расставить все железки и старую мебель, на которую Саня уронил Соплю. Заодно девушка показала дверь, за которой открывался узкий ход в храм. Увидев этот ход снова, Света поежилась:
– Все, пойдем отсюда! Не могу больше здесь находиться!
Расставив вещи в подвале, они вернулись наверх и прошли в кабинет со Светиным столом. Саня уже успел поднять уроненный Соплей телефон, его вилка была воткнута в розетку, но сам аппарат стоял не совсем так, как утром. Поправив его, Света подняла трубку и проверила работу. Трубка отозвалась непрерывным монотонным гудением. Все в порядке, аппарат не пострадал. Тут Светин взгляд упал на лежащие на столе бутерброды, и девушка вспомнила, что ей сегодня так и не удалось пообедать.
– Птицын, ты чай будешь?
– Какой же дурак станет отказываться от чая! Да вдобавок если его предлагает симпатичная девушка, да еще и одноклассница, да еще и сотрудница музея! Свет, ты же сотрудница музея?
– Ага, на преддипломной практике здесь!
– А с Николаем Петровичем у тебя что за дела?
– Нет у меня с ним никаких дел! – Света повернулась спиной, ставя электрочайник.
– Ну ты к нему на завод на прошлой неделе приходила…
– Подставил он меня, да и не только меня… – Света повернулась лицом и скрестила руки на груди. – Мы с ним общаться стали пару недель назад… Ну так, гуляли по вечерам вместе… А здесь в музее ремонт нужен, Гнедых вроде помогать начал, специалиста этого привез, Иосифа Марковича. Его фирма помогла смету составить, только там цена получилась, как за космический корабль, и директору музея в управлении культурой сказали, что таких денег у города нет и вряд ли в ближайшее время они появятся. Тут мне Гнедых и говорит, что надо создать общественный резонанс и написать письмо в газету – у него там есть нужные связи, помогут опубликовать. Ну я, дура, и написала!
– Почему дура? Вроде, все логично!
– Логично-то, может быть, и логично, только в «Челябинском пульсе» не такая статья появилась, которую я ожидала. У меня тут, кстати, есть номер, – Света нашла газету со злополучной статьей и, развернув ее на нужной странице, передала парню. – Вот, прочитай, если хочешь!
Пока Саня изучал статью, она разлила по кружкам кипяток и добавила в каждую по небольшой щепотке заварки.
– Так Николай Петрович хочет, чтобы это здание к нему перешло?! – видимо, Саня дошел до конца статьи.
– Вот-вот! – подтвердила девушка. – И Иосиф Маркович сегодня приходил для того, чтобы понять, можно ли на второй этаж джакузи установить!
– Какой еще джакузи?
– Ванная такая большая с пузырьками. Очень модная сейчас. Галина Евгеньевна, директор музея, с давлением лежит после этой статьи, и я тут одна была и не захотела их пускать. Они все равно пошли, и я решила вызвать милицию, вот Гнедых на меня Соплю и натравил!
– Блин, а ведь в подвале, когда Николай Петрович на нас кричать стал, этот придурок начал лепетать, мол, вы же сами сказали, а Николай Петрович на него еще больше наорал!
– Саш, а как ты к нему в охранники попал?
– Да само как-то получилось… Я как осенью дембельнулся, погулял пару недель и пошел на литейный устраиваться. Хотел слесарем-электриком, но в отделе кадров как узнали, что я только что из армии, предложили в охрану завода пойти, ее как раз набирали. Ну я и согласился. Под Новый год первую зарплату получил, – Саня откусил кусок от бутерброда и запил его чаем. – А несколько недель назад меня к себе вызывает Сергеич, начальник охраны. Смотрю, у него на столе папка с моим личным делом лежит. Он меня начал расспрашивать, занимался ли я каким-нибудь спортом и где служил. Много вопросов задавал о том, приходилось ли в армии пользоваться оружием и в какие ситуации я в Таджикистане попадал. У нас в охране он так несколько человек вызывал, всех, кто в каких-нибудь переделках побывал: Ванька Сомова, он после Абхазии, и Тимура Хатонова после Приднестровья. В начале прошлой недели снова меня вызвал и сказал, что есть предложение перейти мне в личную охрану Николая Петровича. Я возражать не стал, и меня прикрепили к Олегу. Хотя, может быть, после сегодняшнего еще и открепят… Лишь бы совсем не уволили, разрешили назад в охрану или лучше в слесари-электрики!
– Не нравится тебе в охране?
– Да как сказать… Странно как-то… Ведь раньше завод работал без всякой охраны. Сидели бабки на проходной и пропуска проверяли, и порядок был! Бывало, конечно, что народ тащил с работы что ни попадя, так ведь на то и завод, даже поговорка такая была: «Неси с завода каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость!» Главное, что завод от этого беднее не становился! А теперь нас в охране работает больше двадцати человек, по периметру камеры для наблюдения устанавливают, в караулке девять телевизоров в три ряда стоит, чтобы весь периметр просматривать. А рабочие при этом жалуются, что оборудование никто обновлять не собирается!
– А с Олегом тебе как работается? Он, похоже, не из разговорчивых?
– Да, болтать он не любит, говорит, только если что-то по делу нужно. Но мужик настоящий! Он у Николая Петровича уже два года водителем работает и охранником. У Гнедых дача на Северном есть, так Олег еще и за ней успевает присматривать. Там собака дом охранять помогает, здоровенная такая кавказкая овчарка, Юлаем зовут. Олег этого Юлая со щенячего возраста воспитывает, и тот слушается его беспрекословно. Позавчера мы туда поехали, так Юлай меня чуть не съел, но Олег его моментально остановил… А коттеджик там хороший, двухэтажный, шеф там иногда переговоры устраивает с гостями.
Света вспомнила, как она вместе с компанией одноклассников после окончания девятого класса ездила отдыхать на дачу к Димке Кабанову. Дача представляла собой небольшой сколоченный из строительных щитов домик, расположенный в дачном поселке Северный всего в нескольких километрах от города.
Чтобы как-то решить продовольственную проблему и разнообразить жизнь людей, советское правительство во времена Хрущева распорядилось наделять желающих городских жителей небольшими земельными участками, на которых разрешалось выращивать овощи, ягоды и фрукты. Чтобы исключить возможность коммерческого использования выделяемых участков и не допустить их перерастание в фермерские хозяйства, всячески подчеркивалось, что собираемые плоды можно использовать только в личных целях, размер участка не должен превышать шести соток, и на выделенной земле запрещалось строительство каких-либо капитальных сооружений.
Катав-Ивановск стоял среди гор, и окружающие его земли никак нельзя было назвать урожайными: чтобы к концу лета снять урожай некрупных яблок и груш требовалось проявить большое искусство, а вызревание мелкой вишни казалось почти волшебством. Однако, чтобы перестраховаться, власти Катав-Ивановска нарезали участки таким образом, что их площадь не превышала пять соток. На этих клочках земли люди стали возводить небольшие дощатые домики и сарайчики, кое-кто решился на то, чтобы строить домик из кирпича или шлакоблока. Воспетое Чеховым слово «дача» в городе не прижилось, вместо него горожане стали называть свои наделы садами-огородами.
В тот июльский вечер Димка Кабанов устроил для одноклассников экскурсию по окрестностям своего садово-огородного домика, и все с любопытством изучали шедевры современного советского зодчества. Помнится, Димка с особой гордостью показывал двухэтажный кирпичный домик, принадлежавший семье секретаря горисполкома Петра Андреевича Гнедых. С Димкиных слов, секретарь любил приезжать сюда на выходные на черной райисполкомовской «Волге» с водителем.
Вспомнив все это, Света усмехнулась – ведь со слов Николая примерно в те же годы, пока его папа с товарищами воплощал идеи советской власти в маленьком Катаве, его сын с друзьями, обучаясь на юридическом факультете, барыжил винилом и джинсами в большом Свердловске.
Эх, все-таки распад Советского Союза не был случайным процессом! Совершившие Революцию большевики были людьми стальной воли, которые смогли воспитать верящих в идеалы отцов детей. Да только это поколение было выкошено страшным серпом гитлеровских пулеметов и закатано в землю катками чехословацких танков со свастикой на броне. В детях фронтовиков еще горел огонь их дедов, но они зачастую росли в семьях без отцов и не смогли передать всю полноту большевисткой идеи своим детям. Внуки фронтовиков Великой Отечественной и правнуки героев гражданской войны уже не понимали, зачем сражаться с идеями капитализма. Более того, они сами захотели стать капиталистами…
В вестибюле хлопнула входная дверь, и Света вышла посмотреть, кто это пришел. Она почти не удивилась, увидев отца Михаила.
– Ну как ты тут? – улыбнулся священник. – Дай, думаю, посмотрю, что тут у вас происходит! Не ушел твой охранник?
– Нет, мы чай сидим пьем! Пойдемте с нами! – отозвалась девушка.
При виде отца Михаила Саня поднялся и стал спешно собираться:
– Я, пожалуй, пойду, мне еще в охрану заглянуть надо.
– Оставайся, еще чайку попьем! – стала отговаривать его Света.
– Посидел бы еще, стульев на всех хватит! – поддержал девушку священник.
– Нет, мне действительно пора! Свет, я на днях загляну! – Саня вышел из музея и быстро прошел мимо окон.
– Похоже, я спугнул вашего кавалера. Извините, если не вовремя, но мне действительно захотелось убедиться, что у вас все в порядке.
– Ну что вы! Я вам так благодарна за сегодняшнее! Так я чай вам наливаю?
– Наливай, только без сахара!
Света поставила перед ним кружку с чаем, отец Михаил сделал несколько больших глотков и спросил:
– Так значит ты диплом пишешь? Интересно, на какую же тему?
– Про восстание Емельяна Пугачева в наших краях.
– Вот как! – настоятель посмотрел в окно, из которого открывался вид на его храм и в задумчивости проговорил. – Как же все совпало… Очень интересно!
– Интересно, но только материала очень мало! Мне надо прям про наш завод, а в музее про это почти ничего нет!
– Да, в музее совсем нет документов тех лет…
Света вспомнила, как директор говорила о том, что местный священник что-то искал в архиве.
– Отец Михаил, Галина Евгеньевна говорила, что вы иногда приходите в музей поработать с документами. Если не секрет, что вы ищете?
– Конечно, не секрет, я собираю все возможные материалы по нашему храму: старые описания, рисунки и фотографии. Мечтал в музее отыскать строительные чертежи, да видно не судьба!
– А зачем вам строительные чертежи? Не для того же, чтобы второй подземный ход найти?
– Нет, конечно! – на лице настоятеля появилась грустная улыбка. – Хотя подземные ходы сооружения, без сомнения, интересные и через них в церковь иногда приходят интересные люди, но у нашего храма не хватает куда более важной части…
– Колоколен! – догадалась девушка. – Вы хотите восстановить снесенные колокольни!
– Да, если на то будет Божья воля, я хотел бы, чтобы у храма Иоанна Предтечи вновь появились колокольни! Света? А, вы знаете историю Иоанна Предтечи?
– Не совсем… – замялась Света. – Он вроде бы был одним из апостолов и потом написал «Евангелие от Иоанна».
– Ну вот, выпускница исторического факультета не может ответить на вопрос, на который раньше с легкостью давал ответ любой гимназист! Вот к чему привели годы безбожия… – отец Михаил покачал головой и тяжело вздохнул, после чего продолжил. – «Евангелие от Иоанна» написал Иоанн Богослов, тот самый, что написал «Апокалипсис». Иоанн Богослов действительно был одним из двенадцати апостолов, но не надо его путать с Иоанном Предтечей, которого сам Христос называл самым первым среди рожденных меж людьми. Иоанн Предтеча, или , как его еще называли, Иоанн Креститель, приходился Христу троюродным братом и был на полгода старше. Он начал проповедовать раньше Иисуса и в своих проповедях готовил людей к встрече с мессией, при этом он крестил людей, окуная их в воду. Когда Христу исполнилось восемнадцать лет, он тоже принял крещение от Иоанна в водах реки Иордан. Для всех других обряд крещения означал смывание всех грехов, но Иисус был безгрешным, и крещение для него означало уравнивание со всеми людьми и готовность принять на себя их грехи…
Священник сделал шумный глоток чая, девушка слушала его с большим интересом. Она много раз замечала за собой, что для понимания того или иного контекста исторического события ей не хватало знания православной религии и истории церкви, поэтому сейчас рассказ отца Михаила воспринимался девушкой как интересная лекция профессора.
– …Проповеди Иоанна Крестителя стали очень популярными, сам Иоанн был суровым аскетом и однажды не побоялся публично осудить правителя Галилеи Ирода за то, что он женился на жене брата Иродиаде. По настоянию царицы Иоанн Креститель был брошен в тюрьму. У него было много учеников и поклонников, и царь, боясь возмущения людей, мог еще его и освободить. Но на праздничном пиру в честь дня рождения самого царя Ирода перед гостями станцевала его племянница и дочь Иродиады юная Соломея. Танец так понравился гостям, что царь велел ей просить, чего она пожелает…
Света вдруг вспомнила, что в какой-то книге она читала про эту историю.
– И она попросила голову Иоанна?
– Да, – подтвердил отец Михаил. – Наученная своей матерью, в качестве награды она попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя! Царь перед гостями не мог отказаться от данного слова, и Иоанну Предтечи отсекли голову и принесли на серебрянном блюде прямо на праздничный пир. Так Иоанн Креститель стал великомученником…
В комнате повисло молчание, Света представила себе пир, на который кто-нибудь из охраны вносит блюдо с теплой еще головой посередине. Девушка упрямо тряхнула волосами.
– Один из наших профессоров учил нас, что Библия с исторической точки зрения является очень ненадежным источником. Хронология многих событий нарушена, часть из них вообще подлежит сомнению и пересмотру…
– История про казнь Иоанна Крестителя рассказывается не только в Евангелиях, она также описывается у иудейского историка Иосифа Флавия, – отец Михаил говорил ровным голосом, видимо, ему не раз и не два приходилось вести подобные диспуты, причем он был готов к тому, что аргументы не убедят его собеседника. – Но дело не в том, насколько история Иоанна Предтечи научно доказана, а в том, что Священное писание пытается донести до нас и как эта история влияет на нашу жизнь.
– И как же она на нас влияет?
– На каждого по-своему. Если человек ищет в Писании глубокий смысл, то он его находит, и это помогает ему лучше понять себя и других. Но если человек смотрит на все со скепсисом, то быстро находит подтверждение своим сомнениям. Однако это редко помогает ему в жизни, потому что отрицание не дает никаких ответов на вопрос, откуда берется духовность, сострадание и совесть. Вот и прячутся атеисты за стену железной логики, боясь признаться самим себе, что у них нет ответов на самые главные вопросы.
– Ну хорошо, а чему нас может научить история Иоанна Крестителя?
– Очень многому. Достаточно посмотреть на историю нашего храма. Когда два основателя нашего города Иван Твердышев и Иван Мясников начали строить Катав-Ивановский завод, то одновременно с этим они распорядились рубить деревянную церковь, которая была освящена в честь главного из Иванов – Иоанна Предтечи! Через семь десятилетий на месте деревянной церкви был выстроен двухэтажный каменный храм с двумя колокольнями. В 1824 году новый храм был освящен, первый этаж – в честь Иоана Предтечи, второй этаж – в честь Казанской Божьей Матери. В таком виде здание прослужило верующим до Революции. В конце двадцатых годов по всей стране началась борьба с православной церковью. Тогда были снесены очень многие храмы. Беда не обошла и наш город, и у катавского храма были снесены колокольни.
– Но при чем же здесь сам Иоанн Креститель? Ведь между ним, если он вообще когда-то жил, и Революцией в России прошло почти девятнадцать веков!
– Связь можно увидеть, надо только внимательно посмотреть… – отец Михаил сделал очередной глоток чая. – Когда Креститель уже сидел в тюрьме, то к нему пустили его учеников, которые стали жаловаться ему, что по окрестным землям ходит Иисус со своими учениками и тоже крестит людей. Последователи Иоанна засомневались, тот ли это мессия, о котором возвещал их учитель. Чтобы развеять их сомнения, Иоанн отправил их спросить об этом Христа лично, а через несколько дней Иоанну отрубили голову. Получается, что ученики пошатнулись в своей вере и, не случись этого, быть может, их учитель остался бы жив. После казни Иоанна мстительная Иродиада закопала его голову в укромном месте, но через три столетия голову великомученника удалось обнаружить. После этого святыню еще дважды теряли и дважды находили, поэтому среди церковных праздников трижды отмечается Обретение головы.
Отец Михаил вновь не торопясь сделал несколько глотков чая, после чего продолжил:
– Света, мне порой кажется, что наш храм, а с ним и вся Русская православная церковь повторили судьбу святого, в честь которого храм был освящен. Как когда-то по приказу Ирода Антипы была отсечена голова Иоанна Крестителя, так и у нашего храма снесли колокольни, словно бы отсекли ему головы! И случилось это в то время, когда вся страна отвернулась от христовой веры! Но я искренне надеюсь, что рано или поздно мы увидим чудо Обретения головы: к людям вернется вера, а у нашего храма вырастут две белых звонницы!
– Может, это все и так, только уж аналогия у вас получается очень приблизительной!
– А я уже говорил тебе: чтобы что-то увидеть, надо сначала этого захотеть и открыть Богу душу! Конечно, было бы проще, если бы в священных книгах было бы написано все для каждого человека без иносказаний, только книги бы получились очень уж длинными, да и людям не осталось бы никакой работы над собой – садись да читай! Ладно, думаю и ты неслучайно сегодня из самой тьмы подземной в храм спасаться пришла! Говоришь, нет у тебя материалов для дипломной работы? Заходи завтра после обеда, думаю, смогу помочь твоей проблеме.
Сказав это, отец Михаил поднялся из-за стола и стал прощаться. Свету немного озадачили слова настоятеля о возможной помощи по дипломной работе, но день сегодня получился таким перенасыщенным, что она уже не могла ни на чем сосредоточиться. Проводив священника, она наскоро прибрала со стола, щелкнула тумблерами на пульте сигнализации и, заперев здание, направилась домой.
Глава 7. 1774-й
Катунькин и Лыкин быстро скакали по малонаезженной дороге. Где-то сзади еще слышалась ружейная пальба – отряд подполковника Михельсона давал последние выстрелы.
Мундир ротмистра пропитался кровью и лип к телу, с каждым новым толчком ног коня Лыкин чувствовал, как у него уходят силы, голова начала кружиться, к горлу подступила тошнота. Офицер стал заваливаться в седле, и Катунькин поехал рядом, поддерживая его.
– Катунькин, мне бы передохнуть! – попросил Лыкин.
– Сейчас, вашбродь, нам надо от башкир оторваться!
Версты через две, убедившись, что за ними нет погони, они съехали с дороги в лесок. Сняв куртку с офицера, драгун перевязал его большим платком. Крови было много, нужно было как можно быстрее вернуться в отряд, где ехал лекарь.
Лыкин сидел у сосны, облокотившись на дерево спиной, лицо ротмистра было бледное после перевязки, он попросил пить. После того как драгун дал ему напиться, ротмистр спросил:
– Катунькин, тебя как зовут?
– Ефимом матка с батькой прозвали, – ответил драгун, он знал, что их эскадронный командир помнит всех по фамилиям, зная имена только наиболее отличившихся.
– Спасибо тебе, Ефим! Ты меня от верной смерти спас! – Лыкин стянул с руки дорогой перстень с камнем, при этом его лицо сильно дернулось, видимо, он потревожил рану.
Ротмистр протянул перстень Катунькину:
– Возьми покуда, а будем живы, в вахмистры тебя представлю!
– Ни к чему это, вашбродь, – попытался отказаться Ефим, – я ж видел, как вы за наших вступались, когда под Силантьевым коня убило!
– Я дворянин и офицер, мне и нельзя иначе!
– А мы что же, по-вашему, без понятия? Я уж четырнадцать лет, как солдатскую лямку тяну, и с немцами воевал, и с турками. Разных офицеров видел, не каждый за солдатом в пекло полезет. А вы полезли!
– Все равно возьми, Ефим! – настаивал ротмистр. – Случись что, память про меня будет!
– Ничего с вами, вашбродь, не случится! Сейчас передохнем и к своим пробиваться будем!
– Чего в бою приметить успел? Кто из наших погиб?
– Из наших-то? – задумался Ефим. – Ну тут в конце Дуплова зарубили и Сытова на аркане уволокли, ну этих вы и сами видели…
– Как Сытова утащили я не видел… – ответил ротмистр.
– А, ну да, его одновременно с вами… Норкина стрелой достали, это когда мы от скалы скакали!
Лыкин кивнул.
– Во время рубки на перекрестке с коня кого-то сбили, Березова, вроде, и Андрейке Копнову, земляку моему, руку сильно разрубили. А больше я ничего не приметил, уж больно быстро все кружилось!
Ротмистр опять кивнул. Еще утром его эскадрон насчитывал сто двадцать четыре драгуна, из которых шестьдесят три было в полуэскадроне, попавшим под удар. Сколько их уцелело и сколько могло бы уцелеть, не попытайся они под его командованием захватить «языков»?
– Худо вам, вашбродь? – участливо спросил драгун.
– На сердце тоска… Потеряли многих! – ответил Лыкин
– Да, упокой, Господи, их грешные души! – Ефим снял треуголку и перекрестился. – Я поеду разведаю, нет ли нам назад дороги.
– Езжай! Только вот что, у меня в кобурах два пистолета, ты их перезаряди и один мне оставь, а один себе возьми.
Ефим перезарядил пистолеты, ослабил подпругу Булата и, стреножив, пустил его щипать траву. Потом нарубил палашом лапника и, поудобнее пристроив ротмистра и отдав один из пистолетов, поехал на разведку.
Вернулся он часа через два, когда солнце уже уходило за вершины сосен. Офицер лежал в полубеспамятстве, на его лице выступили крупные капли пота. Увидев Катунькина, Лыкин зашевелился:
– Ну что там? Нашел наших?
– Не нашел, далеко ушли. Дальше по Сибирскому тракту слышно пушки гремят. Я было думал, что мы сможем назад на Симский завод прорваться, но там башкирские верховые рыщут: по дороге много ихних побито, и теперь родичи своих отыскивают среди павших. Разворошили мы осиное гнездо! Видимо, ночь тута ночевать надо!
Холодную майскую ночь провели без костра. Ефим побоялся, что огонь будет видно с дороги или окрестных гор. Наутро офицеру стало хуже, у него начался жар, Лыкину мнилось, что он снова в гуще боя, и он пытался выкрикивать какие-то команды. О том, чтобы догнать отряд с раненым, не было и речи, и Ефим решил попробовать оставить его в какой-нибудь дальней деревеньке. С большим трудом усадив ротмистра на коня и привязав его там, он уже хотел было выехать из леса, но заприметил на дороге двух казаков. Один из них вел хромающую на заднюю ногу лошадь.
Боясь попасться башкирам или казакам, Ефим весь день вел свою лошадь и Булата с привязанным к седлу раненым по кустам вдоль дороги. К вечеру он увидел деревню.
Оставив лошадей и ротмистра на опушке, он сходил в деревню и попытался узнать, что там за люди и не согласятся ли они взять к себе раненого. Человек, с которым Ефиму удалось поговорить, рассказал, что почти все мужики в деревне ушли с бунтовщиками. Взять на несколько дней раненого мужик наотрез отказался, но посоветовал Ефиму идти дальше, потому как в следующей деревне живет некая Лукериха, которая и мертвого способна на ноги поставить.
Драгун вел лошадей с Лыкиным все ночь и часть утра. Офицер уже не приходил в сознание, жар усилился, и Ефим боялся не довезти раненого. Наконец они добрели до деревни, и когда Ефим отправился разузнать что-нибудь о знахарке, то наткнулся в лесу на ее внука.
– Ой, плохи дела, касатик! – Лукериха закачала головой. – Это Антонов огонь! Ванятка, разжигай печь и ставь полный котелок воды. А ты, служивый, точи свой нож, мне твоя помощь понадобится рану чистить!
Через час, когда был готов чугунок крутого кипятка и наточен нож, Лукериха с Ефимом принялись чистить рану. Старуха кинула в чугунок пучок какой-то травы, отчего в избе запахло пряным сеном. Знахарка окунала в чугунок тряпицу и начинала протирать рану, после чего показывала драгуну на куски гнилой плоти и говорила:
– Срезай! Мало берешь, с запасом срезай, чтоб гнили не оставить!
Ефим морщился – такая работа была для него впервой – и острым сапожным ножом отсекал очередной кусок плоти ротмистра и бросал в специально приготовленную посудину. Офицер временами глухо постанывал, находясь, однако, в беспамятстве. Время от времени после сделанных срезов из раны начинала струиться кровь, тогда Лукериха поджимала края раны и нашептывала:
– Красная руда, как чистая вода,
Бег свой поуйми, рану затвори!
Кровотечение быстро останавливалось, и они продолжали дальше чистить рану. Когда рана была очищена, старуха, взяв у Ефима посудину и подойдя к печи, бросила все содержимое в огонь, пробормотав при этом:
– Плоть гнилую поглоти,
Тленье в пепел обрати,
Плоть живая пусть растет,
Огнь Антонов прочь уйдет!
Очаг зашипел и задымил, пережигая все то, что в него попало. По избе пополз нехороший запах жженого человеческого мяса. Лукериха взяла с печи пучок сохнувшей там травки и бросила его в огонь, отчего неприятный запах быстро пропал.
От печки знахарка отошла в угол и принялась вынимать из мешочков и смешивать в плошке какие-то травы, после чего добавила в смесь золы из очага, подошла к углу и смахнула оттуда паутину, достала что-то напоминавшее глину и в довершении добавила воды. Она долго мешала получившуюся кашицу, что-то при этом бормоча себе под нос.
Наконец Лукериха вернулась к раненому и, склонившись над ним, начала втирать кашицу в рану, приговаривая:
– В кузнице злой простучал молоток,
Выковал сабли ордынской клинок,
Этот клинок себе на беду
Ты повстречал в опасном бою.
Но в чаще, где Леший деревья пасет,
Травка растет, что от боли спасет.
Я эту травку на рану кладу,
Словом я гной у тебя отведу.
Рана наутро станет чиста,
Тверже железа эти слова!
Знают их ветер, огонь и вода!
Закончив замазывать рану, Лукериха перевязала Лыкина чистой тряпицей, после чего протерла водой лоб и лицо офицера.
– Отдыхай покуда, касатик! – проговорила Лукериха. – Может, и обманем мы твою смерть неминучую!..
Два дня ротмистр метался в жару, то выкрикивая какие-то невнятные команды и силясь вскочить, то впадая в полное беспамятство. Знахарка поила раненого холодным березовым соком, каждый раз приподнимая его голову левой рукой и бережно вливая живительную влагу правой. Лыкин жадно глотал и снова уносился в неведомые дали, где продолжал биться с сумрачными врагами.
Ефим в эти дни жил в сарае вместе с лошадьми и козой. Стараясь, чтобы его не заметили соседи, он вместе с Ваняткой как мог подправил небогатое хозяйство травницы: немного починил ей сени и подмазал глиной печку. По утрам он помогал Лукерихе перевязывать раненого, а потом в течение дня несколько раз подходил к офицеру.
Когда вечером второго дня Ефим с Ваняткой вошли в избу, то увидели, что бледное лицо Лыкина начало розоветь, он перестал метаться, и его дыхание выровнялось.
– Спит касатик! – радостным шепотом сообщила им знахарка. – Скоро должен в себя прийтий!
Утром офицер открыл глаза и впервые обвел небольшую избу Лукерихи осмысленным взглядом. Травницы в доме не было, она вышла подоить Зойку. Проснувшийся на лавке Ванятка подошел к командиру драгун.
– Где я? – спросил у него Лыкин слабым голосом.
– Вы у моей бабушки в деревне, – ответил мальчик.
– Что это за деревня? – взгляд офицера с трудом сфокусировался на лице Ванятки.
– Карауловка, она близ Катав-Ивановского завода стоит.
Лыкин напрягся и разом вспомнил засаду за скалой, летящую на его драгун лаву визжащих всадников, потом скоротечный бой на развилке и страшный сабельный удар молодого башкирина со шрамом на левой щеке.
– Как я здесь оказался? – вновь спросил он у мальчика.
– Вас дядька Ефим привез на коне.
– Ефим? Катунькин? – ротмистр вспомнил, как этот верный драгун вытащил его из боя и как потом перевязывал в каком-то подлеске. – Он здесь?
– Да, он в сарае ночевал, – ответил мальчик.
– А тебя как зовут?
– Ваняткой кличут…
В сенцах послышались шаги, и в избу вошла Лукериха, в руках у нее была крынка с молоком.
– Проснулся, касатик? – спросила знахарка. – Давай парного молочка поешь.
Пока она поила ротмистра, Ванятка сбегал в сарай, но ни Ефима, ни коней там не было. Выйдя из сарая, мальчик увидел, как драгун возвращается со стороны леса. Ефим был при палаше, за поясом у него был заткнут пистолет.
– Дядька Ефим! Барин очнулся, про вас спрашивает!
Драгун кивнул головой и пошел в дом, мальчик последовал за ним. Подойдя к постели ротмистра, драгун громко сказал:
– Здравия желаю, вашбродь!
– Катунькин, ты? – ротмистр открыл глаза. – Где наш отряд?
– По Сибирскому тракту дальше бунтовщиков погнали, не поспеть нам за ними было, вашбродь. Вы совсем плохой были, в первой деревне нас пустить побоялись, пришлось сюда ехать. Тут, слава Богу, Лукерья Трифоновна за вас взялась, ведь у вас Антонов огонь начинался. Мы третьего дня с вас ремней порезали столько, на добрую упряжь могло бы хватить…
– А кони где? Мой Булат? Целы? – спросил офицер.
– Целы, я их в лесок на выпас отвел. Овса у нас, жаль, мало с собой было. После такого боя их бы откормить не мешало! – посетовал Ефим.
– Ничего, – ответил Лыкин, – пусть пока на травке покормятся. Как только смогу в седло сесть, мы отряд нагоним.
С улицы донеслось конское ржание. Ефим взглянул в слюдяное оконце и отпрянул.
– Гостей нелегкая принесла! Двое конных башкир едут! Может, еще не к нам.
Но всадникам была нужна именно это изба. Подъехав, один из них тяжело слез с седла. Левая рука у него была на перевязи. Ефим вынул пистолет и взвел курок.
– Не вздумай тут смертоубийство зачинять! – строго сказала ему травница и вышла во двор.
Ефим продолжил осторожно изучать гостей через окно. Оба приехавших были при саблях, но один из них явно ранен, и драгун легко бы справился с ним, случись рукопашный бой. Значит, стрелять нужно в здорового. На вид ему было лет двадцать пять, голову украшала шапка из рыси, а за его широкими плечами висело добротное ружье тульской работы, взгляд у него был быстрым и острым, как у опытного охотника. Одним словом, этот молодой воин был очень опасным противником. Может, ему еще не довелось побывать в больших боях, зато наверняка в одиночку ходил на медведя.
А что, если пистолет даст осечку или сам драгун промахнется? Вдруг неподалеку есть еще бунтовщики, да и сам выстрел будет слышен в деревне. Что тогда делать с раненым ротмистром? Нет, самое разумное сейчас – это постараться пересидеть тихо, в надежде, что башкиры ничего о них не узнают.
Увидев Лукериху, раненый башкирин стянул с себя легкую куртку из заичьих шкурок.
– Ой, бабка! – заговорил он. – Помоги рану залечить, болит она шибко!
На предплечье батыра красовалась стреляная рана, по краям имеющая сине-фиолетовый отлив. Знахарка начала мять плечо пальцами, отчего воин сильно поморщился. Потом она два раза быстро согнула и разогнула больную руку башкирина.
– Ой, бабка! – взвыл он. – Болит шибко!
– И поделом тебе! – строго сказала травница. – Первым делом надо было пулю вытащить, а уж потом рану заживлять! Ты пошто в рану земли напихал? Землю можно только по осени класть, а сейчас в ней вся жизнь кипит! Рана загноить может! Ладно, кость у тебя цела, а мясо нарастет. Давай доставай землю, пока я за снадобьем схожу!
Травница вернулась в избу, еще раз шикнула на Ефима, чтобы тот сидел, как мышь. В доме она взяла деревянную ложку, зачерпнула в крынку воды и вынула откуда-то вязальный крючок.
Снова выйдя во двор, она приказала раненому сесть на землю и промыла рану водой. Потом, протянув ложку, проговорила:
– На-ка, зажми между зубов!
Когда тот сжал рукоятку ложки, Лукериха залезла крючком в рану и начала быстро выковыривать оттуда пулю. Раненый, сдерживаясь, чтобы не закричать, сжал ложку еще сильнее, его побледневшее лицо покрылось мелкими бисеринками пота. Наконец травница вытащила пулю из раны.
– Экий ты стойкий, даже сознания не потерял! – удивилась она. – На вот тебе на память, будешь внукам показывать да рассказывать, откуда у тебя отметина на плече!
Она снова вернулась в дом, приготовила снадобье и, выйдя с ним, сделала батыру перевязку.
Когда все было окончено, башкирин в рысьей шапке спросил у нее:
– Скажи, бабка, не привозили ли к тебе раненого русского офицера? Его наш Салават в бою саблей достал, но тот смог ускакать, и теперь должен быть где-то здесь, если, конечно, еще живой.
– Не знаю я никаких ваших офицеров! – отмахнулась травница, – А если бы что и знала, то ничего вам не сказала! Потому как для меня вы все едины, только зря губите друг друга!
– Так был у тебя офицер или нет? – башкирин пристально всматривался в знахарку.
– Говорю тебе, что ничего мне не ведомо! – рассердилась Лукериха. – Ступайте своей дорогой!
– Ладно, бабка! – здоровый башкирин быстро вскочил на своего коня. – Как будет мимо тебя дорога лежать, так мы тебе меда привезем!
Ефим в избе внимательно вслушивался в разговор, стараясь не пропустить ни слова. Ротмистр тоже замер, но ему из угла почти ничего не было слышно. Наконец раненый башкирин, еще очень бледный, вскарабкался на своего коня, и они медленно тронулись. Травница вернулась в дом:
– Насилу спровадила их, чертей некрещенных!
Ефим продолжал смотреть вослед башкирам. Проехав шагов двадцать, тот, что не был ранен, остановился и стал всматриваться куда-то в траву. В душе у драгуна все похолодело – башкиры остановились как раз напротив стежки, по которой он отводил коней в попас. Наконец башкирин что-то зычно крикнул, и его конь быстро поскакал в прежнем направлении, раненый товарищ последовал за ним.
Выждав несколько минут, Ефим выскочил из дома и, пригибаясь, добежал до того места, где останавливались всадники. Там он сразу увидел, что так заинтересовало башкир: в траве на отходившей в лес тропке лежало крупное яблоко свежего конского навоза, оставленное то ли его конем, то ли конем офицера.
Опрометью драгун вернулся в избу.
– Беда, вашбродь! – почти выкрикнул он. – Башкиры говна наших коней заприметили! Не иначе, как за подмогой поскакали!
Ротмистр одним рывком сел в постели, но голова у него тут же закружилась, и лицо стало бледным. С глухим стоном он снова повалился на постель.
– Куда ты?! – ахнула травница. – Тебе еще седмицу лежать надобно!
– Нет, Лукерья Трифоновна, – проговорил Ефим, – башкиры неделю ждать не будут, нам уходить поскорее надо! Нет ли у кого из соседей подводы?
– Как же, у Прохора Кривого кобылку в бунт свели, а телега осталась! – ответила знахарка.
Через полчаса Ефим и Ванятка спешно впрягали драгунского коня в телегу Кривого Прохора. Привыкшей к езде под седлом конь Ефима слегка сопротивлялся и норовил укусить Ванятку. Хозяин телеги стоял рядом и ошалело рассматривал золотой перстень, который ему вручил драгун в качестве платы за подводу и упряжь.
Прохор долго не мог понять, не продешивил ли он с ценой, однако по всему выходило, что, продав кольцо с камнем, можно купить и новую телегу, и нового коня. Наконец, поняв для себя выгоду предложенной сделки и опасаясь, чтобы покупатели не передумали, Прохор принялся помогать впрягать строптивого драгунского коня. Если бы кто-нибудь в этот момент растолковал Прохору истинную стоимость кольца, на которую можно было не только приобрести телегу с лошадью, но и обновить дом и прикупить корову, то, вероятнее всего, хозяин телеги охотно сам бы впрегся вместо коня и домчал покупателей резвой рысью туда, куда бы они пожелали.
Наконец справившись с конем, Ефим и Ванятка выехали с прохоровского двора, и хозяин облегченно закрыл за ними ворота. Когда подъехали ко двору Лукерихи, Ванятка притащил в телегу две охапки сена, а Ефим вместе со знахаркой вывел из дома ротмистра.
Лыкин с трудом забрался в телегу; было видно, что выйти из избы стоило ему больших сил, но до телеги он шел сам, опираясь при этом на плечо Катунькина. Устроившись в телеге, офицер обратился к Ефиму:
– Катунькин, оседлай Булата, пусть бежит рядом под седлом – может, пригодится тебе или мальчику.
– Я, вашбродь, вас не брошу и от вас никуда не поскачу! – заявил в ответ драгун.
– Все равно оседлай, может, пригодится! – повторил ротмистр.
Пока Ефим седлал Булата, Ванятка принес в телегу седло коня Ефима.
Когда Булат был оседлан и привязан к телеге, травница стала наставлять Ефима и Ванятку:
– Езжайте неспешно, чтобы рану не разбередить! Ему бы еще лежать и лежать….
– Спасибо тебе, Лукерья Трифоновна! – сказал ей ротмистр. – Даже и не знаю, как тебя благодарить!
– А ты не меня благодари, касатик! Ты весь народ русский благодари и зла ему не чини. Если бы вы, баре, людям зла не делали, то никто бы в бунт не шел и не было бы сейчас такой замятни!
Попращавшись со старухой, они наконец тронулись в путь.
Драгуны с мальчиком проехали уже верст пять по тряской дороге. Лыкин полулежал в телеге и смотрел, как над дорогой смыкаются вершины сосен, над которыми как бездонное море, разливается голубое небо. Как интересно складывается судьба – столько лет он служил в Оренбурге и ездил в Уфу, сносился по службе со многими башкирами. Потом была турецкая война, потом бунт казаков, восстание башкир, и здесь, в глубине страны, он получил свою самую тяжелую рану от сына того башкирского старшины, которого он должен был сопровождать вот по этой самой дороге десять лет назад… И тогда все сложилось совсем не так, как он хотел, и теперь все складывается не так. Это он, ротмистр Лыкин, должен был вместе с подполковником Михельсоном преследовать бунтовщиков. А теперь получается все наоборот – он бежит от их преследования, да еще и на телеге.
Ротмистр посмотрел на спины Ванятки и Ефима. Как странно: его в детстве мама тоже звала Ваняткой, только она и кормилица его так называли. Он уж и забыл, так давно это было. Словно почувствовав его взгляд, мальчик обернулся и застенчиво улыбнулся ротмистру. Потом, подняв глаза, посмотрел вдаль на дорогу и тут же встревоженно воскликнул:
– Дядька Ефим, смотрите – вот там на горе конные!
Все обернулись назад, Лыкину для этого пришлось развернуться из полулежачего положения. По дороге верстах в полутора от них действительно скакало двое конных.
– Башкиры! – наконец рассмотрел Ефим. – Все-таки почуяли нас!
Конный отряд из восьми башкир въехал в деревню вскоре после того, как телега с Лыкиным, Катунькиным и Ваняткой из нее выехала. Всадники начали рыскать вокруг деревни, надеясь разыскать следы драгун. Кто-то из них заприметил ехавшую далеко вдали телегу. Поскольку башкиры искали драгун, на телегу сначала никто не обратил внимания, однако тот молодой охотник, что заприметил конский навоз и съездил за подмогой, теперь вызвался проверить, кто уехал на этой телеге. Охотника звали Рахим. С самого детства отец учил его делать все неспеша, но обязательно доводить до конца. С четырнадцати лет мальчик начал приносить домой подстреленных из лука зайцев и лисиц, а к семнадцати годам отец купил ему тульское ружье, не пожалев за него двух кобылиц. С тех пор Рахим охотился и с помощью лука, и с помощью ружья. Теперь охотник, взяв с собой одного из товарищей, скакал вслед уехавшим и быстро нагонял их.
– Ванятка, держи вожжи! – скомандовал Ефим. – Нахлестывай посильнее, конь у меня справный, а я попробую отбиться на Булате!
Драгун взвел оба пистолета, один отдал ротмистру, а второй сунул себе за пояс. Отвязав от телеги повод Булата, он вскочил на него и, обнажив палаш, поскакал навстречу башкирам. Ванятка принялся нахлестывать драгунского коня, и телега начала набирать ход, подпрыгивая на каменистой дороге.
Завидев, что им навстречу скачет вооруженный драгун, оба башкирина выхватили сабли и воинственно закричали. Ефим по рысьей шапке узнал в одном из них того воина, которого он видел утром у дома Лукерихи, за спиной у него по-прежнему висело тульское ружье. Как и утром, драгун решил, что из двоих это наиболее опасный противник и первым атаковать надо его.
Когда от бешено скачущего Булата до коня башкирина оставалось несколько саженей, Ефим ловко перекинул палаш из правой руки в левую, выхватив из-за пояса пистолет, направил его на всадника с ружьем. Однако тот, не растерявшись, быстро осадил своего коня и, прикрываясь, поднял его на дыбы одновременно с выстрелом драгуна.
Драгунская пуля угодила в коня и тот, жалобно заржав, заметался и скинул с себя ездока. По инерции проскакав мимо второго башкирина, Ефим заткнул бесполезный теперь пистолет за пояс и, развернув Булата, начал атаковать второго башкирина. Молодой, лет семнадцати, батыр сильно растерялся после выстрела и ранения лошади товарища, и теперь, когда на него несся драгун, он только неуверенно попробовал защититься саблей. Первый же удар Ефима сильно рассек ему левое плечо. Прижимая разрубленную руку, юноша поскакал назад по дороге в сторону деревни.
Ефим посмотрел ему вслед: на таком коне, как Булат, ничего не стоило догнать батыра и добить ударом палаша сзади. Однако драгун вовсе не был жадным до крови. Теперь, когда их присутствие в деревни было раскрыто, в убийстве этого юноши не было бы никакого смысла.
Драгун развернул Булата в сторону уехавшей телеги и только тут увидел первого башкирина с направленным в его сторону ружьем. Ефим успел пригнуться к шее коня, когда пуля сбила с него треуголку, при этом больно царапнув голову. Надеясь достать пешего противника палашом, драгун направил коня на него, но тот по-кошачьи быстро прыгнул в придорожные кусты и, словно бы обернувшись рысью, мгновенно растворился между деревьев.
Катунькин не стал преследовать и этого противника – лес по краям дороги был довольно густой, и обмануть в нем опытного вооруженного ружьем охотника было не самой простой задачей. К тому же, неизвестно, сколько еще башкир вокруг. Нужно было как можно быстрей добраться до завода.
Драгун нагнал телегу, когда впереди уже маячили крайние избы Катав-Ивановского завода.
– Ты ранен? – встревоженно спросил его ротмистр, увидев следы крови на голове.
– Так, царапнуло ружейной пулей, дешево отделался! – ответил Ефим.
– А с этими двумя что? – уточнил офицер.
– Одного спешил, второго в плечо ранил! Первый после этого в меня из ружья пальнул! Эх, треуголку жалко!
– Ничего, Ефим! Была бы голова цела, а шапка по ней найдется! – успокоил его Лыкин. – Опять ты меня от беды спас! Благодарю за службу!
– Рады стараться, вашбродь!
Когда телега с Ваняткой и Лыкиным в сопровождении ехавшего верхом на Булате Ефимом подъезжала к воротам завода, то их со стены удивленно рассматривало человек пять вооруженных чем попало мастеровых.
– Да это ж Ванятка, Никифоров сынок! – узнал кто-то мальчика. – А кто это с ним? Никак солдаты!
Тяжелые ворота Катав-Ивановского завода, пропустив телегу с раненым офицером и конного драгуна, закрылись. Ванятка направил лошадь к большой избе, где временно расположился управляющий заводом. Предупрежденный кем-то Абаимов уже ожидал на крыльце; он сразу понял, что лежащий на телеге является офицером, следовательно, относится к дворянскому сословию. Сам управляющий относился к мещанам.За телегой драгун вел под узцы коня, в котором сразу угадывалась порода.
– Добрый день, сударь! – Абаимов, спустясь с крыльца, обратился к приехавшему. – Позвольте приветствовать вас на Катав-Ивановском заводе, коим мне доверено управлять в отсутствии хозяев. Никита Абаимов к вашим услугам.
Офицер, поморщившись от боли, сел в телеге и отрекомендовался:
– Ротмистр Лыкин, командир отдельного эскадрона драгун, приданного деташементу подполковника Михельсона! Впрочем, в данный момент я имею весьма смутное представление о том, где находится мой эскадрон да и весь отряд Михельсона, поскольку я был ранен несколько дней назад…
– О, мы наслышаны о вашем отряде! – продолжил Абаимов. – Несколько дней назад он освободил Симский, а потом и Усть-Катавский заводы, которые, как и Катав-Ивановский, принадлежат кумпанству Твердышевых и Мясникова!
– Да, мне раньше приходилось бывать здесь, и я знаком с Яковом Борисовичем Твердышевым! – ответил на это Лыкин. – Что касается нынешней военной кампании, то в освобождении Симского завода мне довелось принимать участие, а вот Усть-Катавский брали уже без моей персоны…
– Конечно, конечно! – закивал управляющий. – Вы ранены, и вам сейчас готовят комнату в этом доме – здесь раньше была столярная мастерская, а теперь располагается заводская контора и моя квартира.
Лыкин выбрался из телеги и придерживаемый Ефимом пошагал к крыльцу. Около ступенек он остановился отдохнуть и оперся рукой о крылечный столб.
– Позвольте поинтересоваться! – продолжил разговор управляющий. – Как скоро можно ждать ваш отряд здесь на Катав-Ивановском заводе?
– Видите ли, сударь, – ответил офицер, – у Ивана Ивановича Михельсона нет цели освободить от бунтовщиков все заводы, но ему нужно разбить и по возможности пленить главного злодея – Пугачева, который, по слухам, идет к Сатке для соединения со всеми отрядами башкир. В помощь же Михельсону со стороны Челябы должен двигаться еще один отряд под командованием Декалонга. Чем быстрее они прищучат самозванца, тем быстрее на всех заводах наступит спокойствие!
– Значит, нам не стоит ждать солдат в ближайшие дни? – уточнил Абаимов.
– Катав-Ивановский завод стоит в стороне от Сибирского тракта и деташемент будет направлен сюда только в том случае, если на завод явится сам Пугачев!
– Выходит, нам не стоит ждать помощи от войск?
– Не стоит, вам приходится рассчитывать только на себя! – поддтвердил ротмистр. – А еще на то, что Михельсон и Декалонг покончат с самозванцем в ближайшие недели!
Глава 8. 1918-й
Захлебывающийся колокольный перелив разлетался по присыпанным первым снегом улицам. Звон шел сразу с двух колоколен храма Иоана Предтечи, и жители Катав-Ивановска выбегали из домов и тревожно прислушивались к нему, уж не пожар ли? Но к всеобщему удивлению сигнал не был сполошным, наоборот, перезвон был торжественным, какой бывал раньше на Рождество или Пасху, и озадаченные горожане потянулись к храму.
Быстро собравшись, Антон поспешил в центр города, где на площади перед храмом уже собралась довольно большая толпа зевак. Около церкви сновали вооруженные солдаты в форме со знаками различия, похожими на знаки царской армии, которые Гнедых довелось много раз видеть на фронте. Не забывая задание Тараканова, Антон быстро пересчитал стрелков.
Вскоре к солдатам подъехало двое конных, на одном были офицерские погоны, издалека не разобрать, кажется, капитанские. Второй всадник был заметно старше первого и что-то почтительно ему говорил, указывая на особняк Белосельских-Белозерских. Погоны на нем были унтер-офицерские, и Антону его крупная фигура отчего-то показалась знакомой.
Офицер отдал несколько команд, и человек десять солдат направились в здание особняка. Вскоре из труб на крыше потянулись дымки, видимо, солдаты затопили печи.
Люди в толпе не без удовольствия комментировали происходящее:
– Смотри-ка, как хозяйничают!
– Ежели офицер прибыл, глядишь, и власть установится!
– Давно пора! Большевиков еще летом сковырнули, а нормальной власти все нет, постоянно какие-то шаромыжники наведываются!
– Да это не шаромыжники, а чехи!
– Может, и чехи, но ведут себя хуже цыган! Только и зыркают, чего бы стибрить!
– А ты как хотел? Русский с русскими воюет, чехи сахаром торгуют!
– Мужики, да это же Куницын!
– Который? Где?
– Да вон тот, на кобыле, с погонами!
– Батюшки! И впрямь Алексей Антипович! Мы ж кумовья с ним! Ну теперь к нему на драной козе не подъедешь – офицер!
– Не офицер, унтер пока что! Вот он куда, значит, от красных убежал!
Антон теперь тоже узнал Куницына, который из седла внимательно рассматривал катавскую толпу, изредка кивая головой знакомым. Слесарь на всякий случай надвинул на глаза шапку и отшагнул немного назад.
– Едут! Едут! – вдруг раздалось с колокольни.
Колокола вновь принялись торжественно звонить, из храма вывалилось несколько попов в праздничных одеждах. Вместе с ними вышел разряженный в сюртук Иван Котенко, которому сунули в руки длинное расшитое полотенце с караваем хлеба.
Послышался конский топот, и на дороге со стороны плотины показалась идущая легкой рысью казачья полусотня, служившая конвоем для группы офицеров. Самый важный из них имел закрученные усы, на плечах поблескивали полковничьи погоны. Когда отряд подъехал к церкви, полковник, несмотря на приличное брюшко, молодцевато соскочил с коня и, гремя шпорами, направился к ожидавшим его духовным и гражданским лицам.
– Добро пожаловать, господин комендант! Хлеб-соль! – Котенко с поклоном преподнес каравай.
Какая-то тетка выперлась вперед с подносом, на котором стояла рюмка хлебного вина и лежал калач. Полковник снял фуражку и широко перекрестился на кресты колоколен, после чего изволил выпить водки и закусить. Все офицеры тоже поснимали фуражки и стали креститься, а затем двинулись внутрь храма. За ними последовала часть казаков, вслед за которыми в церковь повалили многие из стоявших в толпе.
Гнедых внутрь не пошел, смотреть на то, как богобоязненные офицеры бьют покаянные поклоны, ему не хотелось. К тому же, в храме полагалось снимать шапку, и тогда было больше шансов попасться на глаза Алексею Антиповичу. Молебен, однако, продолжался недолго, не прошло и получаса, как все стали выходить из церкви. Звонари опять принялись выколачивать из меди благовест, но пришедшие на площадь люди уже начинали чувствовать приторность встречи нового начальства, и колокола затихли. Один из офицеров свиты, обращаясь к толпе, громко прокричал:
– Господин полковник Христофор Аркадьевич Носарь назначен военным комендантом Катав-Ивановска!
Наверное, в этот момент было бы уместно, если заиграл оркестр, но на площади не было музыкантов. Жители города не очень понимали, что полагается делать в таком случае и попросту промолчали, солдатам и казакам тоже никто не подсказал кричать ура, и, чтобы заполнить неловкую паузу, полковник стал громко прокашливаться, после чего сделал два шага вперед и начал свою речь:
– Граждане! Как вам всем известно, в то время как верные Отечеству сыны вели тяжелую борьбу против врагов России, кучка немецких наймитов, называющих себя большевиками, попыталась устроить вооруженный переворот и захватить власть, а чтобы расплатиться со своими хозяевами, эти предатели, эти каины русского народа добровольно отдали нашим врагам исконно русские земли!..
Полковник перевел дух, заодно используя паузу для того, чтобы понять, какое действие производят его слова на собравшихся на площади людей. Однако понять что-либо было сложно: толпа молчала, и от этого было непонятно, то ли молчавшие люди стремятся поймать каждое слово новой власти, то ли просто не понимают, о чем им говорят. Не дождавшись реакции, Носарь продолжил ораторствовать:
– Но у Святой Руси нашлись заступники, которые не вытерпели издевательств над страной и народом и выступили против большевисткой заразы! Чувствуя приближающуюся агонию, красные палачи подняли руку на самое святое для каждого русского человека – на членов царской семьи! – полковник обвел глазами толпу и усилил интонацию. – Теперь сама кровь наших монархов требует отмщения! Верховный правитель России адмирал Колчак призывает всех патриотов принять участие в борьбе против красной чумы, чтобы как можно скорее вернуться на путь всеобщего процветания!
Закончив свою речь, полковник в сопровождении офицеров и гражданских направился в стоявший рядом с церковью особняк. Толпа стала медленно расходиться, переваривая услышанное и прикидывая, чего следует ждать от новой власти. Немного потоптавшись между людьми, Антон направился в сторону дома.
Носарь подтвердил ходившие с лета слухи о расстреле в Екатеринбурге царской семьи. Почему-то это особенно злило белых, может быть, кто-то из них надеялся на восстановление монархии? Вряд ли. Антон по фронту знал, что многим офицерам происходящая тогда война была не по душе, особенно возмущало бездарное командование царских генералов, многие из которых приходились царю близкими родственниками. Значит, большинство восставших против советской власти людей просто не смогло принять того, что теперь все решения принимаются рабочими и солдатами, людьми, которые еще вчера стояли ниже их по своему социальному положению.
Так или иначе, за восстанием чешского гарнизона последовали выступления многочисленных отрядов под командованием офицеров, и теперь в Сибири и на Урале хозяйничала армия адмирала Колчака, с юга на молодую Советскую Республику напирала армия генерала Деникина, а с севера угрожали интервенты Антанты.
Однако оставшиеся в тылу белых большевики после разгрома не смирились и продолжили свою борьбу, во многих местах стали возникать небольшие партизанские отряды. Скрывающийся в лесу недалеко от города Дмитрий Тараканов хотел через Гнедых выйти на связь с ближайшими отрядами и наладить координацию общих действий. Неделю назад ночью к Антону приходил человек от Метелина, и теперь Гнедых знал, что Ероха не просто жив – машинист сумел собрать небольшой отряд и ищет связи с Таракановым.
Полковник Носарь осмотрел обстановку особняка Белосельских-Белозерских и нашел ее довольно сносной. После того как ему закончили представляться остатки местного духовенства и купечества, он устроил небольшой военный совет со своими офицерами.
