Дело «Исчезнувшего поезда»
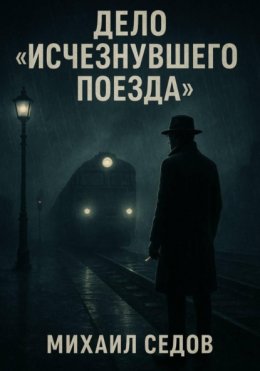
Нулевой километр тишины
Волга ГАЗ-24, казенная, пахнущая сырой шерстью сидений и вчерашним табаком, остановилась у серого трехэтажного здания Управления станции, похожего на уставшего часового. Двигатель, простуженно кашлянув, затих, и в образовавшуюся полость немедленно хлынули звуки сортировочного парка: далекий, протяжный гудок маневрового тепловоза, металлическое эхо удара сцепок, нарастающий рокот проходящего где-то за пакгаузами пассажирского. Звуки жили своей, отдельной от людей жизнью, они были здесь хозяевами. Кириллов сидел еще с полминуты, глядя сквозь запотевшее стекло на низкое, цвета мокрого асфальта, октябрьское небо. Он не торопился. Спешка была плохим инструментом в его ремесле, она смазывала детали и заставляла принимать очевидное за истинное.
Наконец, он открыл тяжелую дверь и шагнул наружу, в промозглую взвесь утра. Воздух был плотным, пропитанным запахами креозота, угольной гари и холодной, влажной стали. Этот запах был для него почти родным, въевшимся в память с детства, как запах материнских рук. Он поднял воротник плаща, поправил съехавшую набок шляпу и двинулся к крыльцу, под ногами хрустел мелкий, промасленный гравий.
Внутри его уже ждали. Начальник станции, грузный мужчина лет пятидесяти с усталым, одутловатым лицом и редкими, прилипшими ко лбу седыми волосами, представился как Петр Игнатьевич Воробьев. Он нервно теребил в руках пухлую папку с тесемками, словно она была спасательным кругом. Рядом с ним, на шаг позади, стоял молодой человек в форме дежурного по станции, бледный, с бегающими глазами. Его китель сидел на нем мешковато, а тонкие пальцы беспрестанно комкали форменную фуражку.
– Майор Кириллов, транспортная прокуратура, – представился Аркадий, не протягивая руки. Он окинул обоих быстрым, оценивающим взглядом, фиксируя напряжение в позе начальника и откровенный страх в глазах дежурного. – Докладывайте.
Кабинет Воробьева был таким же, как сотни других кабинетов в системе МПС: тяжелый дубовый стол под зеленым сукном, массивные стулья, графин с водой, два телефона – один обычный, другой, цвета слоновой кости, – правительственный. На стене – обязательный портрет генсека и огромная, пожелтевшая от времени схема вверенного хозяйства. Пахло пылью, старой бумагой и валокордином.
– Пропажа, Аркадий Павлович, – начал Воробьев, избегая смотреть Кириллову в глаза. Его голос был глухим, будто он говорил из-под толщи воды. – Состава грузового. Номер четыреста два.
Он положил папку на стол, но не развязал тесемки. Кириллов молча обошел стол, сел в кресло начальника, заставив того остаться стоять, и жестом указал на папку. Воробьев, помедлив, развязал узел.
– Пропажа – неверный термин, Петр Игнатьевич, – спокойно произнес Кириллов, вынимая из папки верхний лист. – Состав – это не иголка. Он не может просто пропасть. Он может быть не там, где должен. Или там, где не должен. Давайте начнем с терминологической точности. Что значит «пропал»?
– Он… не прибыл в пункт назначения, – вставил бледный дежурный. Воробьев метнул на него уничтожающий взгляд. – То есть, он прошел нашу станцию. По всем документам. А на следующей узловой, в Орехово, его не дождались.
– Прошел нашу станцию, – повторил Кириллов, не отрывая взгляда от бумаг. – Когда?
– В ноль три сорок семь, – отрапортовал Воробьев, заглядывая в свои записи. – Согласно графику и отметкам в журнале движения. Диспетчер смены, Шубин Алексей Иванович, – он кивнул на своего подчиненного, – лично вел его по парку.
Кириллов поднял глаза на Шубина. Тот вздрогнул, словно его ударили.
– Лично вели, товарищ Шубин? – голос майора был ровным, лишенным всякого нажима.
– Так точно, товарищ майор. Состав четыреста два. Принят с перегона Перово-Москва-Пассажирская-Казанская. Проведен по третьему главному пути, далее через стрелочные переводы сто двенадцать, сто двадцать четыре на двадцать седьмой путь сортировочного парка «Г» для смены локомотивной бригады и технического осмотра. В ноль три сорок семь, после прицепки нового электровоза ВЛ10, отправлен на перегон Москва-Люберцы. Все операции зафиксированы.
Шубин говорил заученно, как по уставу, но в конце его голос дрогнул. Он смотрел куда-то в точку на стене, поверх плеча Кириллова.
– Вы его видели? – просто спросил Кириллов.
В кабинете повисла тишина. Слышно было, как тикают большие настенные часы и как за окном скрежещет металл.
– Что значит – видел? – растерянно переспросил Шубин.
– Глазами. Вы видели локомотив? Вагоны? Пятьдесят семь единиц подвижного состава. Уголь-антрацит, пятьдесят два вагона. И пять крытых вагонов, груз – промышленное оборудование. Это значительный объект. Его трудно не заметить.
– Я видел отметку на мнемосхеме, – выдавил из себя диспетчер. – Лампочка горела, показывая занятость блок-участка. Семафор открыл, маршрут приготовил. Все по инструкции. У нас сотни составов за смену проходят, товарищ майор. За каждым в окно не набегаешься смотреть.
– Работаем по приборам, – авторитетно подтвердил Воробьев, немного осмелев. – Система не дает сбоев. Если на пульте показано, что путь занят, значит, он занят.
Кириллов медленно перебирал бумаги. Натурный лист состава, путевой лист машиниста, накладные, журнал диспетчерских распоряжений. Все было на месте. Каждая подпись, каждый штемпель. Почерк в журналах был убористым, каллиграфическим, без единой помарки. Цифры стояли в ровных колонках. Время, номера путей, фамилии – все сходилось. Бумажная реальность была безупречна. Она была настолько идеальна, что от этого становилось не по себе.
– Пойдемте на пост, – сказал Кириллов, поднимаясь. – Хочу посмотреть на ваше рабочее место, товарищ Шубин.
Путь до поста централизации лежал через гулкое чрево станции. Они шли по дощатому настилу вдоль путей. Справа и слева застыли, как доисторические животные, ржавые бока цистерн и полувагонов. Пахло сыростью, гниющими шпалами и вечной, неустранимой тревогой этого места. Кириллов шел не спеша, внимательно глядя по сторонам, будто пытался прочесть историю в переплетении рельсов, в масляных пятнах на щебне, в отпечатках тяжелых ботинок на влажной земле. Он видел этот мир не как хаотичное нагромождение железа, а как сложнейший организм, где у каждой детали есть свое предназначение и своя логика. И сейчас эта логика была нарушена самым фундаментальным образом.
Пост централизации представлял собой стеклянный эркер на втором этаже кирпичной башни, нависающий над хитросплетением путей. Отсюда, из этого «аквариума», несколько человек управляли титаническим движением. Внутри было тихо и тепло. Главное место занимал огромный, во всю стену, пульт-табло – мнемосхема станции. На темном фоне светились сотни маленьких лампочек, обозначавших пути, стрелки, светофоры. Сейчас на пульте царило размеренное утреннее движение – красные и белые огоньки перемигивались, ползли по нарисованным линиям, обозначая движение невидимых отсюда составов.
Шубин, оказавшись в знакомой обстановке, немного пришел в себя. Он подошел к пульту и ткнул дрожащим пальцем в одну из линий.
– Вот. Третий главный. Отсюда был принят. – Его палец проследил сложный маршрут через лабиринт стрелок. – Вот сюда, на двадцать седьмой путь парка «Г». Здесь он стоял. По документам – тридцать пять минут. Смена бригады, техосмотр. Потом отсюда, – палец перескочил на другую линию, – ушел на Люберцы.
Кириллов смотрел на пульт. Это была карта несуществующей реальности. Электрическая схема события, которого, возможно, не было.
– Кто сменная бригада? – спросил он, не оборачиваясь.
– Локомотивное депо Москва-Сортировочная, – ответил Воробьев, стоявший у него за спиной. – Машинист Ковалев, помощник Синицын. Они приняли состав у предыдущей бригады и должны были вести его до Орехово-Зуево.
– С ними говорили?
– Они на допросе у вас, в Управлении. Клянутся, что приняли состав, как положено, и отправились по маршруту. В путевом листе все отметки есть.
– Кто проводил техосмотр?
– Вагонники. Старший осмотрщик Рябов. Тоже там же, где и машинисты. У него в журнале запись: «Состав технически исправен, готов к следованию». Подпись, штамп. Все как положено.
«Все как положено», – мысленно повторил Кириллов. Эта фраза звучала сегодня слишком часто. Она была паролем, защитным заклинанием, которым эти люди пытались отгородиться от абсурдной, невозможной правды.
– А кто-нибудь из них, – Кириллов обернулся и посмотрел сначала на Шубина, потом на Воробьева, – кто-нибудь из них, кроме отметок на пульте и записей в журнале, помнит сам состав? Его можно было видеть отсюда? Двадцать седьмой путь.
Шубин неопределенно махнул рукой в сторону окна.
– Ночь, товарищ майор. Темно. Прожектора светят, но видимость… Сами понимаете. Силуэт видно, огни буферные. Что там за вагоны, какой груз – отсюда не разглядишь. Да и некогда разглядывать.
– То есть, вы подтверждаете, что видели силуэт состава на двадцать седьмом пути?
Диспетчер замялся. Его взгляд метнулся к начальнику станции. Воробьев едва заметно качнул головой.
– Я подтверждаю, что на пульте была индикация занятости двадцать седьмого пути, – сказал Шубин, снова уставившись в пол. – Я действовал согласно показаниям приборов.
Кириллов прошел к окну. Под ним расстилалась необозримая панорама стальных нитей, уходящих к горизонту. Пути сходились и расходились, ныряли друг под друга, образовывали веера и целые поля. Десятки, сотни путей. По ним медленно, как сонные гусеницы, ползли составы. Сортировочная горка – искусственный холм, с которого скатывали вагоны, распределяя их по направлениям, – время от времени извергала из себя очередной вагон, и тот с грохотом катился вниз, управляемый невидимыми стрелочниками. Все это огромное, сложное хозяйство жило, дышало, работало. И посреди этого работающего механизма образовалась черная дыра размером в пятьдесят семь вагонов.
Он вернулся в кабинет Воробьева. На столе лежали аккуратные стопки документов, которые он затребовал: журналы, ведомости, личные дела всех, кто имел отношение к ночной смене. Он сел за стол и принялся за работу. Воробьев и Шубин остались стоять у двери, не решаясь ни уйти, ни заговорить. Кириллов не обращал на них внимания.
Он погрузился в мир бумаги. Это был его мир, более понятный и честный, чем мир людей. Бумага не умела лгать, она могла лишь содержать в себе ложь, и эту ложь можно было обнаружить. Он изучал каждую букву, каждую цифру. Сравнивал подписи на разных документах, обращал внимание на нажим пера, на цвет чернил. Он читал не то, что было написано, а то, о чем бумага молчала.
Час проходил за часом. За окном серый рассвет сменился таким же серым днем. Телефоны в кабинете молчали. Воробьев, измаявшись, присел на краешек стула для посетителей. Шубина он отпустил. В кабинете остались двое. Кириллов и начальник станции, разделенные столом, заваленным бумагами.
– Абсурд, – вдруг сказал Воробьев, нарушив тишину. – Просто абсурд. Пятьдесят семь вагонов. Это же… почти километр длины. Четыре тысячи тонн. Как? Куда? Это же не платок носовой из кармана вытащить.
Кириллов поднял на него глаза. В его взгляде не было ни сочувствия, ни осуждения. Только холодное, отстраненное внимание исследователя.
– Именно поэтому, Петр Игнатьевич. Именно потому, что это не носовой платок. Такую операцию невозможно совершить спонтанно. Это не кража. Это… другое. Это демонстрация.
– Демонстрация чего? – не понял Воробьев.
Кириллов не ответил. Он снова склонился над документами. Его внимание привлек путевой лист локомотива, который привел состав четыреста два на станцию Москва-Казанская с перегона Перово. Диспетчер станции отправления – Перово-Сортировочное. Фамилия – Ситников. Подпись Ситникова стояла на маршрутном листе. Она была четкой, с уверенным росчерком. Кириллов взял лупу и внимательно изучил ее. Потом он нашел журнал приема-сдачи составов, где тот же Ситников расписался за смену. Он сравнил две подписи. Они были идентичны. Абсолютно. Словно сделанные под копирку. У живого человека подпись всегда немного разная: наклон, нажим, длина росчерка. Эти же две подписи совпадали до микрона.
Он отложил документы. Встал, подошел к окну. Достал из кармана плаща пачку «Беломорканала», размял папиросу, закурил. Дым был едким и горьким. Он смотрел на бесконечное движение внизу. Поезда приходили, поезда уходили. Система работала. Сотни тысяч тонн грузов перемещались по стране согласно графикам и расписаниям. Идеально отлаженный механизм.
Но кто-то сумел вставить в этот механизм невидимую шестеренку, которая заставила его провернуться вхолостую. Кто-то создал бумажного двойника, фантомный состав, который существовал только в отчетах, журналах и на световых табло диспетчеров. А настоящий состав… где был настоящий состав? И был ли он вообще?
Мысль была настолько дикой, что он сам от нее отмахнулся. Нет, состав был. Уголь грузили на шахте в Кузбассе. Оборудование – на уральском заводе. Десятки людей видели эти вагоны, формировали их в единый поезд. Он прошел тысячи километров. А потом, на подходе к Москве, на самой загруженной и контролируемой ветке страны, он просто растворился. Испарился.
И все, что осталось от него – это стопка безупречно оформленных документов. Идеальный порядок, который был страшнее любого хаоса. Потому что этот порядок был ложью. Тщательно сконструированной, продуманной до мелочей.
Он обернулся к Воробьеву, который смотрел на него с надеждой и страхом.
– Мне нужны все графики движения за последние сутки по вашему участку и по смежным. Всех поездов, без исключения. Грузовых, пассажирских, хозяйственных, маневровых. Все приказы об «окнах» для ремонтных работ. Все журналы связистов и путейцев. И личные дела всех диспетчеров, машинистов, осмотрщиков, дежурных по паркам, кто был на смене этой ночью на всем участке от Перово до Люберец.
Воробьев побледнел еще сильнее.
– Аркадий Павлович, это же… гора бумаг. Целый архив.
– Значит, мы будем работать в архиве, – спокойно ответил Кириллов, потушив папиросу в массивной мраморной пепельнице. – Расследование начинается с нулевого километра. А у нас здесь нулевой километр тишины. Ни одного свидетеля, ни одной зацепки. Только этот идеальный, мертвый порядок в бумагах. И это значит, что ответ нужно искать не там, где что-то пропало, а там, где все на своих местах.
Он снова сел за стол. Он чувствовал, как за этим делом, за этой невозможной пропажей, скрывается нечто огромное и холодное. Не просто группа воров, пусть даже очень умелых. А что-то другое. Сила, способная управлять самой реальностью этой железной дороги. Способная создавать и уничтожать поезда по своему усмотрению, оставляя после себя лишь ровные строчки в журналах учета. И эта мысль не пугала его. Она вызывала странный, почти забытый азарт. Азарт аналитика, столкнувшегося с идеальной головоломкой. Он знал, что в любой идеальной системе есть изъян. Нужно было просто его найти. И он его найдет. Даже если для этого придется перевернуть всю эту гору бумаги и допросить каждого, кто к ней прикасался. Он только начинал свой путь по следам призрака, состоящего из стали, угля и пятидесяти семи пустых мест в расписании.
Бумажные призраки в архиве МПС
Сырой утренний воздух министерских коридоров был неподвижен и тяжел, как застывший студень. Он пах сургучом, десятилетиями невыветривавшимся табаком и слабым, едва уловимым ароматом паркетной мастики. Здесь даже звук шагов тонул в ковровых дорожках, и сама тишина, казалось, имела вес и давила на плечи. Кириллов шел по этому безмолвному царству, чувствуя себя чужеродным элементом, грубым механизмом, вторгшимся в герметичный мир полированного дерева и пыльных портьер.
Рядом, стараясь шагать в ногу, но все равно сбиваясь с ритма, шел лейтенант Соколов. Молодой, высокий, с той неуклюжей угловатостью, которая еще не обтесалась о казенные кресла и бессонные ночи. Его новое, идеально отглаженное пальто казалось слишком светлым на фоне общих сумрачных тонов, а лицо, чисто выбритое и с еще нетронутым румянцем, выражало смесь благоговения перед стенами учреждения и нетерпеливого рвения. Он был прикомандирован к Кириллову вчера вечером, и майор еще не решил, будет ли от этого свежего пополнения больше пользы или помех.
Они вошли в приемную архива. За массивной конторкой, заваленной регистрационными журналами, сидела женщина неопределенного возраста, похожая на иссушенный гербарий. Ее лицо было сетью тонких морщин, а пальцы, перебиравшие карточки в ящике, напоминали сухие веточки. Она подняла на них глаза поверх очков в роговой оправе, и во взгляде ее не было ни любопытства, ни враждебности – лишь усталость хранителя мертвых слов.
– Запрос, – произнесла она голосом, шуршащим, как старый пергамент.
Кириллов молча положил на конторку требование с размашистой подписью Громова. Женщина долго изучала его, будто сверяя не только подлинность печати, но и невидимые знаки ведомственной иерархии. Наконец, она кивнула своим мыслям, достала из ящика связку ключей и, не говоря ни слова, поднялась. Ее движение было медленным, ритуальным, словно она собиралась не просто открыть дверь, а провести их в иное измерение.
Архив Министерства путей сообщения не был просто хранилищем документов. Это было кладбище фактов, огромное пространство, где на бесконечных стеллажах, уходящих в полумрак, покоились бумажные останки событий. Воздух здесь был еще плотнее, спрессованный из пыли, клея и сухого, сладковатого тлена бумаги. Единственным звуком был скрип половиц под их ногами и гудение старых ламп дневного света, бросавших на ряды папок неживой, зеленоватый отсвет.
– Стеллажи с сорок третьего по пятьдесят второй. Журналы движения, натурные листы, ведомости, донесения. Московский узел. За последний месяц, – хранительница указала костлявой рукой в глубину прохода, который казался тоннелем, пробитым в толще бумаги. – Не перепутывать порядок. Не выносить. Работать за столами.
Она указала на несколько дубовых столов под лампами, похожих на островки света в этом бумажном океане, и удалилась, ее силуэт растворился в сумраке.
– Ничего себе, – выдохнул Соколов, оглядываясь. – Тут можно заблудиться. Это же… это же как геологические пласты. Целая эпоха.
– Нам нужен не пласт, лейтенант, а трещина в нем, – ровно ответил Кириллов, снимая плащ и вешая его на спинку стула. – Начинаем с журналов приема и отправления. Станции Перово-Сортировочное, Москва-Пассажирская-Казанская, Люберцы. Вы берете Люберцы. Я – Перово и Казанскую. Ищем все, что касается состава четыреста два. И все, что проходило по тем же путям за шесть часов до и шесть часов после его расчетного времени. Сравниваем отметки времени, номера локомотивов, фамилии бригад. Любое несоответствие.
Они разошлись. Соколов, полный энтузиазма, резво взобрался по приставной лестнице и начал снимать со стеллажа тяжелые, перетянутые шпагатом папки. Кириллов двигался медленнее, его взгляд скользил по корешкам, он словно прислушивался к этому месту, пытаясь уловить его ритм. Он знал, что в таких местах правда прячется не в громких словах, а в тихих опечатках, в лишней запятой, в еле заметном изменении нажима пера.
Работа началась. Первые часы прошли в почти полной тишине, нарушаемой лишь шелестом переворачиваемых страниц. Этот звук сливался в единый монотонный фон, похожий на шум сухого дождя. Кириллов полностью погрузился в процесс. Он не просто читал – он впитывал структуру документа, его внутреннюю логику. Вот журнал движения поездов. Убористый, почти каллиграфический почерк диспетчера. Ровные колонки цифр: номер поезда, время прибытия, путь, время отправления. Все сходилось с точностью до минуты. Он брал путевой лист машиниста – те же отметки, заверенные штемпелями. Накладные на груз – вес, наименование, номера вагонов – все совпадало с натурным листом.
Бумажная реальность была безупречна. Она создавала образцовый порядок, идеальную модель работы гигантского механизма. Поезд номер четыреста два существовал на этих страницах так же несомненно, как стеллажи вокруг них. Он был принят, осмотрен, переформирован и отправлен дальше. Каждая операция была подтверждена подписью ответственного лица. Машинист, его помощник, диспетчер, дежурный по станции, осмотрщик вагонов, связист. Десятки людей своими росчерками создали этот бумажный фантом, вдохнули в него жизнь и отправили в путь по несуществующему маршруту.
Соколов работал быстро и азартно. Он то и дело делал пометки в своем блокноте, шуршал страницами, иногда даже что-то бормотал себе под нос. Часа через два он подошел к столу Кириллова, его глаза горели.
– Товарищ майор, я проверил все по Люберцам. Никаких следов. По графику он должен был пройти там в четыре двадцать утра. В это время по главному пути шел почтово-багажный. А до и после – два пригородных и один хозяйственный. Никаких «окон», никаких незапланированных остановок. Система работала как часы. Может, его пустили по обходному пути?
– Все обходные пути зафиксированы в журнале диспетчерских распоряжений, – не поднимая головы, ответил Кириллов. Он как раз изучал этот журнал. – Здесь чисто. Никаких приказов об изменении маршрута. Возвращайтесь к своей работе, лейтенант. Ищите не следы поезда, а следы его отсутствия.
Соколов немного сник, но послушно вернулся за свой стол. Он искал событие, а Кириллов – пустоту на месте события.
Время в архиве текло иначе. Оно не измерялось минутами или часами, а лишь стопками просмотренных документов. Пыль въедалась в кожу, оседала на языке. Воздух становился все более спертым. Кириллов почувствовал, как ноют мышцы спины, а глаза начали слезиться от напряжения. Он встал, размялся, прошелся по проходу. Достал папиросу, но, вспомнив, где находится, убрал ее обратно. Вместо этого он подошел к окну, забранному решеткой и покрытому толстым слоем пыли. Сквозь мутное стекло виднелся лишь серый прямоугольник внутреннего двора-колодца. Никакого движения. Никакой жизни. Только бумага.
Он вернулся к столу. Перед ним лежала папка с документами станции Перово-Сортировочное. Путевые листы, маршрутные листы. И снова – подпись диспетчера Ситникова. Кириллов уже видел ее на станции у Воробьева. Он снова взял лупу, ту самую, с трещинкой на ручке, которая всегда была с ним. Он склонился над листом.
Подпись была уверенная, с легким наклоном вправо. Завиток на заглавной «С» был почти идеальным кругом. Росчерк в конце – резкий, летящий. Он взял другой документ, подписанный Ситниковым часом ранее. Снова приложил лупу. Та же самая подпись. Абсолютно та же. Он нашел третий документ – журнал приема смены. И снова она.
Кириллов почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имеющий отношения к температуре в архиве. Это было чувство охотника, напавшего на странный, неестественный след. Живой человек, даже самый аккуратный, не может расписаться трижды абсолютно идентично. Всегда будет микроскопическое различие в нажиме, в угле наклона, в скорости ведения пера. Это как отпечаток пальца – уникальный слепок момента, состояния нервной системы. А эти три подписи были словно отпечатаны с одного клише. Они были слишком идеальны. Мертвенно идеальны.
– Соколов! – его голос прозвучал в мертвой тишине архива неожиданно резко.
Лейтенант подскочил на месте и подбежал к столу.
– Что такое, товарищ майор? Нашли?
– Смотрите, – Кириллов указал кончиком карандаша на подписи. – Видите что-нибудь?
Соколов наклонился, почти коснувшись носом бумаги. Он несколько раз перевел взгляд с одного документа на другой.
– Подпись. Ситников. Четкая, разборчивая.
– Еще.
Лейтенант снова вгляделся, нахмурив лоб. Он явно не хотел разочаровать начальника, но искренне не понимал, что от него требуется.
– Ну… они одинаковые. Аккуратный человек.
– Они не просто одинаковые, лейтенант. Они идентичные. Словно сделаны через копирку. Возьмите лупу. Посмотрите на нажим. Он везде равномерный. У живой подписи он меняется. Сильнее на петлях, слабее на росчерках. А здесь… здесь его нет. Это не написано. Это нарисовано. Или… – Кириллов замолчал, подбирая слово. – Или сделано с помощью какого-то приспособления. Факсимиле.
Соколов взял лупу, его рука слегка дрожала. Он долго всматривался, и постепенно выражение недоумения на его лице сменилось изумлением.
– И правда… Как штамп. Но зачем? Зачем подделывать подпись диспетчера на обычных документах?
– Может, потому что в ту ночь настоящего Ситникова на рабочем месте не было, – медленно произнес Кириллов, откидываясь на спинку стула. Он смотрел на эти подписи, и ему казалось, что он смотрит в глаза самому делу. Безликие, холодные, идеальные. – Собирайте все документы, подписанные Ситниковым за эту смену. И личное дело. Павел Ситников. Диспетчер станции Перово-Сортировочное. Он – наша трещина.
Они покинули архив, когда за пыльным окном уже сгущались ранние октябрьские сумерки. Воздух в коридоре после бумажной духоты показался почти свежим. Хранительница приняла у них папку с отобранными документами, пересчитала листы с бесстрастным лицом и сделала отметку в журнале. Она не задала ни одного вопроса. Бумаги ушли, бумаги пришли – для нее это был лишь естественный круговорот ее вселенной.
Отдел кадров находился на другом этаже. Это была еще одна цитадель порядка, пахнущая клеем и женскими духами «Красная Москва». За столом сидела полная женщина с высокой прической, напоминающей башню. Она разговаривала по телефону о дефицитных финских сапогах, и на появление Кириллова и Соколова отреагировала лишь раздраженным взглядом.
Кириллов терпеливо ждал, пока сапоги не будут во всех деталях обсуждены. Наконец, женщина с грохотом положила трубку.
– Слушаю.
– Майор Кириллов, транспортная прокуратура. Мне нужно личное дело сотрудника Ситникова Павла Игнатьевича, диспетчера станции Перово-Сортировочное.
– Основание? – женщина смерила его взглядом, который ясно говорил, что майоры приходят и уходят, а ее башня-прическа будет стоять вечно.
Кириллов молча протянул ей удостоверение и то же требование от Громова. Это подействовало. Слово «прокуратура» открывало многие двери, а фамилия полковника – почти все остальные. Женщина поджала губы, но поднялась и скрылась за шкафами с картотекой. Вернулась она через несколько минут, неся тонкую картонную папку.
– Ситников Павел Игнатьевич, тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения, – монотонно зачитала она, открыв дело. – В системе МПС с пятьдесят седьмого. Характеристики положительные. Взысканий не имеет. Две благодарности. Женат, имеет дочь. Проживает… – она назвала адрес в одном из спальных районов Москвы.
– Он сейчас на рабочем месте? – спросил Кириллов.
Женщина перевернула страницу.
– Нет. С пятого числа на больничном. Подал заявление.
– По какой причине?
– Острое респираторное заболевание. Бюллетень должен предоставить по выходу на работу. Что-то еще?
– Нет. Спасибо, – Кириллов забрал у нее дело.
Они вышли из министерства на улицу. Моросил мелкий, холодный дождь. Фонари зажглись, их свет дробился на мокром асфальте. Город шумел, жил своей обычной вечерней жизнью, и на его фоне их поиски казались чем-то незначительным и сюрреалистичным.
– Значит, он был на больничном, – задумчиво сказал Соколов, поднимая воротник пальто. – А кто-то в это время штамповал за него документы. Идеальное прикрытие. Но кто? Тот, кто его подменял?
– Нужно проверить, кто был назначен на его место. Но я сомневаюсь, что все так просто, – Кириллов смотрел на поток машин. – Если кто-то пошел на такую сложную операцию, как кража целого состава, он не оставит таких глупых следов. Это отвлекающий маневр. Дымовая завеса.
– Что же делать? Ехать к нему домой?
– Ехать к нему домой, – подтвердил Кириллов. – Нужно поговорить с человеком, чье имя стоит в центре этого бумажного урагана.
Дорога заняла больше часа. Их «Волга» ползла в вечерних пробках, дворники монотонно скребли по стеклу, размазывая грязь и свет фар. Соколов пытался завести разговор, расспрашивал о прошлых делах Кириллова, но майор отвечал односложно, полностью погруженный в свои мысли. Он снова и снова прокручивал в голове картину: пустые пути, идеальные документы, мертвые подписи. Это было похоже на фокус, на иллюзию. И Ситников был ключом к тому, как этот фокус был исполнен.
Они приехали в типичный район новостроек – бесконечные ряды серых девятиэтажных панельных домов, разделенных раскисшими от дождя газонами. Нужный им подъезд пах сыростью, вареной капустой и кошками. Лифт не работал. Они поднялись пешком на седьмой этаж.
Дверь в квартиру Ситникова была обита коричневым дерматином. Кириллов нажал на кнопку звонка. Внутри послышалась трель, а потом – тишина. Он нажал еще раз. И еще. Тишина.
– Может, в магазин вышли? – предположил Соколов.
Кириллов прислушался. Из-за двери не доносилось ни звука. Он взялся за ручку. Дверь была заперта.
– Поговорим с соседями.
Соседняя дверь открылась почти сразу, будто за ней ждали. На пороге стояла пожилая женщина в застиранном халате и с бигуди на голове. Ее маленькие, любопытные глазки быстро обежали обоих мужчин.
– Вы к Ситниковым? А их нету.
– А вы не знаете, где они? – вежливо спросил Кириллов.
– А кто ж их знает, – женщина явно наслаждалась своей осведомленностью. – Они дня три как уехали. Может, четыре. Павел-то приболел, жена его, Валюша, говорила, совсем плох был, кашлял. Сказала, на дачу его отвезет, на свежий воздух, подлечиться. Дочка с ними. Собрались в один момент и уехали. Даже соли не зашли попросить.
– На дачу? А вы не знаете, где у них дача?
– Где-то под Клином, кажись. А точного адреса я не знаю, милок. Они люди тихие, неразговорчивые. Не то что некоторые, – она многозначительно посмотрела на дверь напротив.
Они поблагодарили ее и спустились вниз. Дождь усилился. Ветер гнал по асфальту опавшие листья.
– Дача под Клином, – Соколов поежился. – Это как искать иголку в стоге сена. Сотни садовых товариществ.
– Именно, – Кириллов закурил, прикрывая папиросу ладонью от ветра. Дым тут же растворялся в мокром воздухе. – Слишком удобно. Заболел, уехал на дачу, точный адрес никто не знает. Его убрали со сцены. Изолировали. Вопрос только – добровольно или нет.
Они сели в машину. В салоне было холодно и пахло мокрой шерстью. Кириллов долго молчал, глядя, как капли дождя стекают по лобовому стеклу, искажая огни города. Бумажный призрак, которого они преследовали весь день, обрел имя, но стал еще более неуловимым. Он превратился в настоящего призрака, растворившегося на просторах подмосковных лесов.
– Что теперь, товарищ майор? – нарушил тишину Соколов. Его голос звучал устало. День, начавшийся с энтузиазма, заканчивался полным тупиком.
Кириллов повернул ключ в замке зажигания. Двигатель недовольно ожил.
– Теперь, лейтенант, мы начинаем искать не человека, который в отпуске по болезни. Мы начинаем искать пропавшего без вести. Завтра с утра вы едете в управление и запрашиваете через местное отделение милиции списки всех садовых товариществ в Клинском районе. А я… я еще раз вернусь в архив.
– Зачем? Мы же там все перевернули.
– Не все. Мы искали один поезд. А теперь я хочу посмотреть на работу диспетчера Ситникова за последний год. Я хочу понять его почерк. Не тот, что на бумаге, а его рабочий почерк. Его привычки, его ошибки, его стиль. Я хочу понять, как работал человек, прежде чем он исчез. Где-то в этих бумагах должен быть отпечаток настоящего Ситникова. И он будет сильно отличаться от того идеального штампа, который нам подсунули.
Он тронул машину с места. «Волга» медленно выехала из двора, вливаясь в бесконечный поток красных и белых огней. Расследование больше не было статичным изучением документов. Оно превратилось в гонку. Гонку против тех, кто умел заставить исчезнуть не только пятьдесят семь вагонов с углем, но и живого человека, оставив после него лишь несколько безупречных, мертвых подписей. И Кириллов чувствовал, что времени у них очень мало.
Человек, которого не было в расписании
Поиски дачи Ситникова в Клинском районе оказались упражнением в бессмысленности. Два дня Кириллов и молодой, полный рвения Соколов, мотались на казенной «Волге» по раскисшим проселочным дорогам, от одного садового товарищества к другому. Они беседовали с сонными сторожами, пахнущими перегаром и сырой овчиной, с недоверчивыми председателями правлений, изучавшими их документы так, словно это были не удостоверения прокуратуры, а заявки на дефицитную стенку. Фамилия «Ситников» всплывала трижды, но ни один из Ситниковых не был тем самым, диспетчером с Перово-Сортировочной. Они были слесарем, бухгалтером и пенсионером союзного значения.
К концу второго дня Соколов сник. Его энтузиазм, яркий и новый, как его служебное пальто, потускнел и пропитался запахом осенней гнили и безнадежности. Он молча смотрел в окно на проносящиеся мимо почерневшие деревья и бесконечные заборы. Кириллов же, казалось, не испытывал ничего. Он сидел за рулем, прямой и собранный, его взгляд был прикован к дороге, а мысли работали в своем, недоступном для лейтенанта, ритме. Он не искал человека. Он изучал паттерн его отсутствия. Слишком удобный больничный. Слишком своевременный отъезд. Слишком туманный адрес. Кто-то не просто убрал Ситникова со сцены, но и тщательно стер следы его ухода, оставив лишь удобную для следствия, но совершенно непроверяемую версию. Это была работа профессионала.
Вернувшись в Москву, в свой кабинет, пропахший табаком и холодной пылью, Кириллов отпустил Соколова, а сам еще долго сидел за столом, разложив перед собой копии документов с поддельной подписью. Факсимиле. Идеальная, мертвая копия. Это был центр всей конструкции, ее краеугольный камень. И этот камень указывал на пустоту. Человека не было. Не было в ту ночь на своем посту, не было дома, не было на даче. Он превратился в функцию, в подпись на бумаге, которая санкционировала движение поезда-призрака.
Кириллов понимал, что уперся в стену. Не в стену молчания или прямого противодействия – это было бы проще. Он уперся в стену чужой, непонятной ему логики. Он мог распутать любой узел, связанный человеческой жадностью, страхом или ненавистью. Но здесь узел был завязан из рельсов, семафоров и расписаний. Он не знал этого языка. Он читал отчеты, но не понимал музыки, которая звучала за цифрами и терминами. Он мог допросить сотню человек, но не мог допросить систему, которая стала соучастницей преступления. Ему нужен был переводчик.
На следующее утро он сидел в приемной Громова. Полковник принял его сразу, что было плохим знаком. Значило, что с самого верха тоже ждут, нервничают, и это нервное напряжение, спускаясь по иерархической лестнице, било по вискам мелкой, раздражающей дрожью.
– Ну? – Громов не предложил сесть. Он стоял у окна, массивный, втиснутый в китель, и смотрел на унылый двор-колодец.
– Ситников исчез. Официально – на больничном, уехал на дачу. Фактически – испарился. Подписи на документах в ночь пропажи состава – подделка. Вероятнее всего, факсимиле.
Громов медленно обернулся. Его лицо было непроницаемым, как серое сукно его стола.
– Факсимиле? Это меняет дело. Значит, его либо убрали, либо он в деле и спрятался. Что с дачей?
– Адреса нет. Соседи слышали что-то про Клинский район. Два дня поисков ничего не дали. Это след в никуда. Намеренно оставленный.
– Плохо, майор. Очень плохо. – Громов прошелся по кабинету. Скрипнули половицы. – Из министерства звонят каждый час. Спрашивают, как продвигается «проверка по факту недостачи». Недостачи, понимаешь? Четырех тысяч тонн угля и пяти вагонов с оборудованием. Это уже не недостача. Это дыра в государственной границе.
– Мне нужно понять, как это было сделано, – тихо сказал Кириллов. – Не юридически, а технически. Я смотрю на графики и журналы, и я вижу идеальный порядок. Мне нужен тот, кто увидит в этом порядке изъян.
Громов остановился, посмотрел на Кириллова долгим, тяжелым взглядом. Он словно взвешивал что-то на невидимых весах.
– Есть человек. В Управлении движения. Инженер-логист. Волкова. Елена Сергеевна.
– Хороший специалист?
– Лучший. – Громов хмыкнул, и в этом звуке не было веселья. – Она думает графиками движения. Говорят, может на слух, по стуку колес, определить неисправность стрелочного перевода за пять километров. Но… – он сделал паузу, – характер у нее, как рельс после мороза. Хрупкий и острый. Своенравная. Начальство не жалует. Считает всех вокруг, особенно нас, людей в погонах, дилетантами с прямолинейным мышлением. Три года назад пыталась поднять шум из-за каких-то «левых» порожняков. Ей быстро и доходчиво объяснили, что совать нос в работу смежных ведомств не входит в ее должностные обязанности. С тех пор замолчала. Ушла в свои схемы. Но мозги у нее – вычислительная машина. Иди к ней. Только не говори, что от меня. Скажи, плановая консультация в рамках дела. И будь готов к тому, что она тебя выставит за дверь через пять минут.
Управление движения занимало несколько этажей в том же сером, монументальном здании министерства. Но воздух здесь был другим. Он был пронизан не запахом архивов и сургуча, а озоном от работающей техники, едва уловимым ароматом горячей бумаги из ротапринтов и крепкого чая. Коридоры были оживленнее, по ним сновали люди с папками и рулонами ватмана, их разговоры были полны непонятных Кириллову терминов: «нитки графика», «пропускная способность», «оборот вагона». Это был нервный центр системы, ее мозг.
Кабинет Волковой он нашел в конце длинного коридора. Табличка на двери была строгой: «Инженер-логист Волкова Е.С.». Без должностей и регалий. Кириллов постучал.
– Войдите, – донесся из-за двери резкий, почти мужской голос.
Он вошел в небольшую комнату, больше похожую на чертежную мастерскую, чем на кабинет. Места для посетителей здесь не было предусмотрено. Почти все пространство занимал огромный стол, заваленный картами, схемами и графиками, начерченными на миллиметровке. На стенах висели гигантские схемы железнодорожных узлов, испещренные цветными линиями и пометками. Пахло карандашной стружкой и той особой пылью, которая бывает только на старых бумагах.
За столом, спиной к двери, склонившись над огромным листом ватмана, стояла женщина. Кириллов видел только ее прямую спину, затянутую в строгий серый свитер, и темные волосы, собранные в тугой, тяжелый узел на затылке. Она не обернулась на его приход, продолжая вести тонкую линию длинной металлической линейкой. Ее движения были точными, экономными, лишенными малейшей суеты.
– Я слушаю, – сказала она, не отрываясь от работы. Голос был ровный, холодный, не предполагающий светской беседы.
– Майор Кириллов, транспортная прокуратура.
Женщина закончила линию, аккуратно отложила рейсфедер. Только после этого она медленно выпрямилась и обернулась.
Ей было чуть за тридцать. Лицо строгое, с высокими скулами и четко очерченным подбородком. Без косметики. Но главной деталью были глаза. Большие, темно-карие, с таким прямым и умным взглядом, что Кириллову на мгновение стало не по себе. В этом взгляде не было ни женского кокетства, ни чиновничьего подобострастия. Только спокойная, немного усталая оценка. Она смотрела на него так же, как, наверное, смотрела на сложную схему – выискивая ошибки и несоответствия.
– Прокуратура? – она слегка изогнула тонкую бровь. – Чем могу быть полезна? У вас проблемы с расписанием электричек? Или вы опять потеряли вагон с тушенкой на подъездных путях консервного завода?
В ее голосе звучала неприкрытая ирония. Громов был прав.
– У меня пропал состав, – так же ровно ответил Кириллов. – Пятьдесят семь вагонов. Четыре тысячи тонн. На перегоне Москва-Люберцы.
Она смотрела на него несколько секунд, не меняя выражения лица. Затем взяла со стола чашку с остывшим чаем, сделала глоток.
– Состав не может «пропасть», майор. Он может сойти с рельсов. Он может ошибочно уйти на другую ветку. Его могут задержать на станции по технической неисправности. Но «пропасть» – это термин из сказок, а не из железнодорожной логистики. У вас есть номер состава и дата?
– Четыреста второй. Ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое октября.
Волкова подошла к огромному шкафу-картотеке, выдвинула один из ящиков, перебрала висевшие на металлических стержнях графики. Ее пальцы двигались быстро и уверенно. Она извлекла большой, разграфленный лист.
– Четыреста второй, грузовой, транзитный. Принят с Перово-Сортировочной в ноль три пятнадцать. Проследовал по Казанской в ноль три сорок семь. Прибытие в Орехово-Зуево по графику – пять тридцать. Все зафиксировано. Все отметки на местах. Диспетчеры – Шубин на Казанской, Логинов на Люберцах. Бригада – Ковалев, Синицын. Локомотив ВЛ10, номер семьсот сорок два. Что именно у вас «пропало»? Бумаги на месте.
Она говорила отрывисто, чеканя факты, словно забивая гвозди.
– Бумаги на месте, – подтвердил Кириллов. – Состава нет. В Орехово он не прибыл. Никто из смен на перегоне его не видел. Никто из путевых обходчиков. Никто из дежурных на переездах. Он прошел по документам, но не по рельсам.
Елена Волкова впервые посмотрела на него с проблеском интереса. Легкая насмешка в ее глазах сменилась профессиональным любопытством. Она подошла обратно к своему столу, но не села. Осталась стоять, скрестив руки на груди. Защитная поза.
– То есть, вы хотите сказать, что вся система диспетчерской централизации, все журналы, все отчеты машинистов и дежурных по станциям сфальсифицированы? Десятки людей вступили в сговор, чтобы зафиксировать прохождение несуществующего поезда? Майор, вы представляете масштаб? Это невозможно.
– Я тоже так думал. Но есть одна деталь. Диспетчер станции отправления, Перово-Сортировочной, Павел Ситников, который должен был дать поезду «зеленую улицу», в ту ночь на работе отсутствовал. Он был на больничном. Все документы за ту смену подписаны его факсимиле.
Кириллов наблюдал за ее реакцией. Она не удивилась, не ахнула. Она нахмурилась, и в глубине ее темных глаз что-то щелкнуло. Инженер увидел в его словах не криминальную драму, а красивую техническую задачу. Невозможную задачу.
– Факсимиле… – повторила она почти шепотом. – Это изящно. Это убирает человеческий фактор на ключевом этапе. Значит, след ведет не к десяткам людей, а к одному оператору. К тому, кто сидел за пультом вместо Ситникова и имел доступ к штампу. И этот человек создал фантом. Но…
Она замолчала, подошла к стене, к огромной схеме Московского узла. Ее палец проследил тонкую зеленую линию, обозначавшую главный путь.
– Но это не решает главной проблемы. Хорошо, он создал бумажный след. Но куда делся настоящий состав? Чтобы он исчез, его нужно было куда-то увести. Увести с главного, самого загруженного хода страны. Незаметно. Это как… – она искала сравнение, – как вывести слона с Красной площади в полдень так, чтобы никто не заметил. Все боковые ветки, все отстойники, все подъездные пути – они тоже контролируются. Каждый стрелочный перевод фиксируется. Каждое движение оставляет след на ленте самописца. Чтобы увести пятьдесят семь вагонов, нужно создать для них отдельный, неучтенный маршрут. Это… это требует не просто сговора. Это требует власти над самой системой.
Она обернулась к Кириллову. Взгляд ее горел. Это был азарт исследователя, столкнувшегося с аномалией, нарушающей все известные законы.
– Что еще у вас есть? – спросила она уже другим тоном. Не как чиновник, а как соучастник.
– Ничего, – честно ответил Кириллов. – Только этот факт. Идеальные документы и отсутствие поезда. Я иду по бумажному следу, и он приводит меня в никуда. Поэтому я здесь. Я не понимаю, как работает ваш мир. Я вижу только результат. Я не вижу механизма.
Елена долго молчала. Она снова отвернулась к столу и невидящим взглядом смотрела на свои чертежи. Кириллов чувствовал напряжение, которое заполнило комнату. Он ждал. Он понимал, что сейчас решается, получит он ключ или уйдет ни с чем.
Наконец, она взяла чистый лист бумаги и остро заточенный карандаш.
– Хорошо, майор. Давайте забудем про ваше уголовное дело. Давайте рассмотрим это как теоретическую задачу. Условие: необходимо убрать с главного хода грузовой состав, создав при этом полную иллюзию его штатного прохождения. Решение…
Ее карандаш забегал по бумаге. Она не рисовала, она думала линиями. Появились параллельные прямые – пути. Короткие косые черточки – стрелки. Кружки – семафоры.
– Прямая фальсификация в лоб не сработает. Слишком много дублирующих систем контроля. Слишком много глаз. Значит, нужно искать не ошибку в системе, а ее… конструктивную особенность. Мертвую зону. То, что считается не багом, а фичей.
Она постучала кончиком карандаша по нарисованной схеме.
– Смотрите. Движение регулируется светофорами, которые управляются с поста централизации. Занятость каждого отрезка пути, так называемого блок-участка, отображается лампочкой на пульте диспетчера. Пока участок занят – горит красный. Диспетчер видит на своей мнемосхеме цепочку красных огней, ползущую по схеме. Для него это и есть поезд. Он не смотрит в окно. Он смотрит на пульт.
– Шубин, диспетчер с Казанской, так и сказал. «Я действовал согласно показаниям приборов».
– Естественно, – кивнула Волкова. – Это его работа. Но что, если приборы лгут? Система автоблокировки работает по принципу рельсовой цепи. Колесная пара замыкает цепь, система фиксирует занятость. А если… если на короткое время в этой цепи создать помеху? Или шунтировать ее? Теоретически, можно заставить систему «думать», что участок свободен, хотя на нем стоит состав. Это сложно. Требует специального оборудования и прямого доступа к релейному шкафу. Но это возможно.
Она нарисовала небольшой прямоугольник рядом с линией пути. «Релейный шкаф».
– Это первое. Как стать невидимкой. Но этого мало. Нужно время. Чтобы отцепить состав, перегнать его на боковой путь, нужно «окно» в графике. А на этом участке движение плотное, как на Садовом кольце в час пик. «Окна» дают только для ремонтных работ, и это оформляется приказом за подписью замминистра. Такого приказа не было, вы бы знали.
Кириллов молча кивнул.
– Значит, «окно» нужно было создать искусственно. Как? Задержать на предыдущей станции один-два встречных поезда. Под любым предлогом – неисправность локомотива, проверка документов, что угодно. Десять-пятнадцать минут задержки здесь, десять там… И вот у вас уже есть полчаса чистого времени на главном ходу. Полчаса тишины. Для этого нужен сговор диспетчеров уже на нескольких станциях. Это сложнее, но все еще в рамках возможного.
Она снова посмотрела на схему на стене, потом на свой рисунок.
– Итак, у нас есть невидимость и у нас есть время. Теперь нужен путь. Куда его можно было спрятать? – ее палец снова забегал по большой карте. – Не в тупик. Не на подъездной путь действующего завода. Слишком рискованно. Нужна заброшенная, но исправная ветка. Таких много вокруг Москвы. Остались от старых торфоразработок, песчаных карьеров, военных строек. Многие из них даже не на всех картах есть. Официально они списаны, разобраны, но по факту – рельсы лежат. Стрелочный перевод на главный путь демонтирован, но… восстановить его для знающего человека – дело нескольких часов.
Она обвела на своей импровизированной схеме короткий отросток, уходящий в никуда.
– Теоретический сценарий, майор. Ночь. На перегоне искусственно создается «окно» в двадцать-тридцать минут. Состав четыреста второй останавливается в заранее определенном месте. Рядом – релейный шкаф и съезд на старую, неучтенную ветку. Группа путейцев быстро монтирует стрелочный перевод. Одновременно с помощью спецоборудования шунтируется рельсовая цепь на главном ходу. Для системы диспетчеризации поезд просто стоит на красном сигнале, что не является чем-то из ряда вон выходящим. Потом, когда встречные поезда проходят, ему дают «зеленый». Но на пульте диспетчера загорается лампочка следующего блок-участка, а сам состав в этот момент медленно уходит на боковую ветку. Маневровый тепловоз утаскивает его вглубь леса, на пару километров. На главном ходу остается только локомотив.
Кириллов слушал, и в его голове хаотичный набор фактов впервые начал складываться в стройную, пугающую картину.
– А дальше? – спросил он.
– А дальше локомотив ВЛ10, уже без вагонов, продолжает свой путь. Он легкий, быстрый. Нагоняет график. Диспетчер на следующей станции видит на пульте прибытие поезда, машинист докладывает по рации. Все в порядке. На бумаге все сходится. А то, что за локомотивом нет пятидесяти семи вагонов… Так кто ж их ночью считает? Особенно если бригада в сговоре. Они прибывают в Орехово, сдают локомотив, подписывают документы и исчезают. А состав стоит на мертвой ветке, в десяти километрах от главного хода, и ждет, когда его по частям разберут и вывезут.
Она отложила карандаш. Ее лицо было серьезным, на щеках проступил легкий румянец от возбуждения.
– Это только теория, майор. Одна из возможных версий. Очень сложная, требующая безупречной координации, технических знаний, власти и ресурсов. Это не работа группы воров. Это работа… структуры. Системы внутри системы.
Кириллов молча смотрел на схему, нацарапанную на листе. Это была карта преступления, которое он искал. Пустая и холодная, как сама логика, стоявшая за ним.
– Это больше, чем все, что у меня было за последние дни, – сказал он. – Это дает направление. Заброшенные ветки. Релейные шкафы. Задержки поездов на смежных участках.
– Ищите не там, где пропало, а там, где создавали условия для пропажи, – сказала Волкова, возвращаясь к своему обычному, холодному тону. Словно опустила забрало. – Проверьте журналы диспетчеров станций Перово, Кусково, Железнодорожная. За сутки до и в день происшествия. Ищите любые, даже самые незначительные задержки встречных и попутных поездов. Ищите «окна». И… – она помедлила, – будьте осторожны, майор. Люди, способные на такое, не оставляют свидетелей. И не любят, когда кто-то пытается прочесть их схемы.
Она демонстративно взяла в руки рейсфедер и снова склонилась над своим ватманом, давая понять, что консультация окончена.
Кириллов постоял еще мгновение, глядя на ее склоненную голову, на тугой узел волос, на тонкую, уверенную линию, которую она вела по бумаге. Он пришел сюда за помощью к инженеру, а нашел нечто большее. Он нашел человека, который говорил с системой на одном языке. И этот человек только что перевел для него первое слово в смертельно опасном предложении.
Он вышел из кабинета, не прощаясь. В коридоре гудел все тот же деловой улей. Но теперь для Кириллова этот гул обрел смысл. Он шел по нервному центру гигантского организма, и теперь у него была карта его тайных, больных клеток. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Оно покатилось, как одинокий вагон с сортировочной горки, набирая скорость и устремляясь в темноту неизвестного пути. И Кириллов не знал, что ждет его в конце этого пути – ответ или обрыв.
Холодный уголь на заброшенной ветке
Сырая октябрьская взвесь, висевшая над подмосковными перелесками, была гуще и холоднее, чем в городе. Она оседала на лобовом стекле «Волги» не каплями, а сплошной мутной пленкой, с которой едва справлялись устало скрипящие дворники. Кириллов вел машину ровно, не отвлекаясь на разговоры, которые пытался завести Соколов. Его мысли все еще находились там, в тесном, пахнущем карандашной стружкой кабинете инженера Волковой, среди схем и графиков. Теория, изложенная ею с холодной, почти математической страстью, была одновременно и спасением, и приговором. Она давала направление, но указывала на такую глубину, в которой легко было утонуть без следа.
Они объезжали Московский узел по внешнему кольцу, сворачивая на каждую дорогу, которая вела к железнодорожному полотну. Это было похоже на прочесывание местности в поисках гильзы, когда само поле боя простиралось на сотни квадратных километров. В руках у Соколова лежал развернутый на коленях атлас и несколько листов старых, еще довоенных планов железнодорожных сетей, которые Кириллов затребовал из архива МПС тем же утром. Современные карты были бесполезны. Они искали то, чего официально не существовало.
«Она сказала искать „окна“», – произнес Кириллов, нарушая долгое молчание. Голос его был глухим, впитавшим усталость и табачный дым. «Задержки поездов. Любые. За сутки до и в день исчезновения состава. Станции Перово, Кусково, Железнодорожная. Этим займешься, когда вернемся. А сейчас мы ищем не поезд. Мы ищем место. Призрак пути на теле системы».
Соколов с энтузиазмом ткнул пальцем в карту. «Вот, товарищ майор. Подъездной путь к старому кирпичному заводу. Закрыт в шестьдесят девятом. Судя по схеме, отходит от главного хода как раз между Люберцами и Панками».
Десять минут спустя их «Волга» вязла в раскисшей глине проселочной дороги, упираясь в шлагбаум с выцветшей табличкой «Проезд запрещен». Дальше они шли пешком. Путь действительно был. Две ржавые нитки рельсов, утопавшие в бурьяне и мелком кустарнике, вели к полуразрушенным корпусам из красного кирпича. Место было глухое, идеальное для тайных дел. Они потратили почти час, обходя территорию. Нашли следы кострищ, битые бутылки, но ничего, что указывало бы на недавнее присутствие пятидесяти семи вагонов. Рельсы у самого завода были разобраны, стрелочный перевод со стороны магистрали демонтирован и срезан автогеном много лет назад. Тупик.
«Не то», – коротко бросил Кириллов, разглядывая срез рельса. Ржавчина на нем была старой, глубокой, словно кора дерева. «Сюда можно пригнать один вагон на дрезине, но не целый состав. Стрелку восстанавливали бы дольше, чем длилось „окно“».
Они вернулись к машине. Дворники снова заскрипели, размазывая по стеклу серую морось. День клонился к вечеру, который ничем не отличался от утра. Они проверили еще два места: заброшенный песчаный карьер и подъездной путь к расформированной воинской части. Результат был тот же. Следы запустения, следы случайных людей, но не следы преступления такого масштаба. Соколов заметно сник. Его утреннее рвение, подогретое изящной логикой Волковой, разбивалось о глухую, безразличную реальность. Он искал разгадку, а находил лишь мусор и тлен.
Кириллов, казалось, не испытывал ничего похожего на разочарование. Он методично, как патологоанатом, исследовал мертвые ткани железнодорожной сети. Его взгляд цеплялся не за очевидное, а за аномалии. За другой тип щебня на насыпи, за свежий скол на старой бетонной шпале, за масляное пятно там, где его быть не должно. Он не ждал быстрой удачи. Он знал, что люди, способные заставить исчезнуть поезд, не оставят за собой явных улик. Они оставят несоответствие. Крошечный сбой в общем порядке вещей. И именно его он и искал.
«Давайте на сегодня все, товарищ майор», – наконец не выдержал Соколов, когда сумерки начали сгущаться, превращая перелески в сплошную темную массу. «Мы уже ничего не увидим. Завтра с утра…»
«Завтра мы продолжим», – перебил Кириллов, не сбавляя скорости. Он смотрел прямо перед собой, на убегающую в серую мглу ленту асфальта. «Они работали ночью. И мы будем работать, пока есть хоть какой-то свет».
Он свернул с шоссе на едва заметный съезд, отмеченный покосившимся столбиком с полустертой цифрой. Дорога, выложенная бетонными плитами, поросшими мхом, вела вглубь леса. На карте Соколова здесь не было ничего.
«Куда мы?» – спросил лейтенант.
«Не знаю», – честно ответил Кириллов. «Эта дорога. Плиты старые, но уложены основательно. Не для колхозных грузовиков. Для чего-то тяжелого».
Через километр дорога оборвалась. Дальше начинался густой смешанный лес. Они вышли из машины. Воздух был неподвижным и влажным, пах прелой листвой и грибной сыростью. Тишина давила, нарушаемая лишь звуком капель, падающих с веток. Кириллов достал из бардачка мощный фонарь, похожий на небольшую гирю. Его желтый луч вырвал из темноты заросшую просеку, слишком широкую для обычной лесной тропы. И в центре этой просеки, почти полностью скрытые под слоем дерна и опавшей хвои, виднелись они. Шпалы. Старые, почерневшие от времени, но еще целые.
Они пошли вдоль этой едва угадываемой линии. Фонарь выхватывал из мрака призрачные детали: остатки телеграфного столба с обрывками проводов, вросший в землю кусок рельса, бетонный фундамент какой-то давно снесенной постройки. Это место было вычеркнуто из жизни, но его скелет все еще лежал здесь, под покровом леса.
«Торфоразработки», – тихо сказал Соколов, сверяясь со старым планом. «Закрыты в начале пятидесятых. Ветка должна была быть полностью разобрана. Есть акт о списании».
«Бумага все стерпит», – отозвался Кириллов. Он остановился и направил луч фонаря под ноги. Сквозь мох и землю проступала сталь. Он присел на корточки, счистил ладонью мокрые листья. Рельс был на месте. Не ржавый трухлявый остов, как на кирпичном заводе, а цельный, покрытый лишь тонким налетом патины. Кто-то заботился об этом пути. Или использовал его совсем недавно.
Они шли еще около получаса. Лес становился все гуще, а следы заброшенной ветки – все отчетливее. Здесь уже не было сплошного ковра из дерна, шпалы лежали почти на поверхности, а между рельсами виднелся свежий, не успевший зарасти отпечаток тяжелой гусеничной техники. Сердце Соколова забилось чаще. Он чувствовал, что они на верном пути, что холодная теория инженера Волковой прямо здесь, под их ногами, обрастает плотью.
Просека вывела их на небольшую поляну. Посреди нее, словно доисторический идол, стоял ржавый семафор с опущенным крылом, застывшим в запрещающем сигнале. Стекла в его фонарях были выбиты, краска облупилась, обнажив пятнистый от ржавчины металл. Это был последний страж мертвого пути, забытый часовой на несуществующей границе.
Кириллов медленно обошел его, освещая фонарем со всех сторон. Основание семафора было вмуровано в массивный бетонный блок, поросший зеленым мхом. И именно здесь, у подножия этого бетонного блока, он увидел то, что искал.
Это было не сразу заметно. Не россыпь, не гора. Просто темное, почти черное пятно на влажной земле, присыпанное хвоей. И рядом – обрывки грубой мешковины, зацепившиеся за корень дерева. Кириллов снова опустился на корточки. Он надел тонкую кожаную перчатку, которую всегда носил во внутреннем кармане плаща, и зачерпнул горсть.
Это был уголь. Не крошка, не пыль. Крупные, с острыми, блестящими на свету фонаря изломами, куски. Антрацит. Холодный и тяжелый. Он поднес его к лицу. Запаха почти не было, только слабый, едва уловимый дух каменноугольной пыли и сырой земли. Он повертел в руке один из кусков. Твердый, плотный, с характерным радужным отливом. Именно такой уголь высшего сорта значился в накладных на состав номер четыреста два.
«Нашли», – выдохнул Соколов. В его голосе смешались восторг и страх. «Она была права. Во всем права».
Кириллов не ответил. Он высыпал уголь обратно и поднялся. Его взгляд был прикован не к углю. Он смотрел на землю вокруг семафора. На щебень, которым была отсыпана площадка. Щебень был старый, слежавшийся, но в нескольких местах его поверхность была нарушена. И там виднелись следы. Не человеческие. Не следы трактора. Глубокие, широкие колеи от очень тяжелой техники. От многоосного грузовика или тягача. И эти следы вели не вдоль путей. Они пересекали их и уходили в сторону, в самую чащу леса.
«Смотрите», – сказал Кириллов, и его голос в ночной тишине прозвучал необычно громко.
Он пошел по этим следам. Луч фонаря прыгал по стволам деревьев, выхватывая из темноты смятую траву, сломанные ветки. Кто-то проложил здесь временную дорогу, проломился сквозь подлесок. Метров через пятьдесят следы обрывались. Просто исчезали на пятачке, где земля была особенно сильно изрыта. Словно огромная машина доехала до этого места и взлетела, испарилась.
«Что за…» – начал Соколов, растерянно озираясь. «Куда они делись?»
«Никуда», – ответил Кириллов, направляя фонарь на стволы ближайших сосен. На высоте двух-трех метров на коре виднелись свежие царапины и ссадины. «Сюда подъезжал кран. Или что-то вроде него. Что-то грузили. С вагонов на машины. Или с машин на вагоны». Он помолчал, обдумывая. «Нет. С вагонов. Уголь рассыпали, когда перегружали. Неаккуратно сработали. Спешили».
Картина становилась все более ясной и одновременно все более чудовищной. Состав увели с главного хода, загнали на эту забытую ветку. Здесь, в глухом лесу, под покровом ночи, его ждали. Не для того, чтобы спрятать. Для того, чтобы разграбить. Но не уголь. Уголь был лишь прикрытием. Пятьдесят два вагона с углем, чтобы замаскировать пять вагонов с чем-то куда более ценным. С «промышленным оборудованием».
Кириллов медленно пошел обратно к семафору. Теперь это место выглядело иначе. Это была не просто точка на карте. Это была сцена преступления. Тщательно спланированного, дерзкого, исполненного с поистине промыш-ленным размахом. Он снова осветил рассыпанный уголь, рваную мешковину. И тут его внимание привлекло что-то еще. Что-то, что он пропустил в первый раз.
В стороне от путей, почти у самой кромки леса, проходила неглубокая, заросшая травой дренажная канава. Из нее торчало нечто темное, бесформенное. Сначала Кириллов подумал, что это еще один мешок или брошенный кем-то сверток старой одежды. Он подошел ближе, направил луч фонаря в канаву.
Желтый свет выхватил из темноты овечий тулуп, заляпанный грязью. Из-под тулупа виднелся край валенка. А рядом, в луже застоявшейся дождевой воды, лежала форменная фуражка путевого обходчика. Она плавала вверх дном, как маленькая неуклюжая лодка, и в ее складках собралась рыжая хвойная игла.
Кириллов замер. Дыхание перехватило. Он сделал шаг вперед, заглянул за воротник тулупа. Лица почти не было видно, оно было вдавлено в мокрую землю. Но Кириллов разглядел седую щетину на щеке и неестественно вывернутую шею. Рядом с головой в траве лежал тяжелый путейский ключ. На его бойке темнело бурое пятно, которое не смогла смыть морось.
Соколов, подошедший сзади, издал сдавленный звук.
«Тихо», – резко бросил Кириллов, не оборачиваясь.
Он медленно выпрямился. Холод, казалось, исходил не от сырого воздуха, а от этой находки. Он проникал под плащ, впитывался в кожу. Это все меняло. Окончательно и бесповоротно. Дело об исчезнувшем поезде, дело о хищении в особо крупном размере, только что превратилось в дело об убийстве. «Убойное дело».
Все встало на свои места. Путевой обходчик. Старик, который по долгу службы должен был знать каждый метр своего участка. Каждую шпалу, каждый стык. Он не мог не заметить, что на мертвой ветке, по которой десятилетиями не ходили поезда, вдруг началась какая-то деятельность. Может, он увидел, как восстанавливают стрелку. Может, услышал шум тепловоза ночью. Он пошел проверить. И стал свидетелем. Ненужным, случайным свидетелем. Тем, кого, по словам Волковой, люди такого склада не оставляют в живых.
Кириллов выключил фонарь. Поляна погрузилась в почти абсолютную темноту. Теперь тишина казалась не пустой, а наполненной. Наполненной смертью. Холодный уголь под ногами, следы, ведущие в никуда, и тело в канаве. Это были первые слова в истории, которую ему предстояло прочесть. И начиналась она не с хитроумной логики и бумажных призраков. Она начиналась с простого, грубого насилия.
«Ничего не трогать», – сказал он в темноту, где стоял оцепеневший Соколов. «Возвращаемся к машине. Вызывай группу. Сюда нужен прокурор-криминалист и вся бригада. Оцепить территорию в радиусе километра. Перекрыть все подходы. Это место – больше не заброшенная ветка. Это место преступления».
Он повернулся и пошел прочь, не дожидаясь ответа. Он больше не смотрел под ноги. Он знал, что нашел то, что искал. Трещину в идеальном механизме. Только теперь он понимал, что эта трещина была не просто сбоем в системе. Она была проломом, через который в упорядоченный мир графиков и расписаний хлынула ледяная, безжалостная тьма. И где-то в этой тьме все еще стоял состав номер четыреста два, нагруженный не только углем, но и чьей-то смертью. Расследование только начиналось.
Разговор под стук колес
Почтово-багажный вагон пах сургучом, дешевым клеем и пылью, осевшей на тысячах писем, чужих судеб, запечатанных в казенные конверты. Он был узким и длинным, как пенал. Вдоль одного борта тянулись стеллажи с ячейками, подписанными названиями городов и станций, вдоль другого – зарешеченные окна, за которыми проносилась рваная темнота подмосковного вечера. Тусклые лампы в металлических плафонах отбрасывали желтый, дрожащий свет на мешки с посылками и двух угрюмых сортировщиков в серых халатах, чьи руки двигались с механической, отработанной годами точностью. Они не разговаривали, погруженные в монотонный ритм своего ремесла. Весь мир вагона подчинялся иному звуку – мерному, всепроникающему перестуку колес. Та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам. Этот звук был здесь вместо времени, вместо воздуха, вместо тишины. Он входил в кровь, настраивал сердцебиение, становился фоном для любых мыслей.
Кириллов стоял у окна в небольшом служебном купе в самом конце вагона, отделенном от основного зала шаткой дверью. Он смотрел не наружу, на мелькающие огни разъездов и темные силуэты деревьев, а на их отражение в грязноватом стекле. Там, позади его собственного плеча, отражалась она. Елена Волкова сидела на жесткой откидной лавке, прямая, собранная, словно металлическая пружина, сжатая до предела. На ней было то же строгое темное пальто, в котором он видел ее в министерстве, но волосы она не собрала в узел, и они темной, тяжелой волной лежали на плечах, что делало ее облик менее официальным и более уязвимым. Она не смотрела на него. Ее взгляд был устремлен на ее собственные руки, лежащие на коленях, – тонкие, с длинными пальцами инженера или пианиста.
Он сам предложил эту встречу. Не в кабинете прокуратуры, где стены впитывают ложь и страх. Не в ее чертежной мастерской, где она хозяйка. А здесь, на нейтральной территории, в пространстве, которое было родным для них обоих. В движении. Железная дорога развязывает языки. Ритм пути убаюкивает бдительность, а постоянная смена картинки за окном создает иллюзию, что и сказанное здесь так же мимолетно, как и пролетающий пейзаж.
«Вы рисковали, приглашая меня сюда», – сказала она, когда поезд, дернувшись, тронулся с Казанского вокзала. Это были ее первые слова за десять минут. Голос ровный, без вопросительной интонации. Констатация факта.
Кириллов не обернулся. «Риск – понятие относительное. Иногда больший риск – сидеть на месте».
«Обычно люди вашей профессии предпочитают, чтобы объекты их интереса сидели на месте. Желательно на стуле, к которому прикручена лампа».
В ее голосе снова прозвучала та колючая ирония, которую он заметил при первой встрече. Защитная реакция. Броня, отработанная годами столкновений с неповоротливым, преимущественно мужским миром инструкций и предписаний.
«У меня нет к вам вопросов как к объекту, Елена Сергеевна, – он все же повернулся к ней. – У меня есть вопросы к специалисту. То, что вы мне рассказали… ваша теория… она нашла подтверждение».
Он сделал паузу, внимательно глядя на нее. Она не отреагировала, только чуть плотнее сжала пальцы.
«На одной из заброшенных веток, о которых вы говорили, мы нашли следы угля. Антрацит, идентичный тому, что был в накладных на состав четыреста два».
Она медленно подняла на него глаза. В ее темных зрачках отразился свет лампы, и на мгновение Кириллову показалось, что он видит не любопытство, а что-то другое. Почти страх.
«Это ничего не доказывает, майор. Мало ли где мог просыпаться уголь. Вы нашли место. Это хорошо. Но вы не нашли ни механизма, ни исполнителей».
«Я нашел больше, – сухо сказал он. – Там же, в нескольких метрах от полотна, мы нашли труп. Путевой обходчик с местного околотка. Убит ударом по голове. Дело перестало быть просто хищением».
Отражение в стекле дрогнуло. Елена резко выпрямилась, и пружина внутри нее, казалось, натянулась до звона. Легкий румянец, появившийся на ее щеках от холода на перроне, исчез. Лицо стало бледным, почти прозрачным. Теперь в ее глазах он ясно видел страх. Не за себя. Это был страх человека, который предупреждал о трещине в плотине, но его не слушали, а теперь плотину прорвало, и первая жертва уже унесена потоком.
«Я же говорила вам… – прошептала она, и голос впервые изменил ей, стал глуше. – Я говорила быть осторожным. Эти люди… они не воруют вагонами, майор. Они мыслят категориями путей, графиков, целых направлений. Человеческая жизнь для них – лишь досадная помеха в расписании. Неучтенная остановка».
Она встала и подошла к соседнему окну, вглядываясь в темноту, будто там можно было найти ответ. Поезд набрал скорость. Перестук колес стал чаще, превратился в сплошной, гипнотический гул. Вагон слегка покачивало.
«Теперь вы понимаете, почему мы говорим здесь, а не в кабинете?» – спросил Кириллов.
Она кивнула, не оборачиваясь. «Прослушка – это меньшее из зол. Хуже, когда разговор просто обрывается. Вместе с тем, кто его начал».
Они помолчали. За стеной сортировщики с глухим стуком перекидывали очередной мешок. Поезд вошел в кривую, и центробежная сила слегка прижала их к стенам вагона.
«Расскажите мне о „слепых зонах“, – попросил Кириллов. – Не как теоретическую возможность. Как практику. Вы работаете в системе. Вы должны были слышать. Слухи, обрывки фраз, странные несовпадения в отчетах, которые все списывают на ошибку».
Елена обернулась. Броня исчезла. Перед ним стояла не язвительный инженер, а усталая женщина, которая слишком много знала и слишком долго молчала.
«Это не „слепые зоны“ в прямом смысле, – заговорила она медленно, подбирая слова. – Система тотального контроля – это миф для партийных съездов. Железная дорога – живой организм, слишком огромный, слишком сложный. Его невозможно контролировать полностью. Всегда есть зазоры. Технологические „окна“ для ремонта, которые можно искусственно растянуть. Устаревшее оборудование на малодеятельных участках, которое проще списать на бумаге, чем заменить. Человеческий фактор, в конце концов. Диспетчер, который верит лампочке на пульте больше, чем собственным глазам, потому что за показания приборов его не накажут, а за самодеятельность – снимут голову».
Она снова села, достала из сумочки блокнот и карандаш. Привычное действие, казалось, вернуло ей часть самообладания. Ее пальцы забегали по бумаге, но она не рисовала, она думала на бумаге, как и в прошлый раз.
«Ваша схема с подменой состава на главном ходу через восстановленную стрелку на заброшенную ветку… она элегантна, – продолжала она, не поднимая головы. – Но она требует слаженной работы десятков людей. Путейцев, связистов, диспетчеров на нескольких постах, локомотивной бригады. Это слишком шумно. Слишком много свидетелей, даже если они все в сговоре. Настоящие мастера работают тише. Они не ломают систему. Они используют ее скрытые возможности».
Ее карандаш замер. Она подняла взгляд на Кириллова.
«Вы слышали когда-нибудь о „литерных“ поездах? Правительственные, воинские эшелоны. Они идут вне общего графика. Для них создают „зеленую улицу“. Расчищают пути, задерживают другие составы. Их прохождение отмечается в особых журналах, доступ к которым строго ограничен. А теперь представьте, что существует „теневой литер“. Поезд, которого нет в обычных расписаниях, но для которого система работает так же, как для настоящего. Диспетчер получает устное указание по закрытой связи: „Принять и пропустить без задержек“. Он не спрашивает, что это за поезд. Он выполняет приказ, потому что приказ отдан голосом, которому не возражают. Этот поезд-призрак проходит через станции, его никто не видит в упор, потому что никто не хочет видеть то, чего видеть не положено. А на бумаге… на бумаге в это время идет какой-нибудь плановый порожняк или хозяйственный поезд. Простая подмена в документах на одном, ключевом уровне».
Кириллов слушал, и ледяное, математически выверенное здание ее теории обрастало плотью реальности. Это не было просто хищением. Это была демонстрация власти. Абсолютной, невидимой власти над кровеносной системой страны. Способность пускать по артериям государства тромбы, которые никто не замечал.
«Это требует не просто сговора, – сказал он, повторяя ее же слова. – Это требует… одного человека. Наверху. С доступом к закрытой связи и с властью, достаточной, чтобы его приказ не вызывал вопросов у диспетчера».
