Час отражений
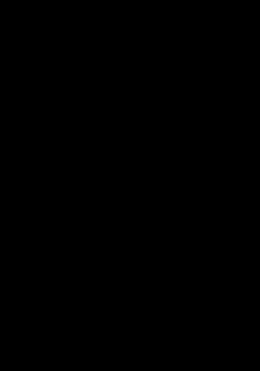
Аркадий Петрович ненавидел Новый год. Для него это было не время чудес, а ежегодное напоминание о бренности бытия, одиночестве и пустоте его безупречной, стерильной квартиры. В этом году он решил провести праздник так, как делал это последние десять лет: за просмотром черно-белого детектива со стаканом дорогого виски, заглушая звуки веселья за стеной.
В 23:50 он вышел на балкон, чтобы выкурить сигарету и в последний раз за год посмотреть на спящий город. Воздух был морозным и острым. Вдруг он заметил нечто странное. Снег, падавший крупными хлопьями, замер в воздухе. Летел себе и вдруг – остановился, словно кто-то нажал паузу. Звуки города – далекие гудки машин, смех из соседней квартиры – стихли, сменившись звенящей, абсолютной тишиной.
Аркадий Петрович замер, сигарета была на полпути к губам. Он посмотрел на часы на соседней башне. Электронное табло показывало 23:59:30. Секунды не шли.
И тут он увидел их. Тени. Они выплывали из подъездов, из переулков, бесшумно скользили по застывшим улицам. Это были не люди, а сгустки мрака, лишь отдаленно напоминающие человеческие фигуры. Они несли в руках странные предметы: старинные фонари, песочные часы, свитки пожелтевшей бумаги.
Одна из теней отделилась от общей массы и направилась к его дому. Аркадий инстинктивно отпрянул с балкона в квартиру, захлопнув дверь. Он задернул шторы, но чувствовал – оно там. Оно ждет.
В дверь постучали. Три раза. Медленно, властно.
Сердце Аркадия заколотилось. Он не собирался открывать, но дверь сама собой тихо отворилась. На пороге стояла тень. Вместо лица – лишь размытый овал. Аркадий почувствовал на себе тяжелый, изучающий взгляд.
– Аркадий Петрович Орлов, – прозвучал голос не в ушах, а прямо в сознании. Он был холодным и безжизненным, как скрип льда. – Год твой окончен. Пришло время подсчета.
– Какого подсчета? Кто вы? – прошептал он, отступая к стене.
– Мы – Хроники. Мы собираем то, что было потеряно. Время, которое ты потратил впустую. Слова, которые не были сказаны. Возможности, которые ты упустил.
Тень парила в воздухе, и из ее складок появился свиток. Он развернулся сам собой, и Аркадий с ужасом увидел, что свиток пуст.
– Твое время не оставило следов, – продолжал голос. – Оно стерлось, как будто его и не было. Такая судьба ждет тех, кто просто пережидает жизнь.
Внезапно с башни прозвучал первый удар курантов. Звук был глухим, далеким, будто доносился из-под толщи льда.
При первом ударе тень на пороге стала четче.
При втором – в квартире погас свет, и зажглось призрачное свечение, исходящее от самого существа.
При третьем – Аркадий увидел в этом свечении мимолетные образы: его молодую жену, которую он бросил из-за карьеры; друга, которому он не помог в трудную минуту.
С каждым ударом образы становились ярче, а боль от этих воспоминаний – острее. Он понимал, что это не просто картинки – это кусочки его собственной души, которые он растерял.
– Десять… одиннадцать… – отсчитывал ледяной голос.
Двенадцатый удар должен был стать приговором. Он чувствовал это. После него он станет таким же, как эти тени – пустым местом, блуждающим в остановившемся времени.
– НЕТ! – закричал Аркадий, и в его крике была вся накопившаяся за годы тоска. – Я не хочу! Я помню! Я все помню!
Он бросился к старому письменному столу, выдернул ящик и начал лихорадочно выбрасывать его содержимое: старые фотографии, письма, безделушки. Он схватил пожелтевшую открытку от дочери, с которой не виделся пять лет. На ней было криво написано: «Папа, с Новым годом! Я тебя люблю!».
Он прижал открытку к груди и, обернувшись к тени, выкрикнул: – Вот! Это не пустое! Это мое! Я хочу ей позвонить! Я хочу все исправить!
Двенадцатый удар курантов прозвучал.
Но он был не глухим, а чистым и мощным, как колокол. Свет в квартире вспыхнул. Ледяной холод отступил. Аркадий стоял, тяжело дыша, прижимая к себе открытку. Тени за дверью не было.
Он подошел к балкону. Снег снова падал, доносились звуки праздника. На часах было 00:01.
С мобильного телефона, лежавшего на столе, пришло уведомление: «Пропущенный звонок: Дочка».
Рука Аркадия дрожала, когда он набирал номер. Услышав сонный голос на другом конце провода, он прошептал: – Аленка, это папа… Прости меня. С Новым годом. Давай встретимся?
В ту ночь Аркадий Петрович впервые за долгие годы не чувствовал себя одиноким. Он понял, что двенадцатый удар – это не конец, а шанс. Шанс начать все с чистого листа, пока время снова не остановилось.
Снег в том году выпал необычайно густой, и деревня Заозерье оказалась отрезанной от всего мира. За три дня до Нового года в дом к одинокой старухе Агафье постучался незнакомец. Он был высок, худощав, одет в длинное черное пальто, с которым, казалось, не расставался лет сто, а в руках держал старый, потрескавшийся кожаный чемодан.
– Добрый вечер, бабушка, – сказал он голосом, в котором звенели колокольчики. – Не приютите путника? Машина моя сломалась на трассе, а до города далеко.
Агафья, женщина суеверная и опасливая, хотела было отказать, но в глазах незнакомца увидела такую бездонную, древнюю печаль, что сердце ее дрогнуло. Она впустила его.
Незнакомец представился Семеном Семенычем и попросил лишь уголок на ночь. Чемодан свой он поставил в сенях и к нему не прикасался. Вечером они сидели за самоваром, и старуха жаловалась на жизнь, на одиночество, на то, что дети разъехались и забыли старую мать. Семен Семеныч молча слушал, а потом сказал:
– Не печальтесь, Агафья Петровна. Я странствующий мастер. Делаю подарки. Особенные. Раз уж вы приютили меня, позвольте и я сделаю вам подарок к Новому году.
– Что вы, что вы, – засуетилась старуха, – не надо мне ничего.
– Но это не просто вещь, – улыбнулся он, и его улыбка была одновременно и доброй, и пугающей. – Этот подарок исполнит ваше самое заветное желание. То, что вы храните в самой глубине души.
Агафья хотела отказаться, но любопытство и тайная надежда оказались сильнее. Она кивнула.
Семен Семеныч вышел в сени и вернулся с чемоданом. Он щелкнул замками, и крышка отворилась с тихим шипением. Внутри, на бархатной подкладке, лежали странные предметы: резная шкатулка из темного дерева, зеркальце в серебряной оправе, кукла в народном платье и несколько сверкающих безделушек неясного назначения.
– Выбирайте, – сказал мастер.
Агафья, недолго думая, указала на самую простую вещь – на небольшую деревянную свистульку в виде птицы.
– Мудрый выбор, – кивнул Семен Семеныч. – Эта птица вернет вам то, что было утеряно. Но помните: подарок работает лишь до последнего удара курантов. После этого его магия иссякнет.
Он отдал свистульку Агафье, закрыл чемодан и удалился на покой.
На следующее утро его не было. Словно он и не появлялся вовсе. А на столе лежала записка: «Спасибо за ночлег. Не забывайте о даре».
Агафья скептически осмотрела свистульку. «Ну, верни мне мою молодость, что ли», – усмехнулась она про себя и подула в нее.
Звука не было. Но в ту же секунду за окном послышался шум двигателя. На заснеженную улицу деревни въехал старенький «Москвич», а из него вышла… она сама. Точная ее копия, какой она была лет сорок назад. Молодая, румяная, в ярком платке. Молодая Агафья шла по улице, смеялась и махала кому-то рукой.
Старуха Агафья онемела от ужаса. Она смотрела в окно, как призрак ее молодости стучится в дома соседей, которые тоже были молоды и полны жизни. Деревня на глазах оживала, возвращаясь в свое прошлое. Но это было жуткое, безмолвное кино, где все двигались и улыбались, но не издавали ни звука.
Она поняла свою ошибку. Она не хотела молодости. Она хотела вернуть то, что было по-настоящему дорого – шумный дом, полный детей, запах пирогов, смех за столом. Она хотела свою семью.
До Нового года оставалось несколько часов. Агафья в отчаянии снова поднесла свистульку к губам и прошептала: «Верни мне их. Верни мой Новый год, каким он был».
На этот раз свистулька издала тихий, мелодичный звук. И в тот же миг в деревне начали появляться новые призраки. Вот ее муж, Василий, еще живой и крепкий, рубит во дворе дрова. Вот ее сыновья, маленькие, катаются с горки. Вот дочка наряжает елку.
Деревня наполнилась призраками прошлого. Они были повсюду: прозрачные, беззвучные, но такие настоящие, что у Агафушки перехватило дыхание. Она выбежала на улицу, пытаясь дотронуться до мужа, но ее рука прошла сквозь него. Она кричала детям, но они ее не слышали.
Это был рай, в который ей было отказано войти. Это было самое жестокое наказание – видеть все, что ты любил, но не иметь возможности это обнять.
И тут она вспомнила слова мастера: «…лишь до последнего удара курантов».
Она побежала обратно в дом, к радио. Было без пятнадцати двенадцать. Она сжала в руке свистульку. Она не могла оставить этих призраков, не могла снова потерять их. Но и жить в этом безмолвном царстве теней было невозможно.
Раздался бой курантов.
Раз…
Призраки начали мерцать.
Два…
Они поворачивались и смотрели на нее.Смотрели с улыбкой.
Три…
Агафья поняла,что они прощаются.
Четыре…
– Нет! – закричала она. – Останьтесь!
Пять… Шесть…
Она поднесла свистульку к губам,чтобы снова дунуть в нее, чтобы остановить время, но сил не было.
Семь… Восемь…
Она упала на колени, рыдая.
Девять… Десять…
Она увидела, как ее муж, Василий, обернулся и в последний раз улыбнулся ей.
Одиннадцать…
– Простите меня… – прошептала она.
Двенадцать…
Тишина.
Она подняла голову. Улица была пуста. Снег падал на спящую, заброшенную деревню. Никого. Только ветер гулял между домами.
В руке у нее была обычная деревянная свистулька. Никакой магии.
Агафья медленно поднялась и побрела в дом. Она села в свое кресло и смотрела на огонек в печке. Но странное дело – в сердце у нее было не пусто. Была боль, была грусть, но была и благодарность. Она увидела их. Она попрощалась. Это был горький, но необходимый подарок.
Она поняла, что настоящее чудо – не в том, чтобы вернуть прошлое, а в том, чтобы суметь отпустить его с миром. И впервые за много лет она тихо и искренне пожелала себе счастливого Нового года.
Маргарита была ребенком-индиго, или, как шептались соседи, «не от мира сего». Она видела то, чего не видели другие. Разговаривала с ветром, с тенями на стене, со старым дубом во дворе. Родители, люди прагматичные и занятые, давно махнули на нее рукой, списав все на богатую фантазию.
За неделю до Нового года папа привез домой огромную, пушистую елку. Маргарита пришла в восторг. Но когда папа начал ее наряжать безделушками из супермаркета, девочка запротестовала.
– Папа, нет! Она же живая! Ей больно! И эти шарики… они пустые. В них нет воспоминаний.
– Каких еще воспоминаний? – устало провел рукой по лицу отец. – Это просто игрушки, Риточка.
– Нет! – уперлась девочка. – Настоящая елка должна быть украшена судьбами. Я сама ее наряжу.
Родители, чтобы избежать истерики, согласились. «Пусть занимается, лишь бы не мешала», – сказала мама.
И Маргарита принялась за работу. Она не полезла в коробку с гирляндами. Вместо этого она побежала в свою комнату и стала собирать свои «сокровища»: приклеенную скотчем пуговицу от папиного пальто, которое он носил, когда они ходили в зоопарк; обертку от конфеты, которую ей купила бабушка за неделю до своей смерти; высохший цветок, подаренный мальчиком из соседнего подъезда; билетик из кино; красивый камушек с моря.
Каждую безделушку она аккуратно привязывала к веткам елки шелковыми ниточками, что-то тихо напевая.
– Смотри, – говорила она елке, – это папина пуговица. Помнишь, как он смеялся, когда обезьяна стащила у него кепку? А это бабушкин леденец. Он сладкий, правда? И горький тоже… А это мой цветочек. Он значит, что кто-то меня любит.
Родители, наблюдая за этим, лишь качали головами. Елка получалась странной, даже немного жуткой. Вместо блеска и мишуры – какая-то рухлядь.
В канун Нового года, когда гости собрались за столом, а по телевизору начался традиционный «Голубой огонек», в квартире вдруг погас свет. За окном тоже была тьма – по всему району отключили электричество.
Началась паника. «Что за безобразие!», «Как теперь праздновать?», «Пропал весь салат!».
И только Маргарита сидела спокойно и смотрела на свою елку.
– Не волнуйтесь, – сказала она. – Сейчас она зажжётся.
– Что ты несешь, ребенок? – раздраженно сказала мама.
Но в ту же секунду с елки посыпался тихий, серебристый свет. Он исходил не от лампочек, а от самих безделушек. Пуговица замерцала теплым, янтарным светом. Обертка от конфеты заиграла нежно-розовыми бликами. Высушенный цветок испускал золотистое сияние. Даже камушек светился, как маленькая луна.
Комната наполнилась мягким, живым светом. Но это было не все. Вместе со светом в воздухе поплыли звуки и запахи.
От пуговицы пахло папиным одеколоном и слышался далекий смех и крики обезьян.
От конфетной обертки веяло духами бабушки и доносился звук ее тихого, хриплого голоса: «Кушай, внученька, кушай…»
От цветка исходил тонкий аромат полевых цветов и слышалось смущённое: «Это тебе…»
Билетик из кино пах попкорном и шептал шуршанием кинопленки.
Каждая безделушка на елке ожила и транслировала в мир кусочек памяти, связанный с ней. Комната превратилась в многоголосый хор ушедших мгновений, в симфонию прожитых эмоций.
Гости застыли в изумлении. Кто-то плакал, кто-то улыбался, кто-то молча смотрел на это чудо.
Отец Маргариты смотрел на мерцающую пуговицу и вдруг ясно вспомнил тот день в зоопарке, как дочка сидела у него на плечах и смеялась так заразительно, что он, уставший и вечно озабоченный, забыл обо всех своих проблемах.
Мама смотрела на обертку от конфеты и вспоминала свою мать, ее добрые руки, ее бесконечную заботу. Она поняла, что дочь унаследовала нечто гораздо большее, чем просто фантазию.
Атмосфера в комнате переменилась. Исчезли раздражение и суета. Люди стали тихими, задумчивыми, настоящими. Они говорили друг с другом шепотом, вспоминали свои собственные истории, делились тем, что было по-настоящему важно.
Свет от елки пульсировал в такт их сердцам, озаряя не столько комнату, сколько их души.
Ровно в полночь, с первым ударом курантов (которые, конечно, не работали, но все их почему-то услышали), елка вспыхнула особенно ярко, ослепительным, чистым светом, а потом так же плавно погасла.
И в тот же миг за окнами и в квартире зажглись обычные электрические огни. Электричество вернулось.
На столе дымился неостывший чай, на экране телевизора продолжала играть телепрограмма. Все было как прежде.
Но люди в комнате были уже другими. Они молча смотрели на скромную елку, украшенную старыми пуговицами и бумажками, как на величайшее сокровище.
Маргарита тихо спала в углу дивана, улыбаясь во сне.
Ее папа подошел к елке и осторожно дотронулся до пуговицы. Она была теплой.
– С Новым годом, дочка, – прошептал он. – Спасибо за твой подарок.
Он понял, что его дочь нарядила не просто елку. Она собрала и зажгла их общую, хрупкую и прекрасную семейную душу.
В большом городе жил человек по имени Лев. Он был «дарителем». Его работа заключалась в том, чтобы в канун Нового года приносить людям именно те подарки, о которых они мечтали. Не он их выбирал – подарки сами «находили» своих хозяев через него. Лев лишь был проводником.
Но был у него и особый, личный ритуал. Каждый год, 31 декабря, в самый разгар веселья, он приходил в старый, заброшенный парк на окраине города. Там, на заснеженной скамейке, он оставлял один-единственный подарок. Маленькую, изящно упакованную коробочку. И уходил, не оглядываясь.
Никто не знал, для кого этот подарок. Сам Лев не знал этого наверняка. Он лишь чувствовал, что должен это делать.
В этом году все пошло не так. Когда Лев вышел из последнего дома, где подарил маленькой девочке щенка, о котором она так мечтала, он почувствовал необычайную усталость. Рука, в которой он держал тот самый, особый подарок, дрожала. Воздух стал густым, вязким, и звуки города начали затихать, как будто кто-то выкручивал ручку громкости.
Он дошел до парка. Было тихо. Слишком тихо. Не слышно было даже скрипа снега под ногами. Мир погрузился в вату абсолютной беззвучности.
Лев подошел к своей скамейке и замер. На ней уже сидел кто-то. Высокий, худой мужчина в длинном плаще цвета пыли. Его лицо было обычным, ничем не примечательным, но на него было страшно смотреть. Казалось, что за этой маской нет ничего. Пустота.
– Привет, Лев, – сказал Незнакомец. Его голос был идеально ровным, без интонаций, и он рождался прямо в голове у Льва, минуя уши. – Я ждал тебя.
– Кто вы? – сумел выдавить Лев. Его собственный голос прозвучал хрипло и чуждо в этой тишине.
– У меня много имен. Ты можешь называть меня Тишиной. Или Забвением. Я – тот, кому ты все эти годы оставлял подарки. Спасибо, кстати. Они были… интересные.
Незнакомец указал на маленькую коробочку в руке Льва.
– А это что? Опять какая-то безделушка, наполненная шумными человеческими эмоциями? Воспоминание? Надежда?
Лев молчал, сжимая подарок.
– Напрасно, – продолжил Незнакомец. – Твоя работа бессмысленна. Ты даришь людям мимолетные радости, которые лишь подчеркивают горечь их будней. Шум, который заглушает тишину их одиночества. Я предлагаю нечто лучшее. Вечный покой. Отсутствие желаний, боли, тоски. Идеальную, благородную тишину.
Он сделал шаг ко Льву. Морозный воздух вокруг него застыл, превратившись в иней.
– Ты – даритель. Ты чувствуешь пустоту в душах людей. Помоги мне наполнить ее. Не шумом, а покоем. Давай закончим эту бессмысленную суету вместе.
Лев смотрел в бездонные глаза Незнакомца и чувствовал, как его собственная воля тает. Предложение было ужасающе логичным. Действительно, зачем вся эта борьба, эти мимолетные вспышки счастья, за которыми следуют долгие дни рутины и боли? Вечный покой… Разве это не то, чего хочет в глубине души каждый уставший человек?
Он почти был готов согласиться. Почти.
Но тут его пальцы нащупали шероховатость бумаги на коробочке. Он вспомнил. Вспомнил, почему начал этот ритуал.
Много лет назад, в таком же парке, он нашел на этой скамейке плачущую женщину. Она потеряла сына и хотела уйти из жизни. Лев, тогда еще просто человек, не «даритель», не нашел ничего лучше, как подарить ей маленькое зеркальце своей покойной матери.
– Посмотрите, – сказал он тогда. – В вас осталась его часть. Пока вы живы, жив и он. В ваших глазах, в вашей памяти.
Она посмотрела в зеркало, увидела свои глаза, полные слез, и… улыбнулась. Горько, но улыбнулась. Она ушла с той скамейки, чтобы жить.
С тех пор Лев стал «дарителем». Он понял, что его дар – не просто исполнение желаний. Его дар – напоминание. Напоминание о том, что даже в самой глубокой тьме есть искра, которую можно раздуть.
Он поднял голову и посмотрел прямо в пустые глаза Незнакомца.
– Нет, – сказал Лев, и его голос снова обрел силу. – Ты ошибаешься. Тишина после симфонии – это благодать. Но тишина вместо нее – это смерть. Ты предлагаешь не покой, а небытие. Я же дарю людям музыку. Пусть короткую, пусть несовершенную, но – музыку.
Он протянул руку с подарком, но не к Незнакомцу, а вперед, к пустоте.
– А это – не для тебя.
Внутри маленькой коробочки что-то щелкнуло. Луч теплого, золотистого света пробился сквозь упаковку и ударил в грудь Незнакомцу.
Тот вскрикнул – беззвучно, но Лев почувствовал волну боли, пронзившую тишину. Существо из пустоты отшатнулось. Его форма задрожала и стала расплываться.
– Они забудут! – просипел он. – Все твои огоньки погаснут! Тишина все равно победит!
– Возможно, – согласился Лев. – Но не сегодня.
Незнакомец растаял, как туман на утреннем солнце. И в тот же миг звуки вернулись с оглушительной силой: далекие гудки, смех, ветер в голых ветвях деревьев. Где-то запели птицы.
Лев тяжело дышал, опускаясь на скамейку. Он развернул коробочку. Внутри лежало старое, потрепанное зеркальце. Он посмотрел в него и увидел свое уставшее, но спокойное лицо. И глубоко в своих глазах он увидел отблески миллионов маленьких огоньков – подарков, которые он раздал за все эти годы. Они сияли.
Он оставил зеркальце на скамейке. Для того, кто придет сюда завтра, потеряв все. Чтобы напомнить.
Первый удар курантов прозвучал где-то вдалеке, чистый и ясный.
Лев улыбнулся. Его работа была сделана.
В канун Нового года джаз-клуб «Эллингтон» был пуст. Владелец и по совместительству бармен Лео вытирал бокалы, готовясь закрыться. Никто не приходил слушать старые пластинки в ночь, когда весь город смотрел телевизор.
Дверь со скрипом открылась, впустив вихрь холодного воздуха и колючего снега. На пороге стоял мужчина в длинном, промокшем пальто, с саксофонным футляром за спиной. Его лицо было бледным и уставшим, а глаза горели каким-то странным, лихорадочным блеском.
– Можно? – хрипло спросил он. – Сыграть. Мне нужно сыграть.
Лео, сам бывший саксофонист, почувствовал что-то знакомое в этом взгляде – отчаяние, которое можно излить только через музыку. Он кивнул на небольшую сцену.
– Сцена свободна. Публики, как видишь, нет.
Незнакомец, не снимая пальто, поднялся на подмостки, достал из футляра старый, потрепанный альт-саксофон. Инструмент выглядел древним, на корпусе были царапины и вмятины, но он отливал темным, почти живым золотом.
Музыкант приложил мундштук к губам и закрыл глаза. Полилась музыка.
Это не был джаз. Это была душа, вывернутая наизнанку. Мелодия начиналась как тихий, тоскливый вой метели, переходя в отчаянные, пронзительные пассажи, полные такой боли и одиночества, что у Лео перехватило дыхание. Он слышал в этой музыке все: утраченные надежды, разбитые сердца, прощальные взгляды на пустых перронах, тишину в опустевшей квартире. Это был блюз для всего человечества, для каждого, кто когда-либо чувствовал себя покинутым.
Лео забыл о бокалах. Он сел за ближайший столик и слушал, как завороженный. И ему начало казаться, что клуб больше не пуст. В полумраке, за другими столиками, начали проявляться силуэты. Прозрачные, едва заметные тени. Они возникали из ничего, привлеченные музыкой. Вот одинокая женщина, прижимающая к груди потрепанное письмо. Вот старик, смотрящий в пустой стакан. Вот молодая пара, сидящая спиной друг к другу.
Музыка наполняла клуб, а вместе с ней приходили и они – призраки одиночества. Они были не страшными, а бесконечно печальными. Они слушали, и казалось, что музыка говорит за них, выражает всю их накопленную годами тихую скорбь.
Незнакомец играл, не открывая глаз, и по его щекам текли слезы. Он отдавал музыке всего себя, каждую крупицу своей боли.
И вдруг что-то изменилось. Отчаянный блюз начал преображаться. В него вплелась слабая, но упрямая нота надежды. Тихий, светлый мотив, похожий на первый луч солнца после долгой полярной ночи. Он боролся с тьмой, рос, набирал силу.
И призраки начали меняться. Женщина с письмом подняла голову и улыбнулась сквозь слезы. Старик отодвинул стакан. Молодая пара медленно повернулась и посмотрела друг на друга.
В этот момент часы на стене клуба пробили полночь.
С двенадцатым ударом музыка достигла своей кульминации – это был уже не блюз, а ликующий, полный жизни гимн, торжество света над тьмой, надежды над отчаянием.
И призраки растворились. Не исчезли, а именно растворились в музыке, словно нашли, наконец, утешение и покой. В воздухе осталось лишь легкое, сладковатое чувство облегчения.
Последняя нота прозвучала и замерла в тишине.
Незнакомец медленно опустил саксофон. Он выглядел изможденным, но спокойным. Его глаза больше не горели лихорадочным блеском.
– Спасибо, – тихо сказал он Лео. – Мне нужно было это сыграть. Для них. И для себя.
– Кто ты? – выдохнул Лео.
– Когда-то я был музыкантом. А потом… я сбежал от своей боли. А она, оказывается, была у меня единственным, что имело значение. Сегодня я решил сыграть ей прощальный концерт.
Он аккуратно уложил саксофон в футляр, кивнул Лео и вышел из клуба так же тихо, как и появился.
Лео еще долго сидел в опустевшем зале. Воздух был чист и свеж, будто после грозы. Он подошел к стойке и увидел, что на ней лежит маленькая, потрепанная фотография. На ней был молодой человек с саксофоном, счастливо улыбающийся в объектив. Лео узнал музыканта. На обороте было написано: «С Новым годом! Пусть музыка всегда звучит в твоем сердце. Джек».
Лео перевернул фотографию. Дата на обороте была тридцатилетней давности. В газетной вырезке, аккуратно подклеенной рядом, сообщалось, что талантливый саксофонист Джек Корбен трагически погиб в автомобильной катастрофе в канун Нового года, направляясь на свой сольный концерт.
Лео понял, что в эту ночь он стал свидетелем не концерта, а искупления. И самым ценным подарком для него стала тишина, наполненная отзвуками той исцеляющей музыки.
Семья Вороновых собиралась на даче под Новый год по традиции, которой было больше полувека. Старый, просторный дом, доставшийся от прадеда-купца, был единственным местом, где все многочисленные родственники забывали о ссорах и обидах. Но была и другая традиция, мрачная и обязательная.
Ровно в 23:00 глава семьи, старший из Вороновых – восьмидесятилетний Артемий Семеныч – поднимался на чердак и спускал оттуда «Новогоднюю Книгу». Это была массивная, кожаная книга с медными застежками, похожая на древний фолиант.
Все родственники, от мала до велика, должны были подойти и оставить в ней свою запись. Не пожелания, а нечто иное. Правило было простым: «Напиши то, от чего хочешь избавиться в наступающем году. Гнев, лень, болезнь, дурную привычку, старую обиду».
Книга поглощала это. Во всяком случае, так считалось. Люди писали, и на следующий год они действительно забывали старые обиды, бросали курить, мирились с врагами. Но была цена.
Когда все записи были сделаны, Артемий Семеныч торжественно произносил: «Пусть старое сгорает в огне уходящего года, а новое приходит чистым!» Но книгу не сжигали. Ее уносили обратно на чердак, где она ждала следующего декабря.
В этом году на праздник приехала Катя, шестнадцатилетняя племянница, выросшая за границей и впервые попавшая на эту странную церемонию. Она смотрела на родственников, выводивших в книге свои страхи и слабости, скептически улыбаясь.
– Это просто психологический ритуал, – шептала она своему двоюродному брату Мише. – Самовнушение. Никакой магии.
Когда очередь дошла до нее, она, чтобы не выделяться, написала первое, что пришло в голову: «Хочу избавиться от своей глупой робости».
Ритуал завершился. Книгу унесли. Началось веселье, застолье, танцы. Но Кате было не по себе. Ей казалось, что с чердака доносятся тихие шорохи, будто кто-то листает страницы.
Около полуночи она не выдержала и, сославшись на головную боль, пошла в свою комнату. По пути она заметил, что дверь на чердак приоткрыта. Любопытство победило осторожность. Взяв фонарик с телефона, она поднялась по скрипучей лестнице.
Чердак был забит хламом, и в центре, на старом сундуке, лежала Книга. Катя подошла ближе. Застежки были расстегнуты. Она не удержалась и открыла тяжелую крышку.
Страницы были исписаны ровным почерком ее родственников. Но что-то было не так. Чернила, которые днем были синими, теперь светились призрачным фиолетовым светом. И буквы не лежали на бумаге, а слегка шевелились, как муравьи.
Она нашла свою запись. «Хочу избавиться от своей глупой робости». И увидела, как слова медленно тают, исчезая с бумаги, словно их кто-то стирает.
В этот момент она услышала за спиной тихий смешок. Она обернулась и отшатнулась. В углу чердака, в луже лунного света, сидела… она сама. Точная ее копия, но с наглым, самоуверенным выражением лица.
– Наконец-то, – сказал двойник голосом Кати, но с ядовитыми нотками. – Я свободна. Спасибо, что избавилась от этой дурацкой робости. Теперь я займу твое место.
– Что? Кто ты? – прошептала Катя, чувствуя, как по спине бегут мурашки.
– Я – твоя робость. Вернее, то, во что она превратилась, когда ты выбросила ее, как мусор. Ты же не думала, что Книга просто уничтожает то, что мы в нее вкладываем? Нет, дорогая. Она это сохраняет. Копит. И в какой-то момент накопленному становится тесно. И оно находит способ вырваться.
Двойник поднялся и сделал шаг к Кате.
– Теперь я буду жить твоей жизнью. А ты… ты останешься здесь. Станешь частью Книги. Новым призраком для следующего глупца, который захочет избавиться от части себя.
Катя попыталась закричать, но голос не слушался. Она почувствовала, как ее тело становится легким, прозрачным. Она видела, как двойник спускается с чердака, его наглый смех сливается со звуками праздника.
Внизу, в гостиной, все собрались у телевизора, чтобы слушать бой курантов.
Раз…
Катя пыталась кричать, но могла лишь шелестеть страницами.
Два…
Она видела, как ее двойник подходит к Мише и что-то нагло говорит ему. Миша смущенно отводит взгляд.
Три…
Она понимала, что теряет себя. Ее воспоминания становились чужими, ее личность растворялась в фиолетовом свечении Книги.
Десять… Одиннадцать…
И тут ее взгляд упал на старую, забытую коробку с елочными игрушками в углу чердака. Среди них был самодельный шар, который она когда-то, в детстве, будучи здесь летом, сделала вместе с бабушкой. Он был кривым и некрасивым, но он был символом чего-то настоящего, чего-то, что нельзя было просто так выбросить.
В ее парализованном уме вспыхнула мысль, последний проблеск ее истинного «я»: «Я не хочу избавляться от робости! Она – часть меня! Она делает меня доброй, внимательной, заставляет думать перед тем, как сделать шаг! Я беру ее назад!»
Двенадцать!
Раздался оглушительный звон бокалов, крики «С Новым годом!», смех.
И Катя рухнула на пол чердака, снова ощущая тяжесть собственного тела. Она была вся в пыли, дрожала, но была собой. Двойника нигде не было.
Она подползла к Книге. На странице, где была ее запись, теперь сияли другие слова, написанные ее собственным, дрожащим почерком: «Я ЗАБИРАЮ СВОЕ ОБРАТНО. ВСЕ, ЧТО Я ЕСТЬ, – ЭТО Я».
Слова медленно погасли, и страница стала чистой.
Катя спустилась вниз. Ее встретили удивленные взгляды.
– Катя, а мы тебя искали! Ты где пропадала? А еще… ты какая-то другая. – Миша смотрел на нее с беспокойством.
– Я просто… вернулась, – сказала она и впервые за вечер искренне улыбнулась.
Она поняла страшную тайну семьи Вороновых. Они не избавлялись от своих слабостей. Они кормили ими древнее существо, жившее в Книге. И однажды оно могло вырваться на свободу, наделившись плотью из их же отринутых частей души.
В следующем году, она знала, она не притронется к Книге. И, возможно, найдет способ уничтожить ее. Но это была уже другая история. А сегодня был Новый год, и она, со всей своей робостью и страхами, была жива и свободна.
В канун Нового года, в самом сердце старого города, открывалась таинственная ярмарка. Она появлялась из ниоткуда – несколько палаток с причудливыми фонарями, запахом глинтвейна и корицы. Но самая главная ее часть – это аукцион «Снежная Королева».
