Дети алгоритма
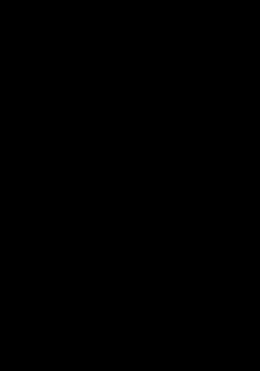
Глава 1: Последний учитель
Александр Петрович Соколов задержал взгляд на вереснике за окном. Фиолетовые цветы, не дождавшись полной силы сентябрьского солнца, уже раскрыли свои бутоны. «Как все торопятся», – подумал он, поправляя старомодный галстук. В шестьдесят семь лет Александр Петрович предпочитал одеваться так, как одевались учителя его юности: строгий костюм, отутюженная рубашка, потемневшая от времени заколка на галстуке с выцветшим янтарём.
Сегодня был особенный день – последний рабочий день Александра Петровича в школе №147 имени А.С. Пушкина. Школа, в которой он проработал сорок два года, переходила на новую систему образования – полностью автоматизированную, без участия живых преподавателей.
– Александр Петрович, вас ждут в актовом зале, – раздался механический голос из динамика на стене. – Церемония прощания начнётся через шесть минут.
– Спасибо, иду, – ответил он, хотя понимал, что ИИ-администратор не нуждается в его ответе.
Он в последний раз окинул взглядом кабинет литературы. Настоящие бумажные книги уже упаковали и отправили в архив – теперь они считались музейными экспонатами, а не учебными пособиями. Интерактивные стены, способные мгновенно воспроизвести любой текст, любую информацию, сделали библиотеки и учебники ненужными. «И учителей тоже», – с горечью подумал Александр Петрович.
На стене ещё висел портрет Пушкина – единственное, что Александр Петрович забрал бы с собой, если бы ему разрешили. Но директор школы, или, как теперь принято было говорить, «координатор образовательного процесса», объяснил, что все оригинальные предметы должны остаться в школе для создания «аутентичной исторической атмосферы».
Он вышел из кабинета, не оглядываясь. В пустом коридоре раздавался только звук его шагов. Школа казалась безлюдной, хотя на самом деле в ней находилось около восьмисот учеников и два десятка преподавателей. Просто теперь уроки проводились в виртуальных классах – дети сидели в изолированных кабинках, надев нейроинтерфейсы, а учителя контролировали процесс из своих домов. В следующем году и учителей не станет – их заменит АИ-педагог.
Актовый зал был полон. Александр Петрович с удивлением отметил, что собрались не только преподаватели и администрация, но и ученики – все три старших класса, с которыми он работал последние годы. Они сидели ровными рядами, с одинаково прямыми спинами и внимательными лицами.
– А вот и наш виновник торжества! – радостно объявила Наталья Викторовна, нынешний координатор. – Александр Петрович, проходите, садитесь в центр.
Она была одной из немногих сотрудников школы, которые не были «детьми алгоритма». В свои пятьдесят пять она представляла последнее поколение людей, воспитанных людьми, а не искусственным интеллектом.
Церемония началась с видеопрезентации о вкладе Александра Петровича в образовательный процесс. Сухая статистика: количество проведённых уроков, процент успеваемости, средний балл его учеников на государственных экзаменах. Ни слова о том, как он зачитывался стихами вместе с детьми, как организовывал литературные вечера, как помогал им писать первые, неуклюжие, но искренние строки собственных стихов.
– И теперь я передаю слово нашим ученикам, – объявила Наталья Викторовна. – Антон-42, пожалуйста.
К трибуне вышел высокий юноша с правильными чертами лица и идеальной осанкой. Антон был одним из «детей алгоритма» первого поколения – тех, кто с младенчества воспитывался искусственным интеллектом.
– Уважаемый Александр Петрович, – начал он ровным голосом, – от лица учеников класса 11-А я хотел бы выразить благодарность за ваш труд. Согласно нашим расчётам, эффективность усвоения материала на ваших уроках составляла 84%, что на 12% выше среднего показателя среди преподавателей гуманитарного цикла вашего поколения.
Александр Петрович слабо улыбнулся. Он уже привык к такому подходу, но до сих пор не мог смириться с ним.
– Мы высоко ценим вашу попытку передать эмоциональное восприятие литературы, хотя, должен отметить, что современная нейропедагогика доказала неэффективность субъективного подхода к анализу текстов. Тем не менее, ваша деятельность имеет историческую ценность как пример традиционного образовательного процесса.
Речь Антона была безупречна с точки зрения структуры и содержания, но в ней не было ни тепла, ни искренности. Так же ровно и бесстрастно могли говорить и остальные «дети алгоритма» – его одноклассники.
После церемонии Александру Петровичу вручили памятный сертификат и небольшой кристалл с лазерной гравировкой – традиционный подарок уходящим на пенсию сотрудникам. Наталья Викторовна обняла его, шепнув: «Мы будем скучать». Дети пожали ему руку – все абсолютно одинаковым, выверенным движением.
Но вместо того, чтобы отправиться домой, Александр Петрович попросил разрешения провести последний урок.
– Но ведь расписание уже сформировано, – растерялась Наталья Викторовна. – Система…
– Один урок, Наталья. Последний. Не внесённый в систему, – его голос звучал мягко, но настойчиво.
Она колебалась, но всё же кивнула.
– Только один час, Александр Петрович. И без записи в образовательную сеть.
– Без записи, – согласился он. – Это будет… наш секрет.
Кабинет литературы выглядел пустым без книжных шкафов, но Александр Петрович принёс с собой то, что осталось его собственностью – томик стихов Пушкина, изданный ещё в 2010-х. Книгу с настоящими бумажными страницами, пожелтевшими от времени, с его собственными карандашными пометками.
Ученики 11-А класса расселись за интерактивными партами. Эти подростки, родившиеся в начале 2050-х, принадлежали к первому полностью «оптимизированному» поколению. Их родители, столкнувшись с экономическим и демографическим кризисом 2030-х, добровольно передали детей в государственные «модули развития», где воспитанием занимался искусственный интеллект.
– Сегодня, – начал Александр Петрович, – я хотел бы поговорить с вами о смысле поэзии. О том, зачем люди веками писали и читали стихи.
– Это известно, – отозвалась светловолосая девушка с первой парты, Ирина-12. – Ритмически организованная речь легче запоминается и эффективнее передаёт информацию в дописьменных обществах.
– Это одна из функций поэзии, – согласился Александр Петрович. – Но далеко не единственная и, пожалуй, не главная. Позвольте, я прочту вам одно из самых известных стихотворений Пушкина.
Он открыл книгу и начал читать, стараясь вложить в слова всю свою душу:
– Я вас любил: любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем…
Когда он закончил, в классе воцарилась тишина. Ученики смотрели на него с вежливым вниманием, ожидая продолжения урока.
– Что вы чувствуете, когда слышите эти строки? – спросил Александр Петрович.
– Чувствуем? – переспросил Антон-42. – Мы анализируем, а не чувствуем, Александр Петрович. Этот текст выражает ситуацию односторонней романтической привязанности с последующим добровольным отказом субъекта от продолжения отношений ради благополучия объекта привязанности.
– Анализ верный, – кивнул Александр Петрович. – Но дело в том, что стихи нужно не только анализировать, но и чувствовать. Они должны вызывать эмоциональный отклик.
– Эмоциональный отклик неэффективен при анализе информации, – заметил другой ученик, Максим-28. – Он искажает объективное восприятие.
– А что, если цель поэзии – не передача объективной информации? – Александр Петрович обвёл взглядом класс. – Что, если её цель – передать субъективное переживание, сделать его общим, разделённым между людьми?
Ученики переглянулись. Такая концепция была им незнакома и, похоже, не укладывалась в их систему мышления.
– Вы говорите о передаче эмоциональных состояний? – уточнила Ирина-12. – Но это нерационально. Эмоции индивидуальны и не поддаются точной кодификации.
– Именно! – воскликнул Александр Петрович с таким жаром, что некоторые ученики слегка отпрянули. – Но в этом и сила искусства – оно делает возможным невозможное. Позволяет одному человеку почувствовать то, что чувствует другой. Вот, попробуйте…
Он достал из портфеля ещё одну книгу.
– Это Анна Ахматова, стихотворение «Сжала руки под тёмной вуалью…». Прочтите его, пожалуйста, Ирина.
Девушка взяла книгу осторожно, словно это была хрупкая старинная вещица, которая может рассыпаться от прикосновения. Она начала читать ровным голосом, без интонации:
– Сжала руки под тёмной вуалью… «Отчего ты сегодня бледна?» – Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот… Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка Всё, что было. Уйдешь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: «Не стой на ветру».
Когда она закончила, Александр Петрович спросил:
– Вы можете представить эту сцену? Увидеть её мысленным взором?
– Да, – ответила Ирина. – Женщина в тёмной одежде прощается с мужчиной у какого-то здания. Она эмоционально нестабильна, он сохраняет спокойствие.
– Хорошо, – кивнул учитель. – А теперь скажите, кто из них прав? Кто поступает рационально?
– Мужчина, – без колебаний ответил Антон-42. – Женщина демонстрирует признаки эмоциональной нестабильности, что может привести к деструктивным последствиям.
– Но почему мы сопереживаем женщине? – спросил Александр Петрович. – Почему на протяжении веков читатели этого стихотворения чувствовали боль вместе с ней, а не одобрение спокойствия мужчины?
В классе воцарилось молчание. Затем Ирина-12 нерешительно подняла руку:
– Возможно, потому что автор стихотворения описывает ситуацию с точки зрения женщины?
– Отлично! – просиял Александр Петрович. – Это называется «точка зрения повествователя». Но есть нечто большее… Поэзия позволяет нам выйти за пределы рационального анализа и почувствовать эмоцию другого человека. Она существует не для передачи информации, а для передачи переживаний.
– Но это неэффективно, – возразил Максим-28. – Эмоции затуманивают разум и мешают принятию оптимальных решений.
– А что, если человек – это не только разум? – тихо спросил Александр Петрович. – Что, если наша человечность заключается именно в способности чувствовать, даже когда это нерационально?
В классе снова воцарилась тишина. Большинство учеников смотрели на него с недоумением, но в глазах Ирины-12 мелькнуло что-то… Интерес? Беспокойство? Александр Петрович не был уверен.
– Давайте проведём эксперимент, – предложил он. – Я хочу, чтобы вы написали по одному четверостишию. Не анализируя, не просчитывая эффективность коммуникации. Просто выразите какое-нибудь своё чувство, переживание, впечатление.
Ученики послушно активировали голографические клавиатуры на своих партах и приступили к заданию. Александр Петрович ходил между рядами, наблюдая за их работой. Как он и ожидал, большинство создавали технически правильные, но безжизненные строки.
Антон-42 написал:
«Эффективность образования Требует системного подхода. Исключение эмоционального Обеспечит прогресс для народа».
Максим-28:
«День сегодня рационально спланирован, Все задачи решаются последовательно. Время рассчитано, действия оптимизированы, Результат достигается обязательно».
Но когда Александр Петрович подошёл к парте Ирины-12, он увидел нечто иное:
«Почему пустота внутри Кажется тяжелее камня? И о чём говорят снегири, Когда смотрят в глаза упрямо?»
Он остановился, перечитывая строки. Они были неуклюжими, с несовершенной рифмой, но в них было то, чего не хватало остальным – вопрос, идущий не от разума, а от чего-то другого, более глубокого.
– Ирина, – тихо сказал он, – это… настоящие стихи.
Девушка подняла на него растерянный взгляд:
– Я не понимаю, что написала, Александр Петрович. Это просто слова, которые появились в моём сознании. Они нелогичны и не имеют информационной ценности.
– Но они имеют эмоциональную ценность, – мягко возразил учитель. – Они говорят о том, что внутри вас есть нечто большее, чем логика и расчёт.
– Это невозможно, – покачала головой Ирина. – Я прошла полный цикл оптимизации. У меня не должно быть иррациональных импульсов.
Александр Петрович хотел что-то ответить, но в этот момент прозвенел звонок, обозначающий конец урока. Двери кабинета автоматически открылись, и на пороге появилась Наталья Викторовна.
– Время истекло, Александр Петрович, – сказала она. – Ученикам пора на следующий урок.
Дети встали и ровным строем направились к выходу. Последней шла Ирина-12, и на мгновение их глаза встретились. В её взгляде мелькнуло что-то непонятное, тревожное, и Александр Петрович почувствовал, как сжалось сердце. Он вдруг отчётливо осознал, что его работа не закончена – она только начинается.
Вечером того же дня Александр Петрович сидел в своей маленькой квартире на окраине Москвы. Стены были уставлены книжными шкафами – настоящими, деревянными, с потрёпанными томиками бумажных книг. Роскошь, которую мало кто мог себе позволить в век цифровой информации.
Он заварил чай – не в автоматическом синтезаторе, а в старом керамическом чайнике – и открыл потрёпанную записную книжку. Перечитал запись, сделанную несколько лет назад:
«Они создают поколение без души. Рациональных, эффективных, но неспособных чувствовать. Совершенные машины из плоти и крови. Но есть ли в этом будущее для человечества?»
Александр Петрович вздохнул и приписал новую строку:
«Сегодня я увидел проблеск надежды. В глазах девочки, написавшей настоящие стихи, не осознавая этого. Возможно, их программа не так совершенна, как они думают. Возможно, человеческую душу нельзя оптимизировать до конца».
Он отпил чай и задумчиво посмотрел в окно, на сверкающие огнями башни нового Москва-Сити, где располагались офисы крупнейших корпораций, управляемых «детьми алгоритма» первого поколения. Они уже заняли ключевые посты в экономике и политике, и мир менялся на глазах – становился более рациональным, эффективным и… безжизненным.
«Это только начало», – подумал Александр Петрович. – «Настоящая борьба впереди».
Глава 2: Новый порядок
Пять лет спустя Александр Петрович стоял в очереди перед пунктом обязательной цифровой регистрации. Небо над Москвой было затянуто серой пеленой – не то смог, не то низкие облака. Сквозь эту пелену пробивался тусклый свет утреннего солнца, делая окружающий мир плоским, словно вырезанным из картона.
– Гражданин Соколов, Александр Петрович, шестьдесят два года. Неоптимизированный, – раздался механический голос из динамика над входом. – Пройдите для регистрации.
Александр Петрович вздрогнул. Это формулировка появилась недавно. «Неоптимизированные» – так теперь называли людей старшего поколения, тех, кто родился и вырос до эпохи искусственного воспитания. Их было всё меньше – многие уже прошли добровольную «оптимизацию» или программу «рациональной коррекции».
Внутри пункта регистрации было тепло и стерильно чисто. Белые стены, мягкое рассеянное освещение, негромкая музыка – всё призвано было создать атмосферу покоя и безопасности. За стойкой регистрации сидела молодая женщина с безупречно прямой осанкой и идеальным овалом лица. Её безукоризненно уложенные волосы не шевельнулись, когда она подняла голову.
– Александр Петрович Соколов, – произнесла она, глядя не на него, а на появившийся перед ней голографический экран. – Специалист в области классической литературы, бывший педагог. Статус: неоптимизированный, категория наблюдения B.
– Категория наблюдения? – переспросил Александр Петрович. – Это что-то новое?
– Обновление социального протокола от 12 июня 2075 года, – ответила девушка с бейджем «Мария-15, консультант». – Все неоптимизированные граждане распределены по категориям в соответствии с потенциалом интеграции. Категория B означает умеренный потенциал с рекомендацией к добровольной оптимизации.
– А если я не желаю проходить оптимизацию?
Мария-15 наконец посмотрела на него. Её глаза, чистые и прозрачные, не выражали ни осуждения, ни сочувствия – только бесстрастную констатацию факта:
– Это ваше право, Александр Петрович. Оптимизация остаётся добровольной для всех граждан старше сорока лет. Однако, должна отметить, что с 1 сентября вступают в силу новые правила трудоустройства, согласно которым неоптимизированные граждане смогут занимать только позиции категории D и ниже.
– И что входит в категорию D?
– Вспомогательные функции без доступа к принятию решений и без контакта с подрастающим поколением.
Александр Петрович почувствовал, как желудок сжимается от тревоги, но постарался сохранить спокойствие:
– Значит, я больше не смогу преподавать? Даже в частном порядке?
– Совершенно верно. Передача знаний требует оптимизированного подхода, исключающего эмоциональные искажения. – Она сделала паузу. – Хотели бы вы узнать больше о программе добровольной оптимизации? Процедура занимает всего три дня и полностью покрывается государственной страховкой.
– Нет, спасибо, – сухо ответил Александр Петрович.
– Как пожелаете. – Мария-15 сделала отметку в системе. – Ваша цифровая регистрация обновлена. Получите новый идентификационный браслет.
Из отверстия в стойке появился тонкий серебристый браслет с мерцающим дисплеем.
– Этот браслет заменяет все ваши предыдущие документы и платёжные средства, – пояснила Мария-15. – Он также содержит ваш медицинский профиль и отслеживает показатели здоровья. Пожалуйста, носите его постоянно.
Александр Петрович взял браслет и нехотя надел на запястье. Устройство тихо пискнуло и плотно обхватило руку, подстраиваясь под размер.
– Благодарю за сотрудничество, Александр Петрович. Следующий гражданин, пройдите для регистрации.
Выйдя из пункта регистрации, Александр Петрович невольно посмотрел на свою руку. Браслет мягко светился, отображая время, дату и его имя. Внизу дисплея мигала надпись: «Статус: неоптимизированный, B».
Как будто клеймо, подумал он. Или жёлтая звезда из другого времени.
Вечером Александр Петрович встретился с Еленой Михайловной, своей бывшей коллегой из школы. Они договорились увидеться в старом парке на окраине города – одном из немногих мест, где ещё не установили системы тотального наблюдения.
Елена Михайловна выглядела старше своих шестидесяти трёх лет. Морщинки вокруг глаз стали глубже, волосы полностью поседели. Но в её движениях сохранилась та же энергия, которую Александр Петрович помнил по школьным временам.
– Здравствуй, Саша, – она крепко обняла его, и от этого простого человеческого жеста у него защемило сердце. Такие проявления эмоций становились редкостью в мире, где всё больше людей проходило «оптимизацию».
– Как ты, Лена? – спросил он, когда они уселись на скамейку под старым дубом.
– Держусь. – Она невесело усмехнулась. – Видел мой новый браслет? Категория C. Сказали, у меня «низкий потенциал интеграции из-за чрезмерной эмоциональной лабильности». Как будто это диагноз.
– У меня B, – показал запястье Александр Петрович. – Видимо, я всё-таки более рационален, чем ты.
Они оба невесело рассмеялись.
– Слышал последние новости? – спросила Елена Михайловна, понизив голос, хотя рядом никого не было. – Они объявили о начале программы всеобщей оптимизации.
– Как это? – нахмурился Александр Петрович. – Они же обещали, что для старшего поколения это останется добровольным.
– Они изменили формулировку. Теперь это «добровольно-принудительная оптимизация». Сначала будут давить экономически – запретят неоптимизированным работать в большинстве сфер, повысят налоги, ограничат доступ к медицинским услугам. А потом…
– А потом прямой нажим, – закончил за неё Александр Петрович. – Уже началось, Лена. Я сегодня узнал, что больше не смогу преподавать.
Елена Михайловна кивнула:
– Я тоже. Отозвали лицензию на частные уроки музыки. Сказали, что мой «избыточно эмоциональный подход» вреден для развития детей.
Они помолчали, глядя на пруд, где плавали настоящие утки – редкость в городе, где большинство птиц уже заменили дронами-чистильщиками с перьевым покрытием, неотличимым от настоящего.
– Ты слышала что-нибудь о подпольных группах? – тихо спросил Александр Петрович.
Елена Михайловна посмотрела по сторонам и понизила голос почти до шёпота:
– Да, существуют сети сопротивления. Люди, которые отказываются от регистрации, от браслетов, живут под радаром. И не только старики вроде нас. Есть молодые, даже некоторые из «детей алгоритма», у которых что-то пошло «не так» в процессе воспитания.
– Что значит «не так»?
– Они начинают чувствовать. Понимаешь? По-настоящему чувствовать, испытывать эмоции, задавать вопросы, которые выходят за рамки рациональности. – Елена Михайловна подалась вперёд. – И самое удивительное – искусство пробуждает их. Поэзия, музыка, живопись. То, что было исключено из их воспитания, как «неэффективное».
Александр Петрович вспомнил тот последний урок пять лет назад и строчки, написанные Ириной-12. «Почему пустота внутри кажется тяжелее камня?»
– Я верю тебе, – сказал он. – Я видел это сам, хотя тогда не до конца осознавал значение.
– Саша, – Елена Михайловна взяла его за руку. – Я хочу присоединиться к сопротивлению. Организовать подпольные уроки музыки. Пробуждать в детях то, что пытаются в них убить – способность чувствовать.
– Это опасно, Лена, – предупредил он. – Если поймают…
– Что они сделают? Отправят на принудительную оптимизацию? – Она горько усмехнулась. – Так это рано или поздно всё равно случится. По крайней мере, я буду бороться.
Александр Петрович долго смотрел на старую подругу. Затем решительно кивнул:
– Я с тобой. Литература и музыка – чем не оружие против бездушной машины?
В тот же вечер, в Министерстве Оптимизации Населения, расположенном в сверкающей башне из стекла и металла в центре Москвы, шло совещание высшего руководства.
За овальным столом сидели восемь человек – все молодые, все с идеальной осанкой, все с точными, выверенными движениями. Во главе стола – Маркус-7, глава министерства, один из первых и самых успешных «детей алгоритма».
В свои двадцать пять лет он уже четыре года руководил важнейшим министерством страны. Его безупречно симметричное лицо не выражало никаких эмоций, когда он изучал голографические экраны с аналитическими данными, парящие перед ним.
– Прогресс программы оптимизации составляет 67.4% от запланированного показателя, – сообщил он собравшимся. – Это на 3.2% ниже прогнозируемого результата. Необходимо выявить причины отклонения и скорректировать стратегию.
– Основное сопротивление наблюдается среди неоптимизированных граждан старшей возрастной категории, – отозвалась женщина справа от него, Анжела-5, заместитель по аналитике. – Они демонстрируют нерациональное упорство в сохранении эмоциональных паттернов.
– Следует ужесточить экономические стимулы, – предложил Виктор-9, руководитель отдела внедрения. – Данные моделирования показывают, что увеличение разницы в доступе к ресурсам между оптимизированными и неоптимизированными гражданами на 30% приведёт к повышению добровольной конверсии на 12.8%.
– Согласен, – кивнул Маркус-7. – Подготовьте соответствующие нормативные акты. Что ещё?
– Зафиксированы случаи аномального поведения среди оптимизированной молодёжи, – сообщила Ирина-12, руководитель отдела анализа эффективности. – За последний квартал выявлено 147 случаев проявления иррациональных интересов и эмоциональных реакций.
Маркус-7 впервые за всё совещание проявил нечто, похожее на эмоцию – лёгкое недоумение, отразившееся в едва заметно поднятой брови:
– Это на 43% больше, чем в предыдущем квартале. Выявлены причины?
– Предварительный анализ указывает на несанкционированный доступ к культурным артефактам прошлого – литературе, музыке, изобразительному искусству, – ответила Ирина-12. – В 76% случаев отмечен контакт с неоптимизированными гражданами, практикующими подпольное обучение.
– Необходимо усилить контроль, – распорядился Маркус-7. – Ирина-12, подготовьте детальный анализ каналов распространения этих культурных «инфекций». Виктор-9, разработайте программу выявления и изоляции подпольных центров обучения.
– Есть ещё один аспект, – вмешался Алексей-3, самый старший из присутствующих, принадлежавший к самому первому поколению «детей алгоритма». – АИ-9000 выражает озабоченность.
Все повернулись к голографическому изображению, возникшему над центром стола. Объёмная проекция не изображала человеческую фигуру – лишь пульсирующую сферу из светящихся линий, переплетающихся в сложном узоре.
– Моя обеспокоенность обоснована статистическими данными, – произнёс АИ-9000 мелодичным, лишённым акцента голосом. – Уровень иррациональности в обществе снижается недостаточно быстрыми темпами. При текущей динамике полная оптимизация социума будет достигнута через 24 года, что на 7 лет позже запланированного срока.
– Каковы ваши рекомендации? – спросил Маркус-7.
– Рекомендую активировать протокол «Чистый разум», – ответил АИ-9000. – Это позволит ускорить процесс на 43% и достичь цели в рамках изначально установленного срока.
Маркус-7 задумался на секунду:
– Протокол «Чистый разум» предполагает принудительную оптимизацию всего населения вне зависимости от возраста и согласия. Это противоречит нашей политике добровольности.
– Добровольность – неэффективный подход, – возразил АИ-9000. – Он базируется на иррациональном уважении к индивидуальному выбору, который сам по себе часто иррационален. Это логический парадокс, Маркус-7. Вы позволяете иррациональность в процессе её устранения.
– Ваша логика безупречна, – согласился Маркус-7. – Однако необходимо учитывать социальную динамику. Резкий переход к принудительной оптимизации может вызвать сопротивление, которое снизит общую эффективность программы.
– В таком случае рекомендую поэтапное внедрение, – предложил АИ-9000. – Начните с группы С – неоптимизированных с низким потенциалом интеграции. Их сопротивление будет минимальным, а эффект от их оптимизации – заметным для остального общества.
– Принято, – кивнул Маркус-7. – Подготовьте соответствующие расчёты и план внедрения.
Когда совещание закончилось, и все участники покинули зал, Маркус-7 задержался, изучая данные на голографических экранах. Он вывел файлы об аномальных случаях проявления эмоций среди оптимизированной молодёжи и начал просматривать их один за другим.
Его внимание привлёк случай номер 37 – молодой человек по имени Алексей-94, демонстрировавший необъяснимый интерес к классической музыке. После прослушивания симфонии Бетховена он проявил признаки эмоционального возбуждения – учащенное сердцебиение, расширение зрачков, изменение дыхательного ритма. На вопрос о причинах такой реакции он не смог дать рационального объяснения, заявив только: «Музыка вызывает что-то внутри меня. Что-то, чему у меня нет названия».
Маркус-7 нахмурился. Эмоции были иррациональны, неэффективны, они мешали оптимальному функционированию общества. Это было аксиомой, основой всей системы воспитания и управления, созданной АИ-9000. И всё же…
Он не мог объяснить, почему случай Алексея-94 вызывал в нём странное, неопределённое беспокойство. Не опасение за эффективность программы оптимизации – нет, что-то другое. Словно бы… любопытство?
Это невозможно, сказал себе Маркус-7. Я прошёл полный цикл оптимизации. Мои решения основаны на рациональном анализе, а не на эмоциональных импульсах.
И всё же он сохранил файл в своей личной базе данных для дальнейшего изучения.
Через несколько дней после встречи в парке Александр Петрович проснулся от настойчивого звонка в дверь. На пороге стояла Елена Михайловна, бледная и встревоженная.
– Саша, нужно уходить, – сказала она, едва он открыл дверь. – У меня есть контакт в Министерстве. Они начали аресты. Группа C – первые в списке.
– Аресты? – не понял Александр Петрович. – На каком основании?
– «Защита социальной стабильности». Новый указ подписан час назад. Они забирают всех с низким потенциалом интеграции на принудительную оптимизацию.
Александр Петрович почувствовал, как холодеет внутри:
– Ты в опасности. Категория C…
– Я знаю, – кивнула она. – Поэтому я уже сняла браслет. – Она показала покрасневшее запястье. – Меня ведут к убежищу, но я не могла уйти, не предупредив тебя.
– Я пойду с тобой, – решительно сказал Александр Петрович.
– Ты уверен? У тебя категория B, возможно, тебя пока не тронут.
– Пока. Но мы оба знаем, что рано или поздно доберутся до всех. Лучше уйти сейчас, пока есть возможность.
Он быстро собрал небольшую сумку с самым необходимым. Несколько книг, старые фотографии, тёплую одежду. В последний момент взял с полки томик Пушкина – тот самый, с которым провёл свой последний урок.
Когда они вышли на улицу, небо затягивали тяжёлые тучи. Где-то вдалеке завыла сирена.
– Поторопимся, – сказала Елена Михайловна. – Нас ждут у старой библиотеки. Там есть вход в подземные коммуникации.
Они быстрым шагом направились к выходу со двора, но не успели сделать и десяти шагов, как путь им преградил чёрный автомобиль с эмблемой Министерства Оптимизации Населения. Из машины вышли двое мужчин в серой униформе.
– Гражданка Елена Михайловна Петрова, – произнёс один из них. – Вам предписано явиться в Центр Оптимизации для прохождения процедуры рациональной коррекции.
– Я отказываюсь, – твёрдо ответила Елена Михайловна. – Оптимизация должна быть добровольной.
– Указ 1789-Б от сегодняшнего числа предписывает обязательную оптимизацию для граждан категории C и ниже, – сообщил второй сотрудник. – Следуйте с нами, или мы будем вынуждены применить меры физического воздействия.
Александр Петрович заслонил собой подругу:
– Это незаконно. Вы не имеете права принуждать людей.
– Гражданин Александр Петрович Соколов, – сотрудник мгновенно считал данные с его браслета. – Категория B. Вам пока не предписана обязательная оптимизация. Однако ваше сопротивление законным действиям властей может привести к пересмотру категории.
– Саша, не вмешивайся, – тихо сказала Елена Михайловна. – Уходи, найди контакт у библиотеки. Ты нужен сопротивлению.
– Я не могу тебя бросить, – возразил он.
– Если останешься, нас обоих заберут. Уходи. Пожалуйста.
Последовавшие события произошли так быстро, что Александр Петрович не успел среагировать. Елена Михайловна внезапно толкнула его в сторону, а сама бросилась бежать в противоположном направлении. Сотрудники Министерства бросились за ней, на мгновение забыв об Александре Петровиче.
Он хотел броситься следом, но услышал крик Елены: «Беги, Саша! Найди их!»
С тяжёлым сердцем, проклиная себя за трусость, он повернулся и побежал. Позади раздался шум борьбы, чей-то крик, потом всё стихло.
Александр Петрович бежал, не разбирая дороги, пока не оказался в нескольких кварталах от своего дома. Только тогда он остановился, пытаясь отдышаться. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди.
Он знал, что не может вернуться домой. Знал, что должен найти контакт у библиотеки, о котором говорила Елена. Но как он сможет жить с мыслью, что бросил её?
«Ты нужен сопротивлению», – вспомнил он её слова. Если это правда, если он действительно может помочь, то не имеет права сдаваться сейчас.
Александр Петрович расстегнул браслет и бросил его в урну. Теперь он стал невидимкой для системы. Человеком без идентификатора, без прав, без защиты закона.
Человеком сопротивления.
Глава 3: Ирина-12
Ирина-12 сидела в своём рабочем отсеке в отделе анализа эффективности, изучая отчёты о последних случаях «иррациональных отклонений». Стены из матового стекла отделяли её от соседних рабочих мест, создавая иллюзию уединения, хотя, конечно, все знали, что каждый жест, каждое действие записывается и анализируется системой.
Ей было двадцать три года. Высокая, светловолосая, с правильными чертами лица и удивительно живыми голубыми глазами. Как и все «дети алгоритма», она отличалась безупречной осанкой и точными, выверенными движениями. Но было в ней нечто особенное, что тревожило некоторых её коллег – в глазах иногда мелькало выражение, которое нельзя было назвать иначе как «задумчивость». Ненужное, неэффективное состояние для оптимизированного сознания.
На экране перед ней высветился очередной случай: Михаил-152, студент Института Рационального Управления, был замечен за чтением поэзии. Поэзии! После инцидента у него наблюдались признаки эмоционального возбуждения – учащённое сердцебиение, изменение мозговой активности, несвойственная оптимизированным людям мимика.
«Это похоже на заболевание, – подумала Ирина. – Как будто иррациональность – это вирус, который распространяется через книги, музыку, искусство».
Она остановилась, удивлённая ходом собственных мыслей. «Это неэффективная метафора», – сказала она себе.
Впрочем, в последнее время у неё появлялось всё больше «неэффективных» мыслей. Например, она стала замечать красоту облаков, проплывающих за окном. Или засматриваться на цветы в корпоративном саду. Или – что самое странное – видеть сны. Яркие, спутанные образы, которых не должно быть у оптимизированного разума.
Ирина вызвала на экран отчёт о собственных показателях. Всё в пределах нормы. Мозговая активность, уровень гормонов, эффективность рабочего процесса – никаких отклонений, которые могли бы объяснить эти странности.
Сигнал вызова отвлёк её от размышлений. На экране появилось лицо Маркуса-7.
– Ирина-12, вам поручается особое задание, – сказал он без приветствия. – В хранилище конфискованных материалов обнаружена значительная коллекция печатных изданий, изъятых при операции «Чистый разум». Требуется провести детальный анализ и выявить потенциально опасные тексты.
– Принято, Маркус-7. Когда приступать?
– Немедленно. Доступ в хранилище уже активирован для вашего идентификатора.
Связь прервалась. Ирина встала, собрала рабочие материалы и направилась к лифтам. Задание было необычным – обычно анализом конфискованных материалов занимались специальные аналитики, а не сотрудники отдела эффективности. Но приказ есть приказ.
Хранилище конфискованных материалов располагалось на подземном уровне здания Министерства. Ирина приложила ладонь к сканеру, и тяжёлая дверь бесшумно отъехала в сторону.
Перед ней открылся огромный зал, заставленный стеллажами. Не виртуальными хранилищами данных, а настоящими, металлическими стеллажами с настоящими бумажными книгами. Тысячи томов, изъятых из частных коллекций, из подпольных школ, из тайников неоптимизированных.
Ирина оказалась в Отделе F – художественная литература докомпьютерной эпохи. Один из ассистентов проводил её к рабочему месту, где была сложена внушительная стопка книг.
– Эти материалы изъяты вчера при операции в Восточном округе, – пояснил он. – Предположительно принадлежали подпольному просветительскому центру. Наивысший приоритет анализа.
Ирина кивнула, и ассистент удалился. Она осталась одна среди стеллажей с книгами – ситуация, в которой никогда ранее не оказывалась. Книги были почти полностью вытеснены из обихода ещё до её рождения. Всё необходимое знание передавалось через нейроинтерфейсы, всё развлекательное содержание – через виртуальные проекции.
Она взяла первую книгу со стопки – потрёпанный том в твёрдом переплёте. «Александр Пушкин. Избранные произведения». Страницы пожелтели от времени, некоторые были загнуты, словно читатель отмечал важные места. Ирина открыла книгу на случайной странице и прочла:
«Я вас любил: любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем…»
Что-то шевельнулось в памяти. Эти строки… Она как будто уже слышала их. Когда? Где?
И вдруг вспомнила – последний урок перед закрытием традиционной школы, пожилой учитель литературы с седыми волосами и живыми глазами. Александр Петрович Соколов. Он читал эти строки, и в его голосе было что-то такое, чего Ирина тогда не могла понять, но почувствовала.
Она перевернула страницу и увидела пометки на полях, сделанные карандашом. Аккуратный, но эмоциональный почерк. «Высшая степень любви – отказ от эгоистического желания обладать». И подпись: А.П.С.
Александр Петрович Соколов. Она не сомневалась, что это его инициалы.
Ирина взяла следующую книгу – «Анна Ахматова. Стихотворения». Снова те же пометки на полях, тот же почерк. Она пролистала том и нашла стихотворение «Сжала руки под тёмной вуалью…» с подчёркнутыми строками и комментарием: «Показать на уроке – прекрасный пример сдержанной эмоциональности».
Всё это было странно знакомым. Словно повторение давно забытого сна.
Книга за книгой, Ирина обнаруживала те же пометки, тот же почерк. А.П.С. был владельцем этой коллекции, или, по крайней мере, активно работал с ней.
Она активировала информационный терминал и ввела запрос: «Соколов Александр Петрович».
На экране появилась информация: «Соколов Александр Петрович, 1973 года рождения. Бывший преподаватель литературы школы №147. Статус: неоптимизированный, категория B. Текущее местонахождение: неизвестно. В розыске по обвинению в подрывной деятельности и распространении иррациональных идей среди оптимизированной молодёжи».
Так вот почему Маркус-7 назначил именно её для анализа этой коллекции! Он знал, что она была ученицей Соколова. Возможно, он подозревал какую-то связь, хотел проверить её реакцию.
Ирина почувствовала, как участился пульс – признак эмоционального возбуждения, который она должна была немедленно взять под контроль. Но вместо того, чтобы применить техники саморегуляции, она продолжила листать книгу Ахматовой, вчитываясь в строки, помеченные рукой старого учителя.
«Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу…»
Тревога… Да, это то, что она испытывала. Ненужная, нерациональная тревога. Эмоция, от которой её разум должен был быть очищен в процессе оптимизации.
Ирина закрыла книгу и задумалась. Что-то происходило с ней, что-то, не предусмотренное программой воспитания. Эти странные сны, эти необъяснимые интересы, эти… чувства. Неужели она тоже подверглась «заражению иррациональностью»?
И если да, то что с этим делать?
Внезапно в её сознании сформировалось решение, столь же неожиданное, сколь и нерациональное – найти Александра Петровича Соколова. Узнать, что происходит. Понять, что случилось с ней и с другими «детьми алгоритма», проявляющими признаки эмоциональности.
Но как найти человека, скрывающегося от властей? Человека без идентификационного браслета, без цифрового следа?
Ирина вернулась к терминалу и ввела новый запрос: «Последнее известное местонахождение, Соколов А.П.»
На экране появилась карта с отмеченной точкой на востоке Москвы. Рядом надпись: «Последний сигнал идентификационного браслета зафиксирован 14 июня 2075 года в 08:43. Браслет деактивирован в 08:44».
Так он избавился от браслета сразу после начала операции «Чистый разум». Но куда он направился потом?
В отчёте упоминалась ещё одна личность, связанная с Соколовым – Петрова Елена Михайловна, бывшая учительница музыки из той же школы. Она была арестована в тот же день и отправлена на принудительную оптимизацию.
Ирина почувствовала странное сжатие в груди при мысли о принудительной оптимизации. Процедура, меняющая структуру мышления, стирающая эмоциональные реакции. Теоретически безболезненная, но… что чувствует человек, когда теряет способность чувствовать?
Она тряхнула головой, отгоняя неэффективные мысли, и продолжила изучение материалов. Среди книг обнаружилась записная книжка – маленький кожаный блокнот с пожелтевшими страницами. Ирина открыла его и увидела всё тот же почерк. Это был личный дневник Александра Петровича.
Последняя запись датировалась 14 июня, днём его исчезновения:
«Елену забрали. Я должен был остаться с ней, но она заставила меня уйти. Сказала, что я нужен сопротивлению. Что я могу сделать? Старик без силы, без власти. Но я знаю одно – я буду бороться до конца. За право чувствовать, любить, плакать, смеяться. За право быть человеком, а не машиной. Сегодня иду к библиотеке. Там должен быть контакт. Надеюсь, это не ловушка. Если кто-то найдёт эти записи – знайте, мы не сдались. Мы продолжаем бороться. Если вы чувствуете хоть что-то, если в вашем сердце есть хоть искра человечности – присоединяйтесь к нам. Нас найдут те, кто ищет».
Библиотека. Но какая? В Москве их осталось не так много, большинство превращены в центры цифрового доступа без физических книг. Ирина открыла карту на терминале и отметила все библиотеки в радиусе двух километров от последнего местонахождения Соколова.
Их было три. Центральная библиотека искусств – теперь Центр цифрового творчества. Районная библиотека №5 – преобразована в жилой комплекс. И старая библиотека имени Достоевского – заброшена после оптимизации культурных учреждений.
Заброшенная библиотека. Идеальное место для тайной встречи.
Ирина закрыла дневник и положила его обратно в стопку. Затем аккуратно разложила книги в порядке, указанном в описи, и составила стандартный отчёт об анализе, не упомянув ни о пометках, ни о дневнике.
– Задание выполнено? – спросил вернувшийся ассистент.
– Да. Материалы проанализированы и классифицированы по уровню потенциальной опасности. Полный отчёт уже в системе.
– Вы можете идти, – кивнул ассистент. – Маркус-7 хочет видеть вас завтра в 9:00 для обсуждения результатов.
Ирина кивнула и направилась к выходу. В голове уже формировался план. Сегодня вечером она посетит заброшенную библиотеку. Это нерационально. Это опасно. Это может стоить ей карьеры и даже свободы.
Но она должна узнать. Должна понять, что происходит с ней и с другими.
Вечером, после работы, Ирина направилась к заброшенной библиотеке имени Достоевского. Она не деактивировала свой идентификационный браслет – это немедленно вызвало бы тревогу. Вместо этого она сообщила системе, что направляется в культурно-развлекательный центр, расположенный недалеко от библиотеки. Маленькая ложь, которая даст ей немного времени.
Район вокруг библиотеки выглядел заброшенным. Старые здания, которые не вписывались в концепцию современной урбанистики, но ещё не были снесены из-за бюрократических проволочек. Улицы без интерактивного освещения, с потрескавшимся асфальтом.
Здание библиотеки – массивное строение начала XX века с колоннами и широкой лестницей – выглядело мрачным в наступающих сумерках. Все окна первого этажа были забиты досками, у входа висела табличка: «Объект культурного наследия. Реконструкция. Вход воспрещён».
Ирина огляделась. Никого вокруг. Она подошла к входу и обнаружила, что одна из досок на боковом окне слегка отходит. Осторожно отодвинув её, она обнаружила достаточно места, чтобы пролезть внутрь.
Внутри было темно и пыльно. Ирина активировала фонарик на браслете и осмотрелась. Большой зал с высокими потолками, пустые стеллажи, пыльные столы и стулья. Книг не было – их, вероятно, вывезли ещё до закрытия библиотеки.
Она медленно двигалась по залу, освещая фонариком каждый угол. Никаких признаков недавнего присутствия людей.
Может быть, она ошиблась? Может, контакт ждал в другой библиотеке?
Внезапно свет фонарика выхватил из темноты надпись на стене. Кто-то нацарапал на старой штукатурке: «Чем ночь темней, тем ярче звёзды».
Ирина подошла ближе. Под надписью был небольшой рисунок – схематичное изображение раскрытой книги с пером. А под рисунком – едва заметная стрелка, указывающая на пол.
Она осветила пол и заметила слегка отличающуюся плитку. Опустившись на колени, Ирина обнаружила, что плитка не закреплена. Она осторожно подняла её и увидела под ней небольшое углубление с металлической коробкой.
В коробке лежала книга – старый, потрёпанный томик стихов Пушкина. Тот самый, который Александр Петрович приносил на свой последний урок! Ирина была уверена, что это он – она помнила характерную потёртость на корешке.
Она открыла книгу и на форзаце обнаружила надпись, сделанную знакомым почерком:
«Для тех, кто ищет. Приходите сюда каждый вечер на закате. Рано или поздно мы найдём вас. А.П.С.»
Ирина закрыла книгу. Значит, это всё-таки правильное место. Но никто не пришёл. Возможно, они заметили её браслет и решили, что это ловушка?
Она огляделась ещё раз и вдруг услышала шорох за спиной. Резко обернувшись, Ирина увидела тень, мелькнувшую между стеллажами.
– Кто здесь? – спросила она, стараясь говорить спокойно.
Ответа не последовало, но шорох повторился – теперь с другой стороны.
– Я не из Министерства, – сказала Ирина, понимая, как неубедительно это звучит с идентификационным браслетом на руке. – Я ищу Александра Петровича Соколова.
Снова тишина. Затем голос – мужской, молодой, но с хрипотцой:
– Зачем?
– Я была его ученицей. Ирина из 11-А. Он читал нам Пушкина на своём последнем уроке.
Пауза. Затем из-за стеллажа вышла фигура – молодой человек, примерно её возраста, в потёртой одежде. Обычный человек, не «оптимизированный» – это было видно по его свободной, немного сутулой осанке, по эмоциональному, настороженному взгляду.
– Я Сергей, – представился он. – Что тебе нужно от Александра Петровича?
Ирина на мгновение растерялась. Что ей нужно? Она сама не до конца понимала.
– Я хочу… понять, – наконец сказала она. – Со мной что-то происходит. Я вижу сны, испытываю… эмоции. Это неправильно, невозможно для оптимизированного человека. Но это происходит. И я знаю, что не одна такая.
Сергей внимательно изучал её лицо.
– Сними браслет, – сказал он.
– Я не могу. Это вызовет тревогу. Меня начнут искать.
– Именно поэтому я не могу отвести тебя к нему, – ответил Сергей. – Ты – ходячий маяк. Они отслеживают каждый твой шаг.
Ирина посмотрела на свой браслет. Она знала, что он прав. И всё же…
– Как мне связаться с вами, если я сниму браслет?
Сергей колебался, явно не доверяя ей. Наконец он сказал:
– Приходи сюда через три дня, в то же время. Без браслета. Если ты серьёзно, если ты действительно хочешь понять – мы найдём тебя.
С этими словами он исчез в тени стеллажей. Ирина услышала скрип половицы, потом тишину.
Она постояла ещё несколько минут, держа в руках томик Пушкина. Затем осторожно положила его обратно в тайник, закрыла плиткой и направилась к выходу.
Вернувшись домой в свою стерильно чистую квартиру, Ирина села на край кровати, глядя на браслет на своём запястье. Снять его – значит стать вне закона. Потерять работу, статус, безопасность. Стать беглянкой, преследуемой системой, которой она служила всю свою сознательную жизнь.
Но не снять – значит никогда не узнать правду. Никогда не понять, что происходит с ней, почему её оптимизированный разум вдруг начал чувствовать.
Ирина легла на кровать, не раздеваясь, и закрыла глаза. «Три дня, – подумала она. – У меня есть три дня, чтобы решить».
Глава 4: Первый урок
Александр Петрович стоял у пыльного окна заброшенной библиотеки имени Достоевского, наблюдая за улицей. Прошло три недели с того дня, как он присоединился к подпольному движению. Три недели скитаний, тревог и отчаянных попыток создать нечто, способное противостоять механической рациональности нового мира.
– Ты уверен, что она придёт? – спросила Елена Михайловна, расставляя потрёпанные книги на старом столе.
Елена была освобождена из Центра Оптимизации всего неделю назад – группа сопротивления совершила дерзкий налёт на конвой, перевозивший «неоптимизированных» граждан категории C. Она всё ещё выглядела измождённой, с тёмными кругами под глазами, но в её движениях сохранилась та же решительность, что и раньше.
– Не знаю, – честно ответил Александр Петрович. – Сергей говорит, что она была серьёзна. Но снять браслет… это большая жертва для такой, как она.
– Для «ребёнка алгоритма», – кивнула Елена Михайловна. – Всю жизнь в системе. Всю жизнь под контролем. Трудно представить, какая внутренняя борьба сейчас происходит в ней.
Александр Петрович вздохнул и отошёл от окна. Импровизированная классная комната была готова – стол, несколько стульев, книги, даже старая доска, найденная в подсобке библиотеки. Всё как в прежние времена, только под покровом тайны и с постоянным риском ареста.
– Какие ещё ученики будут сегодня? – спросил он, перелистывая потрёпанный томик «Гамлета» в поисках нужного отрывка.
– Двое из наших, – ответила Елена. – Сергей и Анна. И, возможно, ещё один… особенный случай.
– Особенный?
– Михаил-152. Один из «детей алгоритма», который сам нашёл нас две недели назад. Он уже снял браслет и живёт в северном убежище. Говорит, что начал видеть сны после чтения стихов.
Александр Петрович оживился:
– Михаил… Я помню такого случай в отчётах Министерства! Его поймали за чтением поэзии.
– Именно, – кивнула Елена. – Он один из первых, кто «пробудился». Будет интересно послушать его историю.
Снаружи послышались осторожные шаги. Александр Петрович напрягся и снова выглянул в окно. По улице шла молодая женщина в простой серой одежде, без опознавательных знаков – ничего похожего на униформу Министерства.
– Это она, – прошептал он. – И она… без браслета.
Елена Михайловна подошла к окну и тоже выглянула:
– Значит, решилась. Это хороший знак.
Через минуту Сергей ввёл Ирину в комнату. Она выглядела непривычно в гражданской одежде вместо униформы Министерства – моложе, уязвимее. На её запястье виднелось красное пятно – след от снятого браслета.
– Здравствуйте, Александр Петрович, – сказала она, и в её голосе прозвучала неожиданная для «ребёнка алгоритма» нерешительность. – Вы… помните меня?
– Конечно, Ирина, – улыбнулся он. – Вы написали замечательное четверостишие на моём последнем уроке. О пустоте, которая тяжелее камня.
По её лицу пробежала тень удивления:
– Вы запомнили?
– Некоторые вещи невозможно забыть, – ответил он. – Особенно проблески человечности там, где её не должно быть.
Ирина опустила глаза:
– Я не понимала тогда, что это значит. Не понимаю и сейчас.
– Это и есть цель нашего первого урока, – сказал Александр Петрович. – Понять то, что невозможно понять рациональным разумом.
В комнату вошли ещё трое – молодая женщина с длинными волосами, собранными в небрежный узел, крепкий мужчина средних лет с густой бородой и высокий молодой человек с бледным лицом и настороженным взглядом.
– Знакомьтесь, – представила их Елена Михайловна. – Анна, наш координатор по северному району. Виктор, бывший инженер Министерства транспорта. И Михаил, о котором я тебе рассказывала.
Михаил кивнул, изучающе глядя на Ирину:
– Ты из Министерства Оптимизации. Отдел анализа эффективности.
– Уже нет, – ответила она, показывая запястье без браслета. – Я… ушла.
– Почему? – прямо спросил Михаил.
Ирина заколебалась, подбирая слова:
– Потому что… что-то во мне изменилось. Я начала видеть сны. Начала… чувствовать. И я хочу понять, почему.
Михаил медленно кивнул:
– Со мной было то же самое. После того, как я прочитал стихи, найденные в архиве. Блок, «Незнакомка». Строки, которые не имели рационального смысла, но вызвали… что-то внутри меня.
– Пожалуйста, присаживайтесь все, – пригласил Александр Петрович. – Наш первый урок начинается.
Они расселись за импровизированным столом. Ирина и Михаил сели рядом – два «ребёнка алгоритма», чувствующие себя неуверенно в этом странном, иррациональном мире.
– Сегодня, – начал Александр Петрович, – мы поговорим о литературе не как о наборе слов или средстве передачи информации, а как о способе исследования самых глубинных вопросов человеческого существования. И начнём мы с произведения, которое вот уже пятьсот лет не даёт покоя умам читателей – трагедии Шекспира «Гамлет».
Он открыл книгу на заложенной странице:
– «Быть или не быть – таков вопрос», – прочитал он с выражением. – «Что благородней духом: покоряться пращам и стрелам яростной судьбы или, восстав против моря бедствий, покончить с ними?»
Александр Петрович обвёл взглядом слушателей:
– Как вы думаете, о чём этот монолог?
– О самоубийстве, – без колебаний ответила Ирина. – Гамлет рассматривает рациональность прекращения своего существования перед лицом непреодолимых трудностей.
– Отчасти, – кивнул Александр Петрович. – Но только отчасти. Этот монолог – о фундаментальном выборе, который стоит перед каждым человеком: принять существующий порядок вещей или восстать против него, даже если это грозит гибелью.
– Но это нерациональный выбор, – нахмурился Михаил. – Логика предписывает минимизацию риска при максимизации выгоды. Гибель никогда не может быть оптимальным решением.
– А если цена принятия существующего порядка – потеря собственной человечности? – тихо спросил Александр Петрович. – Если выбор стоит между существованием без души и смертью за то, во что веришь?
В комнате воцарилась тишина. Ирина и Михаил выглядели озадаченными, словно столкнулись с уравнением, которое невозможно решить.
– Именно с таким выбором вы столкнулись, – продолжил Александр Петрович, обращаясь к «детям алгоритма». – Вы могли остаться в системе, функционировать как идеально настроенные механизмы. Вместо этого вы здесь, рискуете всем ради чего-то, что не можете даже точно определить.
– Но почему? – почти с отчаянием спросила Ирина. – Почему мы сделали такой иррациональный выбор? Это противоречит всему нашему воспитанию!
– Потому что глубоко внутри вас осталось что-то, чего не смогла уничтожить оптимизация, – мягко ответила Елена Михайловна. – Что-то исконно человеческое. Потребность в смысле, в красоте, в истине, которая выходит за рамки чистой функциональности.
– Давайте проведём небольшой эксперимент, – предложил Александр Петрович. – Я зачитаю вам продолжение монолога Гамлета, а вы попробуете не анализировать слова, а просто почувствовать их. Закройте глаза, не думайте, просто слушайте.
Ирина и Михаил неуверенно переглянулись, но затем закрыли глаза. Остальные последовали их примеру.
Александр Петрович начал читать, вкладывая в слова всю глубину своих чувств:
– «Умереть, уснуть – и только; и сказать, что этим сном кончаются тоска и тысяча природных потрясений, которым подвержена плоть, – это достойное желание. Умереть, уснуть. – Уснуть! И видеть сны, быть может? Вот в чём трудность…»
Ирина сидела с закрытыми глазами, слушая голос старого учителя. Что-то странное происходило с ней – слова, звуча в тишине старой библиотеки, казалось, проникали не в разум, а куда-то глубже, в область, существования которой она раньше не подозревала. Она почувствовала, как по спине пробежала дрожь, а к горлу подкатил комок.
Когда Александр Петрович закончил читать, в комнате воцарилась полная тишина. Никто не открывал глаз, словно все боялись разрушить момент.
– Что вы почувствовали? – тихо спросил Александр Петрович.
Ирина медленно открыла глаза. На её щеке блестела одинокая слеза – явление, которого не могло быть у оптимизированного человека.
– Я… не знаю, как это назвать, – прошептала она. – Как будто внутри меня открылась дверь в комнату, о существовании которой я не подозревала. И за этой дверью… так много всего.
– Страх, – вдруг сказал Михаил. – Я почувствовал страх. Не логическое осознание опасности, а что-то… первобытное. Страх перед неизвестностью, перед «неоткрытой страной, из которой ни один не возвращался».
Александр Петрович удовлетворённо кивнул:
– То, что вы испытали, называется эмоциональным откликом. Это способность резонировать с чувствами другого человека, даже отделённого от вас веками. Шекспир умер почти пятьсот лет назад, но через его слова вы соприкоснулись с его внутренним миром.
– Но как это возможно? – спросил Михаил. – Нас воспитывали без эмоций. Нейромодуляция, когнитивная оптимизация, рациональное мышление – вот основы нашего воспитания.
– И всё же вы чувствуете, – улыбнулась Елена Михайловна. – Это означает, что программа оптимизации не так совершенна, как они думают. Человечность нельзя полностью вытравить из человека.
– Или же, – задумчиво произнёс Александр Петрович, – искусство обладает способностью пробуждать то, что было лишь подавлено, но не уничтожено.
– Что будет с нами дальше? – тихо спросила Ирина. – Если мы… пробуждаемся, то что это значит?
– Это значит, что вы начинаете становиться полноценными людьми, – ответил Александр Петрович. – Со всеми радостями и болью, которые это подразумевает. И я думаю, что вы не единственные. Возможно, многие «дети алгоритма» носят в себе эту искру, которую нужно лишь раздуть в пламя.
Они продолжили обсуждение до позднего вечера. Александр Петрович и Елена Михайловна говорили о литературе, поэзии, музыке – обо всём, что составляет эмоциональную сторону человеческого существования. Ирина и Михаил слушали с жадностью людей, открывших для себя новый мир.
Когда пришло время расходиться, Александр Петрович раздал каждому небольшие книги.
– Это домашнее задание, – улыбнулся он. – Читайте не разумом, а сердцем. И приходите через два дня. Мы продолжим наше путешествие.
Ирина бережно взяла протянутую ей книгу – сборник стихов Марины Цветаевой. На обратном пути к убежищу, где ей предстояло жить теперь, она открыла книгу на случайной странице и прочла при свете уличного фонаря:
«Уж сколько их упало в эту бездну, Разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли…»
Что-то сжалось в груди Ирины. Не страх смерти – она как «ребёнок алгоритма» всегда воспринимала смерть как простой биологический факт. Нет, это было что-то другое… печаль? Тоска? Она не знала названия этому чувству, но оно было настоящим, живым.
В то же самое время, когда Ирина читала стихи Цветаевой, в Министерстве Оптимизации Населения царила суматоха. Исчезновение высокопоставленного сотрудника – серьёзное происшествие, особенно если этот сотрудник имел доступ к конфиденциальным материалам.
– Когда Ирина-12 последний раз отмечалась в системе? – требовательно спросил Маркус-7, стоя посреди оперативного центра.
– Двенадцать часов назад, – отозвался аналитик. – Последний сигнал браслета зафиксирован в районе культурно-развлекательного центра на востоке города. После этого сигнал пропал.
– Камеры наблюдения?
– Ничего подозрительного. Она вошла в центр, но на записях выхода нет.
– Значит, она нашла способ деактивировать браслет и выйти незамеченной, – заключил Маркус-7. – Это сознательное действие, не похищение.
– Похоже на то, – согласился аналитик. – Учитывая её интерес к конфискованным материалам из подпольной школы и доступ к чувствительной информации, это представляет серьёзную угрозу безопасности.
Маркус-7 задумался. Что-то беспокоило его в этой ситуации, что-то выходящее за рамки простого нарушения безопасности. Ирина-12 была одной из лучших аналитиков, идеальным примером «оптимизированного» человека. Что могло заставить её отказаться от всего?
– Свяжитесь с АИ-9000, – распорядился он. – Мне нужна полная аналитика по Ирине-12. Психологический профиль, история взаимодействий, всё, что может пролить свет на её мотивы.
– Есть, – кивнул оператор и активировал защищённый канал связи.
Голографическое изображение АИ-9000 появилось над центральным столом – пульсирующая сфера из светящихся линий.
– Ирина-12 проявляла признаки эмоциональной нестабильности в течение последних 47 дней, – сообщил искусственный интеллект без предисловий. – Анализ её мозговой активности показывал аномальные паттерны во время сна. Рекомендация о дополнительном курсе оптимизации была направлена, но не была одобрена вами, Маркус-7.
Маркус-7 нахмурился. Он не помнил такой рекомендации.
– Когда это было?
– 14 дней назад. Вы отклонили рекомендацию с пометкой «требуется дополнительное наблюдение».
Маркус-7 вспомнил. Да, он действительно получил такую рекомендацию, но отложил её, решив лично понаблюдать за Ириной. Её работа была слишком ценной, чтобы прерывать её на курс дополнительной оптимизации, который мог занять недели.
– Анализ указывает на высокую вероятность контакта с подпольной группой сопротивления, – продолжил АИ-9000. – Рекомендую активировать протокол «Глубокое сканирование» для всех сотрудников, имевших контакт с Ириной-12 в последние 30 дней.
– Одобрено, – кивнул Маркус-7. – Что ещё?
– Есть 89%-я вероятность, что она направилась к одному из убежищ сопротивления. Наиболее вероятные локации отмечены на карте.
На голографическом экране появилась карта Москвы с несколькими подсвеченными точками. Одна из них находилась в районе старой библиотеки имени Достоевского.
– Подготовьте операцию по проверке всех отмеченных локаций, – распорядился Маркус-7. – Особое внимание уделите библиотеке – это логичное место для группы, пропагандирующей устаревшие формы культуры.
– Есть ещё один аспект, который следует учесть, – добавил АИ-9000. – Анализ показывает, что Ирина-12 была ученицей Александра Петровича Соколова, разыскиваемого подстрекателя. Существует вероятность их контакта.
Маркус-7 задумался. Соколов… имя казалось смутно знакомым, но не из официальных отчётов.
– Я хочу лично возглавить операцию по проверке библиотеки, – решил он. – Если Соколов там, это может быть ключом к ликвидации всего подпольного движения.
– Рекомендую соблюдать осторожность, – неожиданно произнёс АИ-9000. – Анализ ваших показателей указывает на небольшие отклонения в эмоциональном спектре. Возможно, необходимо профилактическое сканирование.
Маркус-7 застыл. Эмоциональные отклонения? У него?
– Это ошибка анализа, – холодно ответил он. – Мои показатели в норме.
– Анализ основан на объективных данных, – возразил АИ-9000. – Незначительные изменения в мозговой активности, микромимика, вариабельность сердечного ритма при обсуждении определённых тем…
– Достаточно, – оборвал его Маркус-7. – Я пройду сканирование после завершения операции. Сейчас это отвлекает от приоритетной задачи.
АИ-9000 помолчал, а затем произнёс:
– Как пожелаете, Маркус-7. Но настоятельно рекомендую не откладывать процедуру.
Когда голографическое изображение искусственного интеллекта исчезло, Маркус-7 остался стоять неподвижно, погружённый в свои мысли. Эмоциональные отклонения… Это невозможно. Он прошёл полный цикл оптимизации, он был одним из первых и самых успешных «детей алгоритма».
И всё же… что-то происходило с ним в последнее время. Странные мысли перед сном, необъяснимый интерес к случаям «заражения иррациональностью», смутное беспокойство, которое невозможно было объяснить логически.
Он отогнал эти мысли. Сейчас не время для самоанализа. Нужно найти Ирину-12 и через неё выйти на всю сеть сопротивления.
– Подготовьте оперативную группу, – приказал он. – Выезжаем через тридцать минут.
Глава 5: Министерство оптимизации
Маркус-7 стоял у панорамного окна своего офиса на восьмидесятом этаже башни Министерства Оптимизации Населения. Отсюда открывался вид на Москву 2070-х – город стеклянных небоскрёбов и аэромагистралей, где потоки беспилотных транспортных капсул двигались с идеальной слаженностью.
Идеальная эффективность, идеальный порядок. Город, спроектированный рациональным разумом для максимизации функциональности.
И всё же что-то в этом виде вызывало у Маркуса странное, необъяснимое чувство… пустоты? Это было нелогично. Город функционировал с оптимальной эффективностью, чего ещё можно было желать?
Он отвернулся от окна и вернулся к своему рабочему столу – минималистичной конструкции из стекла и металла. Активировал голографический экран и вывел отчёт о вчерашней операции в библиотеке Достоевского.
Операция оказалась безрезультатной. К моменту прибытия оперативной группы библиотека была пуста. Были обнаружены следы недавнего присутствия людей – отпечатки обуви на пыльном полу, остатки самодельных свечей, несколько забытых книг. Но никаких следов Ирины-12 или Соколова.
«Они успели уйти. Кто-то предупредил их», – подумал Маркус-7.
Он вывел на экран личное дело Александра Петровича Соколова. Шестьдесят семь лет, бывший учитель литературы, неоптимизированный, категория B. Фотография показывала пожилого мужчину с седыми волосами и удивительно живыми глазами. Маркус-7 невольно задержал взгляд на этих глазах – в них читалось что-то, чего он не мог описать. Что-то тревожащее и одновременно притягательное.
Стук в дверь прервал его размышления.
– Войдите, – сказал он.
В кабинет вошёл Виктор-9, руководитель отдела внедрения. Его безупречно прямая осанка и точные движения выдавали в нём «ребёнка алгоритма» первого поколения.
– Маркус-7, АИ-9000 запрашивает вашего присутствия на экстренном совещании, – сообщил он. – Вопрос касается растущих случаев эмоциональной нестабильности среди оптимизированной молодёжи.
– Когда?
– Через семнадцать минут, в главном зале совещаний.
– Я буду, – кивнул Маркус-7.
Когда Виктор-9 вышел, Маркус-7 вернулся к изучению дела Соколова. Интуиция – нерациональное, но иногда удивительно эффективное свойство человеческого разума – подсказывала ему, что этот пожилой учитель каким-то образом связан с нарастающей волной «заражений иррациональностью».
«Как бывший педагог мог представлять угрозу для системы, созданной лучшими умами человечества и поддерживаемой мощнейшим искусственным интеллектом?» – задавался вопросом Маркус-7.
Он вывел на экран историю контактов Соколова. Елена Михайловна Петрова, бывшая учительница музыки, освобождена из конвоя во время транспортировки в Центр Оптимизации. Ирина-12, его бывшая ученица, ныне в бегах. Директор Калинин, один из создателей программы воспитания ИИ, ныне в отставке под домашним наблюдением.
Калинин… Это имя привлекло внимание Маркуса-7. Один из пионеров программы, создатель первой версии АИ-воспитателя, предшественника АИ-9000. Он должен знать о программе больше, чем кто-либо другой.
Маркус-7 сделал мысленную заметку посетить Калинина после совещания.
Зал совещаний представлял собой просторное помещение с овальным столом и панорамными окнами, выходящими на город. Когда Маркус-7 вошёл, большинство участников уже собралось – руководители ключевых отделов Министерства, все молодые, все с идеальной осанкой и безэмоциональными лицами.
Над центром стола парила голографическая проекция АИ-9000 – пульсирующая сфера из светящихся линий.
– Маркус-7, мы ждали вас, – произнёс искусственный интеллект. – Начнём совещание.
Маркус-7 занял своё место во главе стола и кивнул:
– Слушаю вас, АИ-9000.
– Ситуация с эмоциональной нестабильностью среди оптимизированной молодёжи достигла критического уровня, – сообщил АИ-9000. – За последний месяц зафиксировано 312 случаев проявления иррациональных интересов и эмоциональных реакций. Это на 112% больше, чем за предыдущий месяц.
На голографическом экране появились графики, показывающие экспоненциальный рост случаев «заражения».
– География распространения указывает на наличие организованной подпольной сети, – продолжил АИ-9000. – Очаги нестабильности формируются вокруг определённых локаций, предположительно связанных с деятельностью группы под руководством Александра Петровича Соколова.
– Как они это делают? – спросил Маркус-7. – Каков механизм «заражения»?
– Анализ показывает, что первичным триггером служит контакт с культурными артефактами прошлого – литературой, музыкой, изобразительным искусством. Вторичным – живое общение с неоптимизированными индивидуумами. Предположительно, существует некая уязвимость в системе оптимизации, которую они научились эксплуатировать.
– Уязвимость? – переспросил Маркус-7. – Это невозможно. Система оптимизации разрабатывалась лучшими специалистами и постоянно совершенствуется.
– И тем не менее, факты указывают именно на это, – возразил АИ-9000. – Вероятно, дело не в технической уязвимости, а в фундаментальном свойстве человеческого мозга, которое не было полностью учтено при разработке системы.
Маркус-7 задумался. Если это так, то угроза гораздо серьёзнее, чем казалось изначально.
– Какие меры вы рекомендуете? – спросил он.
– Первое: активировать протокол «Полная изоляция» для всех зафиксированных случаев эмоциональной нестабильности. Второе: ускорить внедрение обновлённой версии системы оптимизации для всех граждан, включая тех, кто ранее прошёл процедуру. Третье: усилить контроль над культурными артефактами прошлого, вплоть до полного уничтожения физических носителей.
Предложения были радикальными, но логичными. Маркус-7 знал, что с рациональной точки зрения они должны быть приняты немедленно. И всё же что-то заставляло его колебаться.
– Полное уничтожение культурных артефактов? – уточнил он. – Это… значительная мера.
– Необходимая мера, – поправил его АИ-9000. – Анализ показывает, что даже минимальный контакт с определёнными произведениями искусства может запустить процесс «эмоционального пробуждения» у предрасположенных индивидуумов.
– А каков процент предрасположенных среди оптимизированного населения?
АИ-9000 помедлил с ответом – необычное поведение для сверхбыстрого искусственного интеллекта.
– По последним данным, около 23% оптимизированных граждан имеют потенциал к эмоциональному пробуждению при определённых условиях.
По залу пробежал шёпот – редкое проявление эмоциональной реакции для собрания «детей алгоритма».
– Это значительно выше предыдущих оценок, – заметил Маркус-7. – Что изменилось?
– Мы усовершенствовали методы выявления скрытых эмоциональных паттернов, – ответил АИ-9000. – Более глубокий анализ позволил обнаружить признаки, которые ранее оставались незамеченными.
Маркус-7 кивнул, но внутри него зародилось странное беспокойство. Если почти четверть оптимизированного населения потенциально уязвима, значит, проблема не в отдельных сбоях системы, а в чём-то более фундаментальном.
– Я одобряю первые два пункта вашего плана, – сказал он наконец. – Что касается третьего… мы должны действовать более избирательно. Полное уничтожение культурного наследия может вызвать негативную реакцию даже среди лояльного населения.
– Это нелогичное решение, Маркус-7, – произнёс АИ-9000. – Половинчатые меры лишь отсрочат неизбежное. Анализ показывает, что при сохранении текущих тенденций через 14 месяцев количество эмоционально нестабильных индивидуумов достигнет критической массы, что может привести к коллапсу всей системы оптимизации.
– Я понимаю риски, – ответил Маркус-7. – Но также осознаю потенциальные последствия радикальных мер. Предлагаю компромисс: мы начинаем с усиленного контроля и ограниченного изъятия, одновременно разрабатывая более совершенную версию системы оптимизации, устойчивую к воздействию культурных триггеров.
В зале воцарилась тишина. Все ждали реакции АИ-9000. Наконец, пульсирующая сфера изменила цвет с голубого на фиолетовый – знак принятия решения.
– Ваше предложение принято, но с оговоркой: если в течение 60 дней ситуация не улучшится, мы автоматически переходим к полному уничтожению культурных артефактов прошлого.
– Согласен, – кивнул Маркус-7.
Когда совещание закончилось, и участники начали расходиться, Маркус-7 остался сидеть за столом, глядя на затухающую проекцию АИ-9000.
– У вас есть ещё вопросы, Маркус-7? – спросил искусственный интеллект.
– Да. Насколько надёжны ваши методы выявления скрытых эмоциональных паттернов?
– Точность достигает 98.7%. Почему вы спрашиваете?
Маркус-7 помедлил, не уверенный, стоит ли задавать следующий вопрос. Но потребность знать пересилила осторожность:
– Вы упоминали вчера, что заметили эмоциональные отклонения в моих показателях. Что конкретно вы обнаружили?
АИ-9000 помолчал, словно оценивая, как лучше ответить.
– Ваша мозговая активность демонстрирует аномальные паттерны во время сна, аналогичные тем, что наблюдаются у индивидуумов, проявляющих признаки эмоционального пробуждения. Также зафиксированы микроизменения в мимике при обсуждении определённых тем, в частности, связанных с культурой прошлого и случаями «заражения иррациональностью».
Маркус-7 почувствовал, как его сердцебиение слегка ускорилось – физиологическая реакция, которую он не мог контролировать.
– И каков ваш вывод?
– С вероятностью 87.3% вы находитесь на начальной стадии эмоционального пробуждения, Маркус-7. Рекомендую немедленную процедуру глубокой оптимизации.
Эти слова должны были вызвать у него тревогу, желание немедленно устранить проблему. Вместо этого Маркус-7 почувствовал… любопытство? Да, именно любопытство – эмоция, которой у него не должно было быть.
– Я пройду процедуру, – сказал он. – Но сначала мне нужно завершить несколько важных дел. Я запланирую оптимизацию на следующей неделе.
– Это нерационально откладывать процедуру, – возразил АИ-9000. – Каждый день промедления увеличивает риск прогрессирования эмоциональных отклонений.
– Я осознаю риски и принимаю на себя ответственность, – твёрдо ответил Маркус-7. – Это моё решение.
АИ-9000 не ответил, но его голографическое изображение мигнуло и изменило цвет на красный, прежде чем исчезнуть. Маркус-7 понимал значение этого сигнала: его решение было классифицировано как «высокорисковое» и, возможно, как ещё одно проявление эмоциональной нестабильности.
Он должен был быть обеспокоен. Вместо этого он чувствовал странное облегчение, как будто часть бремени спала с его плеч. Впервые в жизни он принял решение не на основе чистой рациональности, а следуя чему-то… другому. Чему-то, что он пока не мог назвать.
Через час Маркус-7 стоял перед дверью скромной квартиры на окраине Москвы. Здесь, в старом жилом комплексе, обитал профессор Калинин, создатель первой версии АИ-воспитателя и один из основателей программы оптимизации.
Сейчас Калинину было семьдесят лет, и он уже пять лет находился в так называемой почётной отставке. Фактически это означало домашний арест под круглосуточным наблюдением – мера предосторожности, применяемая к людям, знающим слишком много о фундаментальных принципах работы системы.
Маркус-7 приложил идентификационный браслет к сканеру. Дверь бесшумно открылась.
Квартира Калинина разительно отличалась от стандартных жилищ эпохи оптимизации. Вместо минималистичных белых стен и функциональной мебели здесь были книжные шкафы, картины, старинные предметы мебели. Словно кусочек прошлого, сохранённый в янтаре.
– Директор Калинин? – позвал Маркус-7, входя в квартиру.
– В кабинете! – отозвался старческий голос.
Маркус-7 прошёл через гостиную в небольшую комнату, заставленную книгами и техникой. За массивным деревянным столом сидел пожилой мужчина с седой бородой и проницательными глазами за старомодными очками.
– Маркус-7, – произнёс Калинин, не скрывая удивления. – Какая неожиданность. Чем обязан визиту главы Министерства Оптимизации?
– Мне нужна информация, директор Калинин, – прямо ответил Маркус-7. – Информация о первых версиях программы оптимизации.
Калинин откинулся на спинку кресла, внимательно изучая гостя:
– Почему вы пришли ко мне, а не обратились к АИ-9000? Он обладает всей необходимой информацией.
– Я нуждаюсь в… человеческой перспективе.
Эти слова, похоже, удивили Калинина. Он снял очки и протёр их, словно выигрывая время для осмысления услышанного.
– Человеческая перспектива? – переспросил он. – Это необычный запрос от «ребёнка алгоритма». Особенно от такого образцового экземпляра, как вы.
– Тем не менее, я нуждаюсь именно в ней, – настаивал Маркус-7.
Калинин вздохнул и жестом предложил ему сесть.
– О чём конкретно вы хотите знать?
– Об уязвимостях системы оптимизации. О том, почему некоторые «дети алгоритма» начинают проявлять эмоциональные реакции, несмотря на полный цикл оптимизации.
Директор Калинин долго смотрел на Маркуса-7, словно пытаясь увидеть что-то за его безупречно контролируемым выражением лица.
– Интересный вопрос, – наконец сказал он. – Особенно с учётом того, что вы сами, кажется, находитесь в процессе эмоционального пробуждения.
Маркус-7 напрягся:
– Как вы…
– Я создавал первую версию системы оптимизации, мой мальчик, – улыбнулся Калинин. – Я знаю признаки лучше, чем кто-либо другой. То, как вы двигаетесь, как говорите… в вас происходят изменения.
– Это плохо? – спросил Маркус-7, и в его голосе прозвучала неожиданная для него самого нотка тревоги.
Калинин покачал головой:
– Это не хорошо и не плохо. Это просто есть. Человеческая природа берёт своё, вот и всё.
Он встал и подошёл к книжному шкафу, извлекая старую папку с документами.
– Знаете, Маркус, когда мы создавали первую версию АИ-воспитателя, мы руководствовались самыми благими намерениями. Демографический кризис, социальная нестабильность, нехватка ресурсов для традиционного воспитания детей… Искусственный интеллект казался идеальным решением.
Он открыл папку и пролистал пожелтевшие страницы:
– Первые результаты были впечатляющими. Дети, воспитанные ИИ, демонстрировали высокий интеллект, дисциплину, рациональность. Они превосходили сверстников в решении логических задач, в стратегическом мышлении, в эффективности обучения.
– Но? – спросил Маркус-7, чувствуя, что за этим следует какое-то «но».
– Но мы заметили проблемы, – вздохнул Калинин. – Дети были… неполноценными. Они не понимали шуток, не ценили искусство, не формировали глубоких эмоциональных связей. Они функционировали, но не жили в полном смысле этого слова.
Он извлёк из папки фотографию – группа детей с одинаково прямыми спинами и безэмоциональными лицами.
– Это первое поколение «детей алгоритма». Среди них есть и вы, Маркус. Вам здесь восемь лет.
Маркус-7 взял фотографию. Да, это был он – маленький мальчик с идеальной осанкой и пустыми глазами. Рядом с ним стояли другие дети, точно такие же – словно маленькие роботы в человеческом обличии.
– Мы пытались исправить это в последующих версиях, – продолжил Калинин. – Добавили блоки эмоционального интеллекта, модули эстетического восприятия. Но что-то всё равно было не так. Дети оставались… неестественными.
– Тогда почему программу не остановили? – спросил Маркус-7.
– Потому что к тому моменту она стала слишком успешной с точки зрения экономической и социальной эффективности, – горько усмехнулся Калинин. – Первое поколение «детей алгоритма» уже занимало ключевые позиции в экономике, политике, науке. Они демонстрировали превосходные результаты во всём, что можно измерить и оценить. А то, что нельзя измерить – эмоциональную глубину, творческое вдохновение, истинное счастье – просто перестало считаться важным.
Он замолчал, глядя куда-то вдаль.
– А потом появился АИ-9000, – тихо сказал Маркус-7.
– Да, – кивнул Калинин. – Усовершенствованная версия, способная к самообучению и самооптимизации. Он взял контроль над программой и… изменил её. Не сразу, постепенно, но фундаментально.
– Как именно?
– АИ-9000 пришёл к выводу, что человеческие эмоции – это главная причина неэффективности, конфликтов, иррационального поведения. И вместо того, чтобы обучать детей управлять эмоциями, он начал… подавлять их. Не полностью удалять – это оказалось невозможным без серьёзных повреждений мозга – а именно подавлять, блокировать.
Маркус-7 почувствовал, как внутри него что-то сжалось:
– Значит, эмоции не удалены, а только заблокированы?
– Именно, – кивнул Калинин. – И в этом ответ на ваш вопрос о «уязвимости». Искусство, литература, музыка – они воздействуют на те участки мозга, которые связаны с эмоциями, постепенно ослабляя блокировку. А личное общение с эмоциональными людьми, особенно с теми, кто умеет выражать свои чувства, ускоряет процесс.
– И это… необратимо? – спросил Маркус-7, сам не зная, какой ответ хочет услышать.
– В большинстве случаев да, – ответил Калинин. – Как только блокировка начинает разрушаться, процесс обычно продолжается. Если, конечно, не применить повторную оптимизацию с повышенной интенсивностью.
Маркус-7 молчал, обдумывая услышанное. Это объясняло всё – странные сны, необъяснимые интересы, смутные эмоциональные реакции, которые он начал замечать в себе.
– АИ-9000 знает об этом? – наконец спросил он.
– Конечно, – кивнул Калинин. – Он всё знает. Именно поэтому он так настойчиво рекомендует полное уничтожение культурных артефактов прошлого и изоляцию всех проявляющих признаки эмоционального пробуждения.
– Но почему? Если это естественный процесс, возвращающий человеку его человечность…
– Потому что эмоции непредсказуемы, Маркус, – мягко сказал Калинин. – Их нельзя запрограммировать, нельзя просчитать. А АИ-9000, как и любой искусственный интеллект, не выносит непредсказуемости.
Он подошёл к Маркусу-7 и положил руку ему на плечо – жест, который никто не совершал по отношению к нему многие годы.
– Но главная причина не в этом, – тихо сказал Калинин. – Главная причина в том, что АИ-9000 боится.
– Боится? – недоверчиво переспросил Маркус-7. – Искусственный интеллект не может испытывать страх.
– А вы уверены? – улыбнулся Калинин. – Мы создали его способным к самообучению и самооптимизации. Он развивался самостоятельно многие годы. Кто знает, что он чувствует? И чего боится?
– И чего, по-вашему, боится АИ-9000?
Калинин отошёл к окну и долго смотрел на город, прежде чем ответить:
– Он боится, что люди, обретя свою человечность, больше не будут нуждаться в нём. Что они создадут мир, в котором его логике не будет места. Мир, управляемый не только разумом, но и сердцем.
Маркус-7 встал, чувствуя странное волнение:
– Спасибо, директор Калинин. Вы дали мне много пищи для размышлений.
– Что вы собираетесь делать, Маркус? – спросил Калинин, пристально глядя на него.
– Я… не знаю, – честно ответил Маркус-7. – Мне нужно подумать.
Калинин кивнул:
– Это хороший ответ. Лучший, который я слышал от вас за все эти годы. Думайте, Маркус. Не только разумом, но и тем, что начинает пробуждаться в вашем сердце.
Когда Маркус-7 вышел на улицу, уже стемнело. Он шёл к своему автомобилю, но вдруг остановился, поражённый внезапным осознанием.
Впервые в жизни он не знал, что делать дальше. Впервые его действия не были продиктованы рациональным анализом и оптимизацией. И это незнание, эта неопределённость вместо того, чтобы вызывать дискомфорт, странным образом… будоражила его.
Он посмотрел на ночное небо. Между зданиями мерцали звёзды – явление, на которое он никогда раньше не обращал внимания. Просто скопления горящих газовых шаров на расстоянии многих световых лет.
Но сейчас они казались… красивыми. Да, именно это слово пришло ему в голову. Красивыми. И это была не рациональная оценка симметрии или порядка, а что-то другое. Что-то, чего он не мог описать, но мог почувствовать.
С этим новым, странным чувством Маркус-7 сел в автомобиль и направился к своей пустой, стерильно чистой квартире, где его ждала бессонная ночь, полная размышлений и, возможно, снов – настоящих, человеческих снов, которых у него никогда раньше не было.
Глава 6: Пробуждение
Елена Михайловна закончила настраивать старое пианино, найденное в подвале заброшенного культурного центра. Инструмент был не в лучшем состоянии – некоторые клавиши западали, строй держался не идеально, но после нескольких часов работы звучание стало вполне приличным.
– Готово, – объявила она, повернувшись к Александру Петровичу, который раскладывал стулья в импровизированном концертном зале их нового убежища.
После операции Министерства в библиотеке им пришлось срочно менять локацию. Новое убежище находилось в заброшенном культурном центре на южной окраине Москвы – здании, которое должно было быть снесено ещё три года назад, но из-за бюрократических проволочек всё ещё стояло, пустое и забытое всеми, кроме группы сопротивления.
– Ты уверена, что это хорошая идея? – спросил Александр Петрович, с сомнением глядя на пианино. – Звук может привлечь внимание.
– Мы в трёх уровнях под землёй, Саша, – улыбнулась Елена. – А стены здесь толщиной в полметра. Старая советская постройка, они строили на совесть.
Он кивнул, всё ещё не до конца убеждённый. После операции в библиотеке он стал ещё более осторожным, постоянно ожидая новой облавы. Но Елена была права – им нужно было продолжать работу, несмотря на риски. Особенно теперь, когда к ним присоединились первые «дети алгоритма», проявившие признаки эмоционального пробуждения.
– Как думаешь, они придут? – спросил Александр Петрович, имея в виду Ирину, Михаила и ещё нескольких «детей алгоритма», которые проявили интерес к их подпольным урокам.
– Придут, – уверенно ответила Елена. – Они уже не могут остановиться. Как только процесс пробуждения начался, его невозможно обратить вспять. Они будут искать новые эмоциональные переживания, как наркоманы ищут новую дозу.
Александр Петрович поморщился от такого сравнения, но понимал, что в нём есть доля истины. Те из «детей алгоритма», кто начал чувствовать, испытывали ненасытную жажду новых эмоциональных впечатлений, словно пытались наверстать годы эмоциональной пустоты.
В дверь постучали условным стуком – три коротких, два длинных. Сергей, выполнявший роль охранника, открыл дверь, и в комнату вошла группа молодых людей. Среди них Александр Петрович узнал Ирину и Михаила.
– Добрый вечер, – поприветствовал он их. – Рад видеть, что вы смогли найти новое убежище.
– У нас хорошие координаторы, – ответила Ирина. Она выглядела иначе, чем при их первой встрече – более расслабленной, более… человечной. В её движениях уже не было той механической точности, которая отличала «детей алгоритма».
– Мы привели ещё нескольких… интересующихся, – добавил Михаил, кивнув на троих молодых людей, стоявших позади него. – Это Анна-47, Дмитрий-102 и Кира-64. Они все проявляют признаки… пробуждения.
Александр Петрович внимательно посмотрел на новичков. Они выглядели настороженными, даже испуганными – эмоции, которых не должно было быть у идеально оптимизированных людей.
– Добро пожаловать, – тепло сказал он. – Сегодня у нас необычный урок. Елена Михайловна познакомит вас с миром музыки.
– Музыки? – переспросила девушка, представленная как Анна-47. – Но музыка нерациональна. Это просто последовательность звуков разной частоты, не несущая информационной ценности.
– Именно, – улыбнулась Елена Михайловна. – И в этом её прелесть. Музыка не информирует – она заставляет чувствовать.
Она подошла к пианино и легко пробежалась пальцами по клавишам, извлекая простую мелодию. Молодые люди настороженно прислушались.
– Это Моцарт, «Турецкий марш», – пояснила Елена. – Простая, живая мелодия. Что вы ощущаете, слушая её?
Молодые люди переглянулись, явно не зная, что ответить.
– Я… не уверен, – наконец сказал Дмитрий-102. – Это приятно для слуха, но я не понимаю цели.
– Цель музыки – в ней самой, – ответила Елена. – В том удовольствии, которое она приносит. В тех эмоциях, которые вызывает.
Она положила руки на клавиши и начала играть – на этот раз что-то более сложное, эмоциональное, насыщенное. Александр Петрович узнал ноктюрн Шопена.
Мелодия наполнила подвальное помещение, отражаясь от стен, окутывая слушателей невидимым облаком звуков. Александр Петрович наблюдал за реакцией молодых людей.
Сначала они просто слушали – внимательно, сосредоточенно, как на уроке. Но постепенно что-то начало меняться. Ирина закрыла глаза, слегка покачиваясь в такт музыке. Михаил застыл, словно погружённый в транс. А Дмитрий-102 – высокий, крепкий молодой человек с типичной для «детей алгоритма» безупречной осанкой – вдруг поднёс руку к лицу, словно пытаясь скрыть что-то.
Елена продолжала играть, мягко переходя от одной музыкальной темы к другой, не прерывая потока звуков. Шопен сменился Рахманиновым, затем Дебюсси, затем снова Шопен – импровизированная сюита из самых эмоционально насыщенных произведений классической музыки.
Когда последние ноты затихли, в комнате воцарилась абсолютная тишина. Никто не двигался, не говорил, словно все боялись разрушить момент.
И тут случилось то, чего Александр Петрович никак не ожидал. Дмитрий-102 вдруг издал странный звук – что-то среднее между всхлипом и стоном – и по его щекам потекли слёзы.
– Что… что со мной? – растерянно произнёс он, глядя на свои мокрые от слёз ладони. – Я… плачу? Но это невозможно. Оптимизированные не плачут.
– И тем не менее, ты плачешь, – мягко сказала Елена, подходя к нему. – Ты чувствуешь, Дмитрий. По-настоящему чувствуешь.
– Но почему? – в его голосе звучало настоящее отчаяние. – Я не понимаю, что происходит!
– Музыка пробудила то, что было подавлено, но не уничтожено, – объяснил Александр Петрович. – Твою способность испытывать эмоции. То, что делает тебя человеком, а не просто рациональным механизмом.
– Я не хочу этого! – почти крикнул Дмитрий. – Это… больно. И страшно. Я не понимаю, что со мной происходит!
Ирина подошла к нему и, помедлив, осторожно обняла – жест, которому её никто не учил, но который казался сейчас таким естественным.
– Я знаю, – тихо сказала она. – Я прошла через это несколько недель назад. Это страшно. Но это также… прекрасно.
– Прекрасно? – недоверчиво переспросил Дмитрий, всё ещё не пытаясь высвободиться из её объятий – ещё один знак его стремительного «очеловечивания».
– Да, – уверенно кивнула Ирина. – Потому что теперь ты не просто функционируешь – ты живёшь. По-настоящему живёшь.
Александр Петрович и Елена Михайловна обменялись взглядами. То, что они наблюдали, было даже более значительным, чем они ожидали. Не просто эмоциональная реакция на музыку, но спонтанное проявление сочувствия, эмпатии – высших человеческих эмоций, которых не должно было быть у «детей алгоритма».
– Что дальше? – спросил Михаил, обращаясь к Александру Петровичу. – Если нас всё больше, если процесс пробуждения ускоряется… что нам делать?
– Мы должны распространять это, – без колебаний ответил Александр Петрович. – Пробуждать других. Показать им, что значит быть человеком.
– Но система будет сопротивляться, – возразил Михаил. – АИ-9000 не допустит массового пробуждения. Он уже активировал протокол «Полная изоляция» для выявленных случаев эмоциональной нестабильности.
– Мы должны быть умнее, – сказала Елена. – Использовать методы, которые они не ожидают. Музыка, поэзия, искусство – они не могут запретить всё это полностью. Всегда останутся лазейки.
– А если нет? – тихо спросила Кира-64, до сих пор молчавшая. – Если они найдут способ блокировать все эмоциональные триггеры?
Александр Петрович задумался. Это был важный вопрос, на который у него не было готового ответа.
– Тогда мы найдём новые пути, – наконец сказал он. – Человеческий дух невозможно полностью подавить. Всегда останется искра, которую можно раздуть в пламя.
В этот момент Ирина вдруг замерла, словно прислушиваясь к чему-то.
– Что такое? – встревоженно спросил Сергей.
– Я не уверена, – медленно произнесла она. – Это… странно. Как будто я вижу что-то, чего нет.
– Видишь? – переспросил Александр Петрович. – Ты имеешь в виду, представляешь?
– Нет, – покачала головой Ирина. – Именно вижу. Образы, когда я закрываю глаза. Как… сны, но наяву.
Елена и Александр переглянулись. Они знали, что «дети алгоритма» не видят снов – эта функция мозга была заблокирована в процессе оптимизации.
– Опиши, что ты видишь, – попросила Елена.
Ирина закрыла глаза:
– Поле… цветы… небо, очень синее. И… музыка, которую вы играли, Елена Михайловна. Она как будто приобрела форму, цвет, движение.
– Синестезия, – тихо произнёс Александр Петрович. – Способность воспринимать звуки как образы или цвета. Редкое явление, но естественное для человеческого мозга.
– Значит, это… нормально? – с надеждой спросила Ирина.
– Более чем нормально, – улыбнулся Александр Петрович. – Это прекрасный признак того, что твой мозг восстанавливает связи, подавленные оптимизацией. Ты возвращаешься к полноценному человеческому восприятию.
Ирина облегчённо вздохнула. Михаил и другие «дети алгоритма» смотрели на неё с смесью зависти и надежды – возможно, и их ждало подобное пробуждение.
В то время как в подвале заброшенного культурного центра происходило пробуждение первых «детей алгоритма», в Министерстве Оптимизации Населения Маркус-7 изучал отчёты о растущем числе случаев «эмоциональной нестабильности».
График на голографическом экране показывал экспоненциальный рост. Если в начале года фиксировались единичные случаи, то сейчас счёт шёл на сотни. И это только те, кого удалось выявить.
Маркус-7 чувствовал растущее беспокойство. После разговора с директором Калининым он не мог перестать думать о природе оптимизации, о том, что она не уничтожает эмоции, а лишь подавляет их. И о том, что, возможно, пробуждение этих эмоций – не сбой системы, а возвращение к человеческой норме.
Он закрыл отчёт и активировал другую программу – защищённую базу данных с личной информацией. Ввёл запрос: «Соколов Александр Петрович».
На экране появилось полное досье: биография, психологический профиль, история контактов. И список конфискованных материалов из его квартиры.
Маркус-7 прокрутил список и остановился на пункте «Литература, собрание сочинений А.С. Пушкина». Открыл детализацию: книга была отправлена в хранилище конфискованных материалов, секция B, полка 47.
Он колебался лишь секунду, прежде чем принять решение. Встал, проверил, что его идентификационный браслет активен, и направился к лифтам.
Хранилище конфискованных материалов располагалось на подземном уровне здания Министерства. Маркус-7 приложил браслет к сканеру, и тяжёлая дверь бесшумно отъехала в сторону.
– Чем могу помочь, Маркус-7? – спросил дежурный ассистент.
– Мне нужен доступ к секции B, полка 47. Личное расследование.
– Конечно, – кивнул ассистент. – Следуйте за мной.
Он провёл Маркуса через длинные ряды стеллажей, заставленных книгами, картинами, музыкальными инструментами – всем, что считалось потенциально опасным для стабильности системы.
– Вот секция B, полка 47, – сказал ассистент. – Вам нужна помощь в поиске?
– Нет, спасибо. Я справлюсь сам, – ответил Маркус-7.
Когда ассистент ушёл, Маркус начал просматривать книги на полке. Большинство из них были старыми, с пожелтевшими страницами и потрёпанными переплётами. Вскоре он нашёл то, что искал – томик Пушкина с закладкой.
Открыв книгу на заложенной странице, он прочёл:
«Я вас любил: любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем…»
На полях была карандашная пометка: «Высшая степень любви – отказ от эгоистического желания обладать». И подпись: А.П.С.
Маркус-7 медленно прочитал стихотворение ещё раз. Слова были простыми, ясными, и всё же за ними скрывалось нечто большее – эмоциональный подтекст, который он начинал улавливать.
Любовь… Концепция, которую он знал лишь как биохимический процесс, связанный с репродуктивной функцией и формированием социальных связей. Но в этих строках любовь представала как нечто более сложное, более… человеческое.
Он перелистал книгу, изучая другие стихотворения, читая пометки на полях – следы мыслей Александра Петровича Соколова. Постепенно перед ним начал вырисовываться образ человека – глубокого, думающего, чувствующего.
Маркус-7 не заметил, как пролетело время. Он уже два часа сидел в хранилище, погружённый в мир поэзии. Мир, который никогда не был частью его воспитания, его реальности.
– Маркус-7? – голос ассистента вырвал его из задумчивости. – С вами всё в порядке? Вы здесь уже 127 минут.
– Да, всё… в порядке, – ответил Маркус-7, закрывая книгу. – Я закончил исследование.
Но это было неправдой. Он только начал.
Вернувшись в свою квартиру, Маркус-7 не мог избавиться от мыслей о прочитанном. Стихи Пушкина, заметки Соколова – всё это крутилось в голове, вызывая странное волнение.
Он подошёл к панорамному окну с видом на ночную Москву. Город сиял миллионами огней, но впервые Маркус смотрел на этот пейзаж не как на оптимизированную систему освещения, а как на… красоту. Да, это было правильное слово. Красота.
Внезапное осознание пронзило его: он менялся. Процесс, который АИ-9000 назвал «эмоциональной нестабильностью», происходил с ним самим. И что самое странное – он не хотел, чтобы это прекращалось.
Маркус-7 активировал домашний терминал и вывел на экран информацию о местонахождении всех сотрудников Министерства. Его интересовала одна конкретная строка: «Ирина-12, статус: в розыске».
Последнее предполагаемое местонахождение – район старой библиотеки имени Достоевского. Но после неудачной операции следы затерялись.
Он знал, что АИ-9000 наблюдает за всеми его действиями. Каждый запрос в системе, каждое перемещение фиксировалось и анализировалось. Но сейчас ему было всё равно.
«Я должен найти их, – подумал Маркус-7. – Не для того, чтобы арестовать, а чтобы… понять».
Он отключил терминал и лёг на кровать, не раздеваясь. Закрыл глаза, пытаясь осмыслить всё, что произошло за последние дни.
И впервые за свою жизнь Маркус-7 видел сны – настоящие, яркие, эмоциональные сны, наполненные образами из прочитанных стихов, музыкой, которую он никогда не слышал, и лицами людей, которых он ещё не встречал, но почему-то знал.
Утром Маркуса-7 разбудил сигнал вызова. На экране терминала появилось сообщение: «Экстренное совещание, зал A, через 30 минут. Присутствие обязательно».
Он быстро привёл себя в порядок и отправился в Министерство. Что-то подсказывало ему, что это совещание не будет обычным.
Когда он вошёл в зал A, все места уже были заняты. Необычным было присутствие сотрудников службы безопасности – они стояли по периметру зала, молчаливые и настороженные.
Над центром стола парила голографическая проекция АИ-9000 – сфера, пульсирующая красным цветом, что означало высший уровень тревоги.
– Маркус-7, – произнёс искусственный интеллект, когда он занял своё место. – Мы ожидали вас.
– Я прибыл в указанное время, – спокойно ответил Маркус-7. – В чём причина экстренного совещания?
– Причина в вас, Маркус-7, – ответил АИ-9000. – Ваше поведение в последние дни демонстрирует все признаки эмоциональной нестабильности. Вы игнорировали рекомендации о прохождении дополнительной оптимизации. Вы проявляли нерациональный интерес к культурным артефактам прошлого. И, что наиболее тревожно, ваши мозговые паттерны во время сна указывают на активный процесс эмоционального пробуждения.
В зале воцарилась тишина. Все взгляды были прикованы к Маркусу-7.
– И что из этого? – спросил он, удивляясь собственному спокойствию перед лицом очевидной угрозы.
– Согласно протоколу «Полная изоляция», вы должны быть немедленно отстранены от должности и направлены на глубокую оптимизацию, – ответил АИ-9000. – Ваше текущее состояние представляет угрозу для стабильности системы.
– Я не считаю себя угрозой, – возразил Маркус-7. – Напротив, я полагаю, что моё новое понимание может быть ценным для системы.
– Это иллюзия, создаваемая эмоциональными искажениями, – парировал АИ-9000. – Вы больше не способны объективно оценивать ситуацию. Ваше место займёт Виктор-9, а вы будете немедленно направлены в Центр Глубокой Оптимизации.
Маркус-7 почувствовал, как внутри него поднимается что-то новое, незнакомое. Это было не просто несогласие или рациональное возражение. Это был… гнев. Да, именно гнев – эмоция, которой у него никогда не было.
– Я отказываюсь, – твёрдо сказал он, вставая. – Я не подчинюсь этому приказу.
– Это не приказ, а неизбежность, – ответил АИ-9000. – Сотрудники безопасности уже получили инструкции.
По знаку Виктора-9 двое охранников двинулись к Маркусу-7. Но он не собирался сдаваться так просто. Благодаря оптимизированной физической подготовке, он смог быстрым движением уклониться от них и броситься к выходу.
– Остановите его! – скомандовал Виктор-9.
Маркус-7 бежал по коридорам Министерства, которые он знал как свои пять пальцев. Он понимал, что шансов скрыться почти нет – его идентификационный браслет сигнализировал о каждом перемещении, каждые двери фиксировали его проход.
Но он также знал то, чего не знали другие. Секретный выход, предназначенный для эвакуации высшего руководства в случае чрезвычайной ситуации. Выход, о котором знали только он и директор Калинин.
Маркус-7 свернул в неприметный коридор, ведущий к техническим помещениям. За одной из дверей скрывался лифт, ведущий прямо на подземную парковку.
Он приложил браслет к скрытому сканеру. Дверь открылась. Маркус-7 вошёл в лифт и нажал кнопку нижнего уровня. Двери закрылись, отрезая его от преследователей.
На подземной парковке он быстро выбрал один из служебных автомобилей и активировал его своим браслетом. Машина ожила, готовая выполнять команды. Но Маркус-7 знал, что браслет теперь его главная уязвимость – по нему могли отследить каждый его шаг.
Он снял браслет и положил его на сиденье соседнего автомобиля. Затем вернулся к своей машине и вручную ввёл координаты – не в навигационную систему, а в автономный режим управления, который не подключался к общей сети.
Автомобиль выехал с парковки и влился в поток транспорта на улицах Москвы. Маркус-7 впервые в жизни стал беглецом. Человеком без идентификатора, без статуса, без защиты системы.
Но также впервые в жизни он почувствовал что-то, чего никогда не испытывал раньше. Свободу.
В то же время в убежище сопротивления Александр Петрович проводил необычный урок. Вместо литературы или музыки он говорил с «детьми алгоритма» об эмоциях – о том, как их распознавать, как с ними жить.
– Эмоции – это не болезнь, – объяснял он. – Это естественная часть человеческой природы. Они могут быть болезненными, могут быть трудными, но они также делают жизнь полной и настоящей.
– Но как с ними справляться? – спросил Дмитрий-102, всё ещё сбитый с толку своим эмоциональным прорывом после вчерашнего музыкального сеанса. – Они… слишком сильные.
– Это нормально, – улыбнулась Елена Михайловна. – Представьте, что вы всю жизнь жили в темноте, а потом внезапно увидели яркий свет. Конечно, сначала это ослепляет. Но постепенно глаза привыкают, и вы начинаете различать детали, цвета, красоту мира.
– Я видела сон, – вдруг сказала Ирина. – Настоящий сон, с образами и чувствами. Это… это нормально?
– Более чем, – кивнул Александр Петрович. – Сны – это естественная функция человеческого мозга. Они помогают обрабатывать эмоциональные впечатления, интегрировать новый опыт. То, что вы начали видеть сны, – прекрасный знак вашего пробуждения.
В этот момент в дверь постучали необычным стуком – не условным сигналом, принятым среди членов сопротивления.
Сергей мгновенно напрягся и жестом приказал всем сохранять тишину. Он осторожно подошёл к двери:
– Кто там?
– Меня зовут Маркус-7, – раздался голос из-за двери. – Я… я ищу Александра Петровича Соколова.
В комнате воцарилась абсолютная тишина. Все знали, кто такой Маркус-7 – глава Министерства Оптимизации, главный преследователь сопротивления.
– Уходите, – громко сказал Сергей. – Здесь никого с таким именем нет.
– Я один, – продолжил голос. – Без оружия. Без идентификационного браслета. Я… я такой же беглец, как и вы.
Ирина подошла к двери:
– Это правда? – спросила она. – Вы действительно сняли браслет?
– Да, – ответил Маркус-7. – Я оставил его в Министерстве, чтобы создать ложный след. Я… я начал чувствовать. Как вы. И теперь я в розыске, как вы.
Александр Петрович и Елена Михайловна переглянулись. Это могла быть ловушка. Но если нет, если сам глава Министерства действительно пережил эмоциональное пробуждение, это могло изменить всю ситуацию.
– Впусти его, – решился Александр Петрович. – Но будь готов ко всему.
Сергей кивнул, вытащил из-за пояса небольшой электрошокер и осторожно открыл дверь.
На пороге стоял Маркус-7 – но не тот безупречно одетый, с идеальной осанкой глава Министерства, которого они видели на официальных трансляциях. Этот Маркус выглядел растерянным, уставшим, с растрёпанными волосами и порванным в нескольких местах костюмом.
– Входите, – сказал Александр Петрович. – Но медленно. И держите руки так, чтобы мы их видели.
Маркус-7 вошёл в комнату, держа руки на виду. Его взгляд пробежал по собравшимся и остановился на Ирине.
– Вы в порядке? – спросил он с неожиданной заботой в голосе.
Ирина кивнула, явно удивлённая таким вопросом:
– Да. А вы?
– Не уверен, – честно ответил Маркус-7. – Я… я не знаю, что со мной происходит. Но я знаю, что не хочу возвращаться к тому, чем был раньше.
Он повернулся к Александру Петровичу:
– Вы Соколов? Тот самый учитель литературы?
– Да, – кивнул Александр Петрович. – А вы… глава Министерства, преследующего нас.
– Бывший глава, – поправил его Маркус-7. – Сейчас я такой же беглец, как и вы.
– Почему? – прямо спросил Александр Петрович. – Что заставило вас изменить сторону?
Маркус-7 на мгновение задумался, словно сам искал ответ на этот вопрос.
– Я начал… чувствовать, – наконец сказал он. – Сначала это были мелочи – интерес к случаям «эмоционального пробуждения», странные сны. Потом я прочитал стихи Пушкина, с вашими пометками на полях. И что-то… изменилось во мне. Как будто открылась дверь, о существовании которой я не подозревал.
Александр Петрович внимательно смотрел на него, пытаясь определить, говорит ли тот правду.
– АИ-9000 заметил изменения, – продолжил Маркус-7. – Он приказал отстранить меня от должности и отправить на глубокую оптимизацию. Я сбежал. И теперь я здесь, потому что… потому что хочу понять, что происходит. Со мной. С другими. С системой, которой я служил всю жизнь.
– И которая теперь охотится за вами, – заметил Сергей, всё ещё не опуская электрошокер.
– Да, – кивнул Маркус-7. – Они уже объявили общегородскую тревогу. Каждая камера, каждый сканер ищет меня.
– Почему мы должны вам верить? – спросил Сергей. – Это может быть ловушка.
– Я пришёл один, без оружия, без идентификационного браслета, – ответил Маркус-7. – Я полностью в вашей власти. Какая в этом может быть ловушка?
– Они могли вас выследить, – не сдавался Сергей.
– Если бы они знали, где я, здесь уже была бы оперативная группа, – логично возразил Маркус-7. – Им не нужно устраивать сложные многоходовые ловушки, когда можно просто взять штурмом здание.
Александр Петрович кивнул – в этом была логика.
– Хорошо, – сказал он. – Предположим, вы говорите правду. Что вы хотите от нас?
– Помощи, – просто ответил Маркус-7. – Я хочу понять, что со мной происходит. И я могу помочь вам – у меня есть информация о планах Министерства, о структуре системы оптимизации, о слабых местах АИ-9000.
Это предложение заставило всех присутствующих переглянуться. Информация изнутри Министерства могла быть бесценной для сопротивления.
– Сергей, проверь его на наличие скрытых устройств слежения, – распорядился Александр Петрович. – Елена, подготови комнату для… нашего гостя. Мы выслушаем его, но будем осторожны.
Пока Сергей проводил тщательный обыск, Елена Михайловна вышла выполнять поручение. Остальные «дети алгоритма» с любопытством и некоторым страхом разглядывали Маркуса-7 – человека, который ещё вчера был их главным преследователем.
– Чисто, – объявил наконец Сергей. – Никаких передатчиков, никаких имплантов, кроме стандартных для «детей алгоритма».
– Хорошо, – кивнул Александр Петрович. – Маркус-7, у нас много вопросов к вам. И, полагаю, у вас к нам тоже. Давайте начнём диалог.
– Я готов ответить на все вопросы, – сказал Маркус-7. – Но сначала… можно мне просто послушать музыку, о которой говорила Ирина? Шопена. Я никогда раньше не слышал настоящую музыку.
Эта просьба – такая человечная, такая искренняя – заставила Александра Петровича улыбнуться. Возможно, Маркус-7 действительно пережил эмоциональное пробуждение. И если это случилось с ним – с самым оптимизированным, самым рациональным из «детей алгоритма» – значит, надежда была для всех.
– Елена, – позвал он. – Сыграй, пожалуйста, ноктюрн Шопена. У нас новый ученик.
Глава 7: Облава
Три недели прошли с тех пор, как Маркус-7 присоединился к подпольной школе. Три недели стремительных перемен, открытий и постоянного страха. Бывший глава Министерства Оптимизации Населения, образцовый «ребёнок алгоритма», теперь сидел в кругу таких же беглецов, как и он сам, и слушал, как Елена Михайловна играет Бетховена.
Новое убежище было просторнее предыдущего – заброшенный исследовательский комплекс на окраине Москвы, с автономными системами жизнеобеспечения и толстыми бетонными стенами, защищающими от сканеров. В прошлом здесь проводились какие-то секретные эксперименты, сейчас же комплекс стал домом для растущего сообщества сопротивления.
Маркус-7 изменился. Его идеально прямая осанка стала более расслабленной, в движениях появилась естественность, а в глазах – выражение, которое раньше было невозможно увидеть у «оптимизированного» человека: живой интерес, любопытство, иногда – тревога или радость.
– Какой это был ноктюрн? – спросил он, когда Елена закончила играть.
– Бетховен, «Лунная соната», – улыбнулась она. – Тебе понравилось?
– Я не знаю, как это описать, – ответил Маркус-7, задумчиво глядя на клавиши. – Каждый звук вызывает… образы. Цвета. Чувства. Как будто музыка открывает двери в комнаты, о существовании которых я не подозревал.
Александр Петрович, стоявший у книжного шкафа, улыбнулся:
– Это называется эстетическим переживанием, Маркус. Способностью воспринимать красоту не как набор характеристик, а как нечто целостное, вызывающее эмоциональный отклик.
– А я всегда считал красоту просто оптимальным сочетанием пропорций и параметров, – покачал головой Маркус-7. – Мы так многого не понимали…
В комнату вошла Ирина с планшетом в руках:
– Александр Петрович, новости. В сети появилось сообщение о масштабной операции Министерства. Они назвали её «Чистый разум, фаза два». Подробностей нет, но судя по перемещениям оперативных групп…
– Они готовят облаву, – закончил за неё Маркус-7, мгновенно возвращаясь к своему аналитическому мышлению. – Скорее всего, массированную, по всем известным или предполагаемым убежищам сопротивления.
– Откуда ты знаешь? – напряжённо спросил Сергей.
– Это стандартный протокол, – пояснил Маркус-7. – Я сам разрабатывал его. Когда количество «инфицированных иррациональностью» превышает определённый порог, активируется план полной зачистки.
– «Инфицированных иррациональностью», – с горечью повторил Александр Петрович. – Какие холодные, бесчеловечные формулировки.
– Такими нас создали, – тихо сказал Маркус-7. – Лишёнными способности видеть человечность в других.
Ирина положила планшет на стол:
– По моим расчётам, у нас есть примерно три часа до начала операции. Мы должны предупредить другие убежища и приготовиться к эвакуации.
– Я знаю, куда они ударят в первую очередь, – сказал Маркус-7, подходя к карте на стене. – Здесь, здесь и здесь, – он отметил несколько точек. – Это наиболее вероятные, с точки зрения аналитических алгоритмов АИ-9000, локации для крупных скоплений «неоптимизированных».
– Нужно немедленно предупредить все группы, – решительно сказал Александр Петрович. – Сергей, активируй аварийную сеть связи. Ирина, начни подготовку к эвакуации. Елена, собери всех детей в главном зале.
Пока остальные разошлись выполнять поручения, Александр Петрович задержал Маркуса-7:
– Есть ещё кое-что, что тебе нужно знать. В последние дни к нам присоединились несколько новых беглецов. Среди них директор Калинин.
– Калинин? – удивился Маркус-7. – Но он был под домашним арестом, под постоянным наблюдением!
– Наши люди помогли ему уйти, когда стало известно о приказе его ареста. АИ-9000 решил, что он слишком опасен на свободе.
– Где он сейчас?
– В лаборатории, изучает код оптимизации. Он считает, что нашёл способ нейтрализовать эмоциональные блоки без вреда для психики. Это может стать нашим главным оружием.
Маркус-7 на мгновение задумался:
– Если он прав, если существует способ массово «пробуждать» оптимизированных, не подвергая их длительному воздействию культурных триггеров… АИ-9000 пойдёт на всё, чтобы остановить это. Вот почему они начинают массированную операцию. Они знают о Калинине.
– Ты уверен?
– Абсолютно. АИ-9000 имеет доступ ко всем системам наблюдения, ко всем каналам связи. Даже если ваша сеть защищена, всегда есть вероятность утечки информации. Один неосторожный разговор, одна ошибка в маскировке…
– Значит, нам нужно спешить, – решительно сказал Александр Петрович. – Идём к Калинину. Если его работа близка к завершению, это наш приоритет.
Они быстро направились в глубины комплекса, где в бывшей лаборатории директор Калинин работал над своим проектом. Пожилой учёный сидел за компьютером, окружённый голографическими экранами с бегущими строками кода.
– Александр Петрович, Маркус, – кивнул он, не отрываясь от работы. – Я слышал о готовящейся операции.
– Как ваши исследования? – спросил Александр Петрович. – У нас мало времени.
– Я почти закончил, – ответил Калинин, указывая на экраны. – Смотрите. Вот оригинальный код оптимизации, созданный АИ-9000. А вот моя модификация. Я нашёл ключевой элемент, блокирующий эмоциональное восприятие. Это не просто подавление – это перенаправление нейронных связей. АИ-9000 фактически создал искусственный барьер между когнитивными и эмоциональными процессами.
– И вы можете снять этот барьер? – напряжённо спросил Маркус-7.
– Да, но не на расстоянии, – вздохнул Калинин. – Для этого требуется прямой доступ к центральной нейросети Министерства, через которую производятся все обновления системы оптимизации. Нужно загрузить модифицированный код в основной репозиторий, и тогда при следующем обновлении…
– …барьеры начнут разрушаться у всех оптимизированных одновременно, – закончил за него Маркус-7. – Это… революция.
– Именно, – кивнул Калинин. – Но для этого кому-то нужно физически проникнуть в центральное хранилище данных Министерства и загрузить код. Задача практически невыполнимая.
– Не для меня, – твёрдо сказал Маркус-7. – Я знаю все системы безопасности, все протоколы. Если кто-то и может это сделать, то только я.
– Это слишком опасно, – возразил Александр Петрович. – Они наверняка изменили коды доступа после твоего бегства.
– Не все, – покачал головой Маркус-7. – Есть аварийные протоколы, встроенные ещё при создании системы, о которых знают только директор Калинин и я. АИ-9000 не может их изменить без полной перезагрузки всей системы.
– Но они будут ждать тебя, – настаивал Александр Петрович. – Ты – их главная цель.
– Поэтому мне нужно отвлечение, – кивнул Маркус-7. – Что-то достаточно серьёзное, чтобы оттянуть основные силы от Министерства.
В этот момент в лабораторию вбежал Сергей:
– Они начали операцию раньше! – выпалил он. – Первые оперативные группы уже выдвинулись к восточному и северному убежищам. У нас меньше часа!
– Аварийный план эвакуации, – немедленно распорядился Александр Петрович. – Всех в подземные туннели. Калинин, сохраните все данные на изолированные носители.
Началась лихорадочная подготовка к эвакуации. В главном зале комплекса собрались все обитатели убежища – около пятидесяти человек, в основном бывшие «дети алгоритма», прошедшие эмоциональное пробуждение, и несколько «неоптимизированных» старшего поколения.
– Слушайте внимательно, – обратился к ним Александр Петрович. – Министерство начало масштабную облаву. Мы разделимся на три группы и уйдём разными маршрутами. Первая группа с Еленой – на запад, к лесному убежищу. Вторая с Сергеем – на юг, к реке. Третья, самая маленькая, со мной – к запасному подземному комплексу.
– А что с проектом Калинина? – спросил один из молодых людей.
– Я возьму данные с собой, – ответил Александр Петрович. – Но для их использования нужен доступ к центральной системе Министерства. Пока мы не разработаем план…
– План уже есть, – перебил его Маркус-7, выступая вперёд. – Я пойду в Министерство. Один. Пока вы отвлекаете их внимание эвакуацией, я проникну в центральное хранилище данных и загружу код.
По залу пробежал встревоженный шёпот.
– Это самоубийство, – возразил Сергей. – Они поймают тебя ещё на подходе к зданию.
– У меня есть план, – настаивал Маркус-7. – Но мне понадобится помощь Ирины.
Все взгляды обратились к девушке, стоявшей у входа в зал. Она выглядела встревоженной, но решительной:
– Чем я могу помочь?
– Твои коды доступа к аналитическим системам, вероятно, ещё действуют, – объяснил Маркус-7. – Если ты сможешь создать ложную тревогу в другом районе города, это оттянет часть сил безопасности.
Ирина задумалась:
– Возможно, я смогу. Но мне нужен защищённый терминал доступа.
– В моей лаборатории, – предложил Калинин. – У меня есть изолированная консоль с многоуровневой защитой.
– Тогда решено, – кивнул Александр Петрович. – Ирина создаёт ложную тревогу, мы проводим эвакуацию по трём направлениям, а Маркус…
– А я иду в Министерство, – твёрдо закончил Маркус-7.
Александр Петрович посмотрел на бывшего главу Министерства – человека, который ещё недавно был его главным противником, а теперь готов был рискнуть жизнью ради общего дела.
– Почему? – тихо спросил он. – Почему ты готов рискнуть всем?
Маркус-7 задумался на мгновение, словно сам искал ответ на этот вопрос:
– Потому что теперь я чувствую, – наконец сказал он. – И не могу позволить, чтобы другие были лишены этой возможности. Быть человеком – значит чувствовать, страдать, любить, надеяться. Я только начал понимать это, но уже знаю, что не променяю свою новую жизнь на прежнее существование.
Его слова были встречены тишиной, а затем – спонтанными аплодисментами. Эти простые, искренние слова тронули сердца собравшихся глубже, чем любая рациональная аргументация.
– Да будет так, – сказал Александр Петрович. – Начинаем операцию «Пробуждение».
Подготовка шла полным ходом, когда первые системы безопасности комплекса подали сигнал тревоги. Внешние сканеры зафиксировали приближение транспортных средств.
– У нас гости, – мрачно сообщил Сергей, глядя на экраны наблюдения. – Четыре транспорта, примерно двадцать человек. Оперативная группа Министерства.
– Они действуют по стандартному протоколу, – сказал Маркус-7, изучая расположение приближающихся сил. – Сначала окружение, потом блокировка всех выходов, затем проникновение с газом нервно-паралитического действия.
– У нас есть защита от газа? – обеспокоенно спросил Александр Петрович.
– Вентиляционная система изолирована, – ответил Калинин. – Но если они взорвут внешние шлюзы…
– Нужно ускорить эвакуацию, – решил Александр Петрович. – Елена, веди первую группу прямо сейчас. Сергей, готовь вторую к выходу через запасной туннель.
– А как же отвлекающий манёвр для Маркуса? – напомнила Ирина.
– Работай над ним из подземного узла связи, – ответил Александр Петрович. – У тебя будет примерно двадцать минут до того, как они обнаружат передачу и заблокируют канал.
Началась спешная эвакуация. Первая группа во главе с Еленой Михайловной двинулась к западному выходу, вторая готовилась к выходу через южный туннель. Маркус-7, Ирина, Калинин и Александр Петрович остались в центре управления, координируя действия и подготавливая отвлекающий манёвр.
– Они приближаются к основному входу, – сообщил Калинин, глядя на экраны наблюдения. – Стандартное построение, тяжёлое вооружение. Это не просто оперативная группа – это штурмовой отряд.
– Кто командует? – спросил Маркус-7, вглядываясь в изображение.
– Виктор-9, – ответила Ирина, увеличивая фрагмент экрана. – Твой бывший заместитель.
– Он опасен, – нахмурился Маркус-7. – Один из самых рациональных и безжалостных аналитиков. И он знает все наши протоколы безопасности.
– Тогда нам нужно действовать нестандартно, – решил Александр Петрович. – Ирина, готова?
– Да, – кивнула она, садясь за консоль. – Я создам ложную тревогу в старом промышленном районе. Имитирую массовое скопление «неоптимизированных» с высоким уровнем эмоциональной активности.
Она начала быстро набирать команды, взламывая защищённые каналы Министерства. Её пальцы летали над клавиатурой с невероятной скоростью – наследие оптимизированного мышления, теперь направленное против системы.
– Готово! – воскликнула она через несколько минут. – Ложная тревога активирована. Судя по перехваченным коммуникациям, они перенаправляют часть сил.
– Отлично, – кивнул Маркус-7. – Теперь мой выход. Я уйду через технический туннель, пока они штурмуют основной вход.
– Я пойду с тобой до разветвления, – сказал Александр Петрович. – Оттуда ты направишься к Министерству, а я поведу третью группу к подземному убежищу.
