Дело подземного города
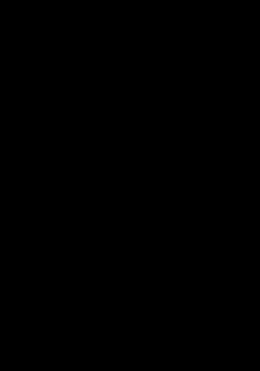
Эхо в заброшенном туннеле, которое не должно было прозвучать
Сырость вползала под воротник ватника, липкая и всепроникающая, как страх. Свешников поежился, провел ладонью по мокрой бетонной тюбинговой обшивке и посмотрел на луч своего фонаря, тонувший в бархатной, почти осязаемой черноте. Воздух пах озоном, плесенью и креозотом – вечный парфюм московского подземелья. Где-то далеко, за пределами их маленького островка света, глухо прогрохотал поезд, и вибрация прошла по полу, по стенам, отдалась в самых костях. Звук этот был привычным, родным, как биение сердца спящего гиганта, в чреве которого они сейчас находились.
– Ну что, Вить, дохлятина? – голос Кольки прозвучал неестественно громко, расколов плотную тишину. Он стоял чуть впереди, направив свой «шахтерский» фонарь на что-то темное, распластанное у кабельного коллектора.
Виктор Свешников сделал еще шаг, хрустнув ботинком по рассыпанному гравию. Сердце заколотилось чаще, но не от волнения первооткрывателя, а от дурного, липкого предчувствия, которое родилось в животе холодной змеей. Он был старше Кольки, осторожнее. Он знал, что подземелье не любит суеты и громких слов. Оно любит тишину и уважение. А еще оно умеет хранить тайны. Иногда – слишком хорошо.
– Не каркай, – буркнул Виктор, подходя ближе. – Может, просто тряпье какое-то. Рабочие забыли.
Но это было не тряпье. Луч его собственного фонаря, более мощного, выхватил из темноты детали, и Виктор замер, чувствуя, как немеют пальцы, сжимающие ребристый корпус.
Это был человек. Или то, что им когда-то было. Он лежал на боку, скрючившись, словно пытаясь защититься от удара, который пришел слишком быстро. На нем была какая-то темная, грубая роба, больше похожая на мешковину, без единого опознавательного знака. Но не одежда приковала взгляд Виктора. Лицо. Оно было повернуто к ним, и в мертвенном свете фонарей казалось вылепленным из серого воска. Широкие, неестественно выпирающие скулы, глубоко посаженные глаза под тяжелыми надбровными дугами. Рот был полуоткрыт, обнажая крупные, желтоватые зубы, которые выглядели слишком… массивными. Словно принадлежали не человеку, а какому-то хищнику.
– Мать честная… – выдохнул Колька, отступая на шаг. Его показная бравада испарилась без следа. – Это что еще за… кроманьонец?
Виктор промолчал. Он обошел тело, стараясь не наступать на темные, впитавшиеся в бетонную пыль пятна вокруг. Одна рука мертвеца была вытянута, пальцы скрючены. И сами пальцы… они были длинными, с утолщенными суставами, а ногти – толстыми, больше похожими на когти. Он видел много рабочих рук, мозолистых, загрубевших, но эти были другими. Они были созданы для чего-то иного. Для рытья, для сокрушения.
– Смотри, – Колька ткнул дрожащим лучом в сторону. – Ни кровищи особой, ничего. Просто лежит, как… кукла.
Он был прав. Несмотря на явную неестественность позы, вокруг не было луж крови, которые должны были бы сопровождать насильственную смерть. Только эти бурые, старые пятна. Виктор присел на корточки, борясь с подступающей тошнотой. Запах. К привычной смеси подземелья добавился новый оттенок – сладковатый, тяжелый, запах старого мяса и чего-то химического, неуловимо напоминающего формалин.
– Надо ментам звонить, – сказал Виктор, и его голос прозвучал глухо и чуждо.
– Ты сдурел? – взвился Колька. – Нас же самих тут повяжут! За незаконное проникновение, то-сё… Скажут, мы его и пришили. Давай валим отсюда, Вить. Просто уйдем, будто и не было ничего.
Виктор медленно поднялся. Он посмотрел на Кольку, на его испуганное, бледное лицо, потом снова на тело. Уйти. Сделать вид, что ничего не видел. Забыть про эту восковую маску с зубами хищника, про эти страшные, созданные для сокрушения руки. Но что-то внутри него, какая-то глубинная, въевшаяся с пионерскими галстуками правильность, воспротивилась. Это был человек. Каким бы странным он ни был, он был человеком. И его оставили здесь, в этой вечной темноте, как мусор.
– Нет, – твердо сказал Виктор. – Так нельзя. Пошли наверх. Вызовем с автомата. Анонимно.
Он выключил фонарь. Колька, помедлив секунду, сделал то же самое. Темнота мгновенно сомкнулась вокруг них, плотная, абсолютная. Но теперь она была другой. Раньше это была просто темнота. Теперь в ней было знание. В ней лежало нечто, чему здесь не было места. И тишина больше не казалась умиротворяющей. В ней затаилось эхо. Эхо события, которое не должно было произойти.
Майор Олег Коршунов ненавидел запах вареной капусты. Он пропитывал коридоры Петровки, смешивался с ароматами дешевого табака, пота и затхлой бумаги, создавая неповторимый букет безнадежности. Кабинет Коршунова был его крепостью, осажденной этим букетом. Окно, выходившее в колодец двора, было наглухо закрыто, но это не спасало. Спасала только папироса «Беломорканала», дым которой был резче и честнее.
Он сидел, закинув ноги в стоптанных ботинках на край стола, и читал рапорт. Буквы плясали перед глазами. Мелкая бытовуха, пьяная поножовщина в коммуналке на Сухаревской. Мотив – бутылка «Столичной» и неразделенная любовь к соседке, тете Глаше, пятьдесят два года, три зуба. Банально до зубной боли. Вся человеческая трагедия, сведенная к четырем страницам убористого текста, напечатанного на машинке «Москва» с западающей буквой «д».
Телефон зазвонил пронзительно и требовательно, вырвав его из созерцания прозы жизни. Коршунов лениво снял трубку.
– Слушаю.
– Дмитрич, это Дежурный. У нас тут… интересное. Метрополитен. Перегон «Таганская-кольцевая» – «Марксистская». В служебном тоннеле жмурик.
Коршунов поморщился. Метрополитен – это всегда головная боль. Куча ведомств, транспортная милиция, служба безопасности самого метро, у каждого своя зона ответственности и непомерное самомнение.
– Несчастный случай? Упал на рельсы, коротнуло? Не наш профиль, передай транспортникам.
– Не похоже, Дмитрич. Его нашли диггери, мать их. Два охламона. Говорят, лежит в стороне от путей, в закутке у коллектора. И вид у него, с их слов, «фантастический».
Коршунов усмехнулся в трубку.
– Фантастический – это как? В скафандре и с бластером?
– Почти, – в голосе дежурного не было и тени иронии. – Говорят, на человека не очень похож. Я группу уже отправил. Эксперты выехали. Но полковник сказал, чтобы ты лично глянул. Дело на контроле.
Коршунов убрал ноги со стола. «На контроле». Два слова, которые превращали любую, даже самую скучную рутину в забег с препятствиями и обязательным докладом наверх.
– Понял. Выезжаю.
Он затушил папиросу в переполненной окурками консервной банке, натянул плащ, который помнил еще Брежнева в добром здравии, и вышел из кабинета, снова окунувшись в капустный смрад.
Станция «Таганская-кольцевая» встретила его суетой. У входа в служебный коридор, перегороженного хлипкой лентой, топтались двое в форме транспортной милиции и человек в строгом костюме – начальник станции, не иначе. Лицо у него было такое, словно в его идеально отлаженном механизме сломалась самая главная шестеренка.
– Майор Коршунов, МУР, – бросил Олег, махнув красной корочкой.
Начальник станции закивал с облегчением, будто приехал не следователь, а сам Господь Бог.
– Наконец-то! Что у вас тут за ЧП, товарищ майор? У меня график летит к чертям, поезда пускаем с увеличенным интервалом.
– У меня тут труп, товарищ начальник. Это похуже сбитого графика, – отрезал Коршунов, не останавливаясь. – Где проход?
Его провели по гулким, выложенным кафелем коридорам, вниз по бетонным лестницам, где воздух становился холоднее и гуще. Парадный мрамор и бронза «дворца для народа» остались где-то наверху. Здесь начиналась изнанка. Царство бетона, ржавых труб и переплетенных в тугие жгуты кабелей, похожих на гигантские черные вены.
В тоннеле было холодно. Тусклый свет аварийных ламп выхватывал из темноты мокрые потеки на стенах, блеск рельсов, уходящих в бесконечность. Впереди, метрах в пятидесяти, горел яркий свет переносных прожекторов, и суетились фигуры.
Коршунов зашагал по шпалам, ставя ноги с выверенной точностью. Этот мир был ему знаком. Не метро, конечно, но такие же тоннели он видел в Афганистане. Кяризы. Только там пахло не озоном, а пылью, смертью и страхом.
На месте уже работала следственная группа. Молодой лейтенант Петренко, завидев майора, бросился к нему с докладом.
– Товарищ майор, вот. Обнаружили в двадцать два тридцать. Двое гражданских. Проникли незаконно. Сейчас их опрашивают.
Коршунов кивнул, не глядя на него. Его внимание было приковано к эксперту-криминалисту, Грише Самойлову, седому, похожему на филина мужчине в очках, который, склонившись над телом, что-то бормотал себе под нос.
– Что у нас, Гриша? – спросил Коршунов, подходя ближе.
Самойлов нехотя выпрямился, потирая поясницу.
– Здравствуй, Олег. У нас тут ребус. Даже не ребус – шарада, завернутая в кроссворд.
Коршунов обошел тело, освещенное со всех сторон лампами. Первое, что бросилось в глаза – абсолютная несообразность. Он видел сотни трупов. Изуродованных, сожженных, расчлененных. Но этот был… неправильным. Все в нем было сдвинуто на какой-то едва уловимый градус от человеческой нормы.
Лицо, которое при первом беглом взгляде можно было принять за лицо человека с акромегалией или другой тяжелой болезнью, при ближайшем рассмотрении не укладывалось ни в один медицинский справочник. Структура костей черепа была иной. Более грубой, массивной. Кожа имела сероватый, почти пепельный оттенок и странную, мелкозернистую фактуру.
– Причина смерти? – спросил Коршунов, не отрывая взгляда от жуткого лица.
– Вот тут и начинается самое интересное, – Самойлов снял очки и протер их носовым платком. – Внешних повреждений, которые могли бы привести к летальному исходу, нет. Ни пулевых, ни ножевых. Есть множество старых, заживших шрамов и свежих ссадин, будто он продирался через что-то очень узкое. Но смертельного – ничего. По предварительному осмотру, похоже на… обширное внутреннее кровоизлияние. Словно все сосуды внутри просто лопнули. Как от резкого перепада давления. Очень резкого.
Коршунов присел на корточки. Он был в перчатках. Осторожно, двумя пальцами, он приподнял край грубой ткани робы. Под ней не было белья. Кожа на груди была покрыта сетью бледных рубцов, складывающихся в странный, почти геометрический узор.
– Что это? – спросил он. – Клеймо? Ритуальные шрамы?
– Не знаю, – признался Самойлов. – Никогда такого не видел. Это не похоже на татуировки или шрамирование, которые делают в криминальной среде. Это… что-то другое. Более систематическое. И смотри сюда.
Гриша указал на кисть покойного. Коршунов уже отметил про себя ее странную форму, но теперь, под светом лампы, он увидел больше.
– Костная структура, – тихо сказал Самойлов. – Я не рентген, конечно, вскрытие покажет. Но на ощупь… пястные кости укорочены, фаланги пальцев удлинены и утолщены. Суставы выглядят гипертрофированными. Это не артрит, не деформация от болезни. Это… врожденное. Или приобретенное в результате какой-то целенаправленной мутации. Будто его руки специально приспосабливали для чего-то.
Коршунов молчал. Мутация. Слово повисло в холодном воздухе тоннеля, неуместное, чужеродное, как и само тело. Он встал и закурил. Дым «Беломора» показался слабым и безвкусным на фоне запаха, исходившего от трупа. Это был не просто запах тления. Это был запах чуждости.
– Что по одежде? Документы?
– Пусто, – Петренко снова оказался рядом, eager to please. – Ни карманов, ни документов. Роба из неизвестного материала, что-то вроде брезента с асбестовой нитью. Очень прочная. Обувь – тоже самодельная, на вид. Подметки стерты, но рисунка протектора нет. Внутри, в подкладке куртки, нашли вот это.
Лейтенант протянул Коршунову пинцетом небольшой полиэтиленовый пакетик. Внутри лежал грязный, сложенный в несколько раз клочок бумаги. Коршунов взял его, подошел к прожектору. Развернул.
Это был кусок карты. Старой, пожелтевшей. Явно схема метрополитена, но какая-то странная. Знакомые линии переплетались с неизвестными, нанесенными от руки красным карандашом. Пунктирные линии, уходившие в никуда, пометки, сделанные мелким, убористым почерком. «Вент. шахта 7-бис», «Затопленный коллектор», «Гермодверь. Код?». И одна ветка, жирно обведенная красным, вела от перегона, где они сейчас находились, куда-то вбок, в пустоту на карте, и заканчивалась крестиком с подписью: «Вход».
Коршунов долго смотрел на карту. Это была не просто схема диггера-любителя. Это была дорожная карта. Карта мира, которого не существовало на официальных планах.
– Пробейте по пропавшим без вести, – приказал он Петренко. – Особое внимание на людей со странностями, сбежавших из психбольниц, из закрытых НИИ. Хотя… – он снова посмотрел на тело, – вряд ли мы найдем его в наших картотеках. Такое не теряется. Такое создают.
Он отошел в сторону, оставив группу работать. Прислонился к холодной, влажной стене тоннеля, чувствуя, как вибрация от проходящего где-то в соседнем пути поезда отдает в затылок.
Факт первый: труп, который не является в полной мере человеческим. Аномальная структура скелета, странная кожа, шрамы.
Факт второй: причина смерти – нечто, похожее на баротравму, взрыв изнутри. Несовместимо с условиями тоннеля.
Факт третий: одежда и обувь – не фабричные, не имеющие аналогов. Созданы для выживания в какой-то агрессивной среде.
Факт четвертый: карта неизвестных коммуникаций, спрятанная так, чтобы ее нашли. Или, наоборот, чтобы не нашли.
Картина не складывалась. Детали не подходили друг к другу. Это было похоже на попытку собрать пазл из нескольких разных коробок. Коршунов закрыл глаза. Афган. Ночь. Он лежит в пыли, вжимаясь в землю, а над головой со свистом проходят трассеры. Рядом дышит раненый Костя, его молодой напарник, тот самый, которого он не уберег. И в тот момент мир тоже казался абсолютно иррациональным, лишенным всякой логики. Но даже там была своя логика. Логика войны. Были свои и чужие. Была понятная цель – выжить.
А здесь? Какая здесь логика? Кто этот… субъект? Откуда он пришел? И, что самое главное, куда он шел?
Коршунов докурил папиросу, бросил окурок на рельсы и растер его каблуком. Эксперты уже упаковывали тело в черный пластиковый мешок. Суета потихоньку сворачивалась. Яркий свет прожекторов казался неуместным в этой первобытной тьме.
Он снова подошел к тому месту, где лежал покойник. На бетонном полу остался лишь темный силуэт, влажное пятно. Коршунов включил свой маленький фонарик и повел лучом по стенам, по полу. Ничего. Ни гильз, ни следов борьбы. Только бетонная пыль, многолетняя грязь и… что-то блеснуло у самого основания кабельного коллектора.
Он присел, посветил. Маленький, не больше ногтя, осколок чего-то прозрачного, похожего на стекло. Но не стекло. Слишком легкий, почти невесомый. И странно теплый на ощупь, даже здесь, в вечном холоде подземелья. Он осторожно поднял его пинцетом, который взял у экспертов, и убрал в спичечный коробок. Еще одна деталь из другой коробки.
– Ну что, командир, сворачиваемся? – подошел Самойлов. – Дальше – моя епархия. В морге посмотрим, что у этого товарища внутри. Хотя, честно говоря, я немного боюсь туда заглядывать.
– Постарайся, Гриша. Мне нужно знать все. Состав крови, тканей, что он ел, чем дышал. Сделай все анализы, какие только сможешь придумать. Даже самые бредовые.
– Будет сделано, – кивнул Самойлов. Он выглядел уставшим и озадаченным. – Знаешь, Олег, я тридцать лет трупы потрошу. Видел все. Но такое… Такое чувство, что мы нашли не жертву преступления, а какой-то ископаемый образец. Пришельца.
Коршунов промолчал. Пришелец. В каком-то смысле Гриша был прав. Этот мертвец был пришельцем из другого мира. Мира, который существовал параллельно с их собственным, прямо здесь, под ногами у миллионов москвичей, спешащих на работу. Мира, куда вела эта странная карта.
Группа начала собираться, унося оборудование и запечатанный мешок с телом. Шум их голосов и шагов удалялся, затихая в гулком пространстве тоннеля. Коршунов намеренно отстал. Он хотел побыть здесь один. В тишине. Чтобы услышать то, что не слышно за суетой.
Петренко обернулся:
– Товарищ майор, вы идете?
– Идите, я догоню, – махнул рукой Коршунов. – Хочу еще раз осмотреться.
Лейтенант пожал плечами и поспешил за остальными. Вскоре их фонари скрылись за поворотом. И Коршунов остался один.
Он выключил свой фонарь.
Тьма.
Абсолютная. Такая бывает только под землей или в могиле. Она не просто скрывала очертания предметов. Она их пожирала. Звуки тоже изменились. Каждая капля воды, срывающаяся с потолка, отдавалась гулким, отчетливым шлепком. Дыхание казалось слишком громким. Далекий гул поездов стал глубже, басовитее, превратился в низкочастотную вибрацию, которую скорее чувствуешь телом, чем слышишь ухом.
Он стоял, не шевелясь, напрягая слух, пытаясь уловить душу этого места. Пытаясь понять его законы. Минуту. Две. Тишина здесь была не просто отсутствием звука. Она была плотной, материальной, давила на барабанные перепонки, как глубинная вода. Она была наполнена десятилетиями чужих шагов, сказанных шепотом слов, скрежета металла.
И в этой плотной, тяжелой тишине он это услышал.
Это был не звук шагов. Не скрежет. Это было едва уловимое… эхо. Короткий, глухой металлический стук, который пришел откуда-то из глубины тоннеля, со стороны, противоположной выходу на станцию. Он был настолько тихим, что мозг сначала отказался его регистрировать, списав на игру воображения, на акустический обман.
Коршунов замер, перестав дышать.
Звук не повторился.
Но он был. Олег не сомневался в этом. Его слух, отточенный ночными дежурствами в засадах и афганскими дозорами, не мог его обмануть. Это был звук, у которого не было источника. Поезда по этому пути сейчас не ходили. Рабочих бригад здесь не было. Его группа ушла в другую сторону.
Это было эхо. Эхо чего-то, что не должно было здесь звучать.
Холод, не имевший ничего общего с туннельной сыростью, тонкой иглой прочертил линию вдоль его позвоночника. Он медленно, без единого лишнего звука, достал из кобуры под плащом свой «Макаров». Взводить курок не стал – щелчок в этой акустике прозвучал бы как выстрел.
Он простоял еще минут пять, превратившись в слух, но больше ничего не произошло. Тишина снова стала абсолютной, непроницаемой. Но ее девственность была нарушена. Теперь Коршунов знал: они здесь были не одни. Или кто-то наблюдал за ними все это время из темноты. Или источник этого тела, его мир, был где-то совсем рядом. И он только что подал едва слышный знак своего существования.
Коршунов включил фонарь. Яркий луч вырвал из тьмы кусок реальности – мокрые стены, ржавые кабели, блестящие рельсы. Все было по-прежнему. Но для него все изменилось.
Это было не просто очередное убийство. Не «висяк». Это было приглашение. Приглашение заглянуть за занавес, туда, где привычные законы физики и человеческой природы переставали действовать.
Он убрал пистолет в кобуру и медленно пошел в сторону станции, к свету. Он не оглядывался. Он чувствовал на спине взгляд этой первобытной темноты. И он знал, что ему придется сюда вернуться. Он уже был на крючке. Это дело вцепилось в него своими странными, деформированными пальцами и не отпустит, пока он не докопается до самой сути. До источника того тихого, невозможного эха в заброшенном тоннеле.
Холодный свет под мостовой и молчание мертвых тканей
Город выплюнул его наверх, в серую ноябрьскую взвесь, пахнущую мокрым асфальтом и выхлопами «Икарусов». После плотной, первобытной тьмы тоннеля дневной свет, даже такой скудный, резал глаза, казался жидким и ненастоящим. Люди текли мимо по тротуарам, спешили к своим станциям, в свои теплые квартиры, к своим понятным проблемам. Коршунов стоял у входа в вестибюль, прислонившись к холодному граниту, и чувствовал себя водолазом, слишком быстро поднявшимся с глубины. В ушах еще стоял гул подземного мира, а под веками отпечатался нечеловеческий изгиб мертвой руки. Он закурил, и дым «Беломора» показался пресным, неспособным перебить привкус той, другой реальности, что притаилась всего в нескольких десятках метров под его стоптанными ботинками.
Машина, пропахшая бензином и казенной скукой, везла тело в морг судебно-медицинской экспертизы на Цюрупы. Коршунов сидел рядом с водителем, глядя на мелькающие за окном серые фасады. Он не поехал в машине с трупом. Ему нужно было это расстояние, этот буфер из городского шума и грязного воздуха. Он снова и снова прокручивал в голове четыре факта, четыре кривых гвоздя, из которых не получалось сколотить даже самый уродливый ящик. Нечеловеческое тело. Причина смерти, как от взрывной декомпрессии. Самодельная одежда. И карта мира, которого нет. А еще было пятое – то тихое, невозможное эхо в опустевшем тоннеле. Оно не шло в протокол, его нельзя было пришить к делу, но именно оно сейчас глухо стучало у него в висках.
Морг встретил его тишиной и холодом. Не смертью – смерть была на улицах, в больницах, в пьяных драках. Здесь была ее квинтэссенция, ее научная, каталогизированная форма. Воздух, стерильный и едкий, щипал ноздри. Самойлов, уже переодетый в белый халат, который был ему тесноват в плечах, ждал его у входа в секционный зал. Вид у криминалиста был как у человека, которому показали фокус с распиливанием, но забыли показать, как собрать ассистентку обратно.
– Привезли, – коротко бросил он. – Я его пока не трогал. Ждал. Понимаешь, Олег, я хочу, чтобы тут был еще кто-то. Свидетель. А то мне одному потом никто не поверит. Я уже позвонил, куда следует.
– Куда это – «следует»? – Коршунов стряхнул с плаща невидимую пыль подземелья.
– В НИИ антропологии. Я договорился с одним человеком. Точнее, с одной. Власова. Анна Сергеевна. Говорят, голова светлая. Очень светлая. Она на таких… аномалиях специализируется. По палеонтологии в основном, но наш случай, я думаю, ее заинтересует.
Коршунов поморщился. Он не любил «смежников», особенно из академической среды. Они говорили на своем птичьем языке, смотрели на милицейскую работу со снисходительным любопытством естествоиспытателя и редко давали что-то полезное для следствия. Им были важны монографии, а ему – фамилия в графе «преступник».
– Антрополог? Гриша, нам не неандертальца откопали. Нам труп нужен. С причиной смерти и особыми приметами.
– Вот именно, Олег, – Самойлов серьезно посмотрел на него поверх очков. – Боюсь, что особые приметы и будут причиной смерти. И наоборот. Пойдем, сам увидишь. Она уже должна быть здесь.
Они прошли по гулкому кафельному коридору. В одном из кабинетов, заваленном бумагами и папками, сидела женщина. Коршунов ожидал увидеть седую даму в строгом костюме, нечто среднее между школьной учительницей и партийным работником. Но эта была другой. Лет под тридцать, не больше. Светлые волосы собраны в тугой, деловитый узел на затылке. Строгие очки в тонкой оправе, за которыми – неожиданно большие и серьезные голубые глаза. На ней был такой же белый халат, как на Самойлове, но сидел он на ней совершенно иначе – не как рабочая одежда, а как часть ее самой, продолжение ее собранности и точности. Она читала какую-то папку, и ее лицо было абсолютно сосредоточенным, отрешенным от окружающего мира.
– Анна Сергеевна, – представил ее Самойлов. – Майор Коршунов, МУР. Ведет дело.
Она подняла глаза. Взгляд был прямой, изучающий. Не женский, не кокетливый, а именно научный – взгляд, привыкший раскладывать мир на составляющие. Она встала, протянула руку. Рукопожатие было коротким и крепким.
– Власова. Григорий Львович ввел меня в курс дела. Насколько это было возможно по телефону. Он сказал… – она на мгновение запнулась, подбирая слово, – что материал представляет исключительный интерес.
«Материал». Коршунову не понравилось это слово. Для него это был «жмурик», «труп», «покойник» – слова грубые, но оставляющие за объектом право быть когда-то человеком. «Материал» был словом из другой оперы. Из той, где нет места сочувствию, а есть только факты. Впрочем, может, в этом деле так и надо.
– Пойдемте, посмотрим на ваш «материал», – сказал он чуть резче, чем хотел.
Власова, казалось, не заметила его тона. Она молча кивнула и пошла за Самойловым. Ее движения были точными, экономными, без лишней суеты.
Секционный зал был залит холодным, безжизненным светом люминесцентных ламп. В центре, на стальном прозекторском столе, лежало то, что еще несколько часов назад они вынесли из тоннеля. Без грубой робы, под безжалостным светом, тело выглядело еще более чужеродным. Бледно-серая кожа казалась почти полупрозрачной, проступающая под ней мускулатура имела странную, волокнистую структуру. Геометрический узор из шрамов на груди теперь был виден отчетливо, и было ясно, что это не случайные рубцы, а система, продуманный орнамент.
Анна Власова подошла к столу. Она не выказала ни отвращения, ни удивления. Ее лицо оставалось непроницаемым, сосредоточенным. Она надела тонкие резиновые перчатки, и это простое движение было исполнено такой отточенной привычки, что Коршунов понял: она дома. Это был ее мир – мир мертвых тканей, костей и хрящей, которые для нее были красноречивее любых слов.
Она молча обходила стол, ее взгляд скользил по телу, задерживаясь на деталях, которые Коршунов и сам отметил, но не мог оценить. Она наклонилась к голове, потом к кистям рук, к стопам. Ее пальцы осторожно, почти невесомо, касались кожи, прощупывали костные выступы под ней. Коршунов и Самойлов стояли чуть поодаль, не решаясь нарушить эту напряженную, почти ритуальную тишину. Единственным звуком было тихое гудение вентиляции.
– Череп, – произнесла она наконец, и ее голос в стерильной акустике зала прозвучал необычно громко. – Брахицефальный тип, но с аномально развитыми надбровными дугами и затылочным бугром. Скуловые кости массивные, смещены вперед. Это не акромегалия. Гормональный сбой дает диффузное разрастание, а здесь… здесь все подчинено какой-то логике. Словно череп намеренно укрепляли во фронтальной и боковой проекциях. Альвеолярные отростки челюстей гипертрофированы, зубы… – она взяла маленький металлический инструмент и осторожно приоткрыла рот покойного. – Моляры имеют дополнительную бугорковую структуру. Квадратный тип. Приспособлены для перетирания чего-то очень жесткого. Или для чудовищного усилия сжатия.
Она говорила ровным, почти бесстрастным голосом, как диктор, зачитывающий сводку погоды. Но Коршунов уловил в ее тоне нотку, которой не было при их встрече в кабинете, – едва сдерживаемое возбуждение исследователя, наткнувшегося на terra incognita.
Она перешла к рукам. Взяла кисть покойного в свою, и контраст был разительным: ее тонкие, длинные пальцы ученого и эта грубая, похожая на корень лапа, созданная для рытья или сокрушения.
– Фаланги удлинены, особенно дистальные. Пястные кости, напротив, укорочены и утолщены. Посмотрите на суставные поверхности, – она указала инструментом. – Они увеличены. Это обеспечивает большую амплитуду и силу сгибания. Такая кисть не предназначена для тонких манипуляций. Это… это гибрид лопаты и клещей. Биомеханически крайне эффективная конструкция для работы в ограниченном пространстве, для проламывания, для цепляния за неровные поверхности. Ничего подобного в справочниках по тератологии вы не найдете. Это не врожденное уродство. Уродство хаотично. А это – система.
Коршунов переглянулся с Самойловым. Гриша медленно снял очки и протер их платком, словно пытаясь прояснить не только стекла, но и собственное сознание.
– То есть, вы хотите сказать… – начал было Коршунов.
– Я пока ничего не хочу сказать, майор, – прервала его Власова, не отрывая взгляда от тела. – Я констатирую факты. А факты таковы, что морфология данного субъекта не укладывается в рамки известной нам вариативности человеческого вида. Идем дальше. Кожа.
Она взяла скальпель. Движение было быстрым и точным. Она сделала небольшой надрез на предплечье. Крови не было. Ткань под скальпелем была плотной, упругой.
– Обратите внимание, – она подцепила край разреза пинцетом. – Эпидермис утолщен. Дерма имеет сетчатую структуру, напоминающую армирование. Полагаю, в ней высокое содержание коллагеновых волокон особого типа. Это обеспечивает повышенную прочность на разрыв и прокол. А вот это… – она указала на подкожный слой, который имел странный, желтоватый оттенок. – Это не просто жировая ткань. Структура иная. Нужен гистологический анализ, но я почти уверена, что мы увидим там клетки с аномально высоким содержанием гликогена и митохондрий. Энергетическое депо. Для длительной работы в анаэробных условиях.
Она выпрямилась и посмотрела на Коршунова. В ее голубых глазах за стеклами очков плескалось что-то похожее на холодный восторг.
– Вы понимаете, что это значит, майор? Это не человек, который приспособился к определенным условиям. Это организм, который был ИЗНАЧАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАН для этих условий. Каждая деталь его строения функциональна. Укрепленный череп, руки-орудия, кожа-броня, внутренние «аккумуляторы»… Это продукт… инженерии.
Слово повисло в холодном воздухе. Инженерия. Коршунов почувствовал, как по спине пробежал тот же холодок, что и в тоннеле, когда он услышал эхо. Там была чужая физика, здесь – чужая биология.
– Что вы несете, Анна Сергеевна? – голос Самойлова дрогнул. – Какая инженерия? Генная? В Советском Союзе? Это же фантастика.
– Я не знаю, какая, Григорий Львович, – спокойно ответила Власова. – Я антрополог, а не генетик. Я описываю то, что вижу. А я вижу результат. Целенаправленное, системное изменение человеческой структуры. Это не мутация. Мутации случайны, они редко бывают полезными, и никогда – настолько скоординированными. Здесь же мы видим целый комплекс взаимосвязанных изменений, направленных на решение конкретной задачи: выживание и функционирование в крайне агрессивной среде. Вероятно, под землей. Низкая освещенность, необходимость передвигаться по узким пространствам, физический труд, связанный с разрушением твердых пород, возможно, дефицит кислорода и пищи.
Она говорила об этом так, словно решала сложную математическую задачу. Но для Коршунова за ее словами вставала картина, от которой стыла кровь. Картина мира, где людей перекраивают, как костюмы, приспосабливая к нужной работе. Где человеческое тело – лишь исходный материал.
– А шрамы? – спросил он, указывая на грудь.
Власова снова наклонилась. Она провела пальцем в перчатке вдоль одного из рубцов.
– Это не шрамы от травм. Это хирургические рубцы. Очень старые. И очень аккуратные. Посмотрите на их расположение. Они соответствуют точкам крепления грудных и межреберных мышц. Я бы предположила, что под ними… – она на мгновение замолчала, – что под ними могут быть импланты. Или костные наросты. Что-то, что дополнительно укрепляет грудную клетку. Защищает сердце и легкие. Необходимо вскрытие.
– Причина смерти? – вернулся к главному вопросу Коршунов. – Гриша говорил про баротравму.
– Предварительно, это похоже на правду, – кивнул Самойлов, немного придя в себя. – Обширные внутренние кровоизлияния, разрывы мелких сосудов. Как будто его изнутри разорвало. Но откуда в тоннеле такой перепад давления?
Власова подошла к голове покойного и осторожно повернула ее набок.
– Ушные раковины редуцированы. Слуховой проход узкий. Но посмотрите сюда. – Она указала на область за ухом. – Видите это тонкое рубцовое кольцо? И здесь, на шее, у основания черепа. И вот тут, на носовых пазухах. Я думаю, это следы от какого-то герметичного снаряжения. Шлема или маски. Этот организм, возможно, не приспособлен к дыханию обычным атмосферным воздухом. Или наоборот, он дышал какой-то специальной смесью под давлением. Если его система жизнеобеспечения вышла из строя или была сорвана… Результат будет именно таким. Взрыв изнутри. Его собственная внутренняя среда его и убила.
Коршунов достал пачку «Беломора». Он знал, что курить здесь нельзя, но сейчас ему было абсолютно наплевать. Он размял папиросу, сунул в рот, но зажигалку доставать не стал. Он просто стоял, и горький вкус картона во рту был единственной реальной вещью в этом зале абсурда.
– Хорошо, – медленно проговорил он, пытаясь собрать мысли в кучу. – Допустим, вы правы. Допустим, это… продукт инженерии. Кто? Где? Зачем?
Власова сняла перчатки и бросила их в специальный контейнер. Она снова посмотрела на майора, и в ее взгляде уже не было научного восторга. Была трезвая, холодная серьезность.
– Это не ко мне, майор. Это вопросы к вашему ведомству. И, возможно, к ведомству посерьезнее. Я могу сказать лишь одно. Судя по степени ремоделирования костной ткани и характеру рубцов, вмешательство было произведено в раннем возрасте. Скорее всего, в детстве или в пубертатном периоде, когда организм еще пластичен. Этому… человеку… лет тридцать, может, тридцать пять. Значит, работа над ним началась как минимум двадцать лет назад. Это не кустарщина сумасшедшего доктора в подвале. Это долговременная, дорогостоящая программа. Она требует знаний, технологий, оборудования, которое вряд ли доступно частному лицу. Она требует системы.
Она подошла к столу, где лежали ее бумаги, и взяла ручку.
– Я подготовлю предварительное заключение. Мне нужны образцы тканей. Костной, мышечной, кожной. Я хочу провести полный гистологический и цитологический анализ. Мне нужен доступ к электронному микроскопу. И мне нужно разрешение на полное вскрытие с последующей мацерацией скелета. Я хочу получить его целиком. Это… это уникум. Он может перевернуть все наши представления о пластичности человеческого вида.
Коршунов молча кивнул. Он смотрел на тело на стальном столе. Теперь это был не просто труп. Это была улика. Улика не против конкретного убийцы, а против целой системы, целого мира, который существовал параллельно его собственному. Мира, который создавал таких существ для своих непонятных целей. И карта… Карта в кармане этого существа была путеводителем по этому миру.
Он вышел из секционного зала в гулкий коридор. Самойлов догнал его.
– Олег, ты слышал? Слышал, что она сказала? – в голосе Гриши был почти суеверный ужас. – Это же чертовщина какая-то. Программа… Двадцать лет назад… Это же конец пятидесятых, начало шестидесятых.
– Я слышал, Гриша, – Коршунов наконец достал зажигалку и прикурил. Дым обжег легкие. – Готовь разрешение на все, что она просит. На все. И сделай это тихо. Никаких официальных запросов через канцелярию. Позвони кому надо лично. Скажи, дело особой важности. Под личным контролем Петровки.
– Понял. А ты что?
Коршунов затянулся глубоко, до боли в груди. Он смотрел на мутную лампочку под потолком коридора.
– А я, Гриша, пойду искать тех инженеров. Или то, что от них осталось.
Он бросил папиросу на кафельный пол и растер ее каблуком. Холодный свет под мостовой. Молчание мертвых тканей. Дело перестало быть просто странным. Оно стало личным. Потому что одно дело – расследовать убийство человека человеком. И совсем другое – когда ты понимаешь, что и жертва, и, возможно, убийца, принадлежат к виду, существование которого официальная наука, да и просто здравый смысл, отказываются признавать. И этот вид живет не на другой планете, а прямо здесь. Под ногами. В холодной, гулкой тьме под московской мостовой.
Карта, начертанная на коже давно умершего инженера
Ветер на улице Цюрупы нес запахи мокрого кирпича и прелых листьев – обычную ноябрьскую тоску, которая въедалась в ткань плаща и оседала в легких. Но Коршунов все еще дышал холодной, стерильной пустотой морга. Этот запах прилип к нему изнутри. Он курил уже третью папиросу, стоя у серой стены НИИ, но дым «Беломора» казался безвкусным и бессильным против того ледяного послевкусия. В голове, как заевшая пластинка, крутились слова Власовой: «продукт инженерии», «сконструирован», «система». Это были слова из другого мира, из фантастических романов, которые он презирал за их оторванность от жизни. А теперь эта фантастика лежала на стальном столе в секционном зале, и ее география была начертана на пожелтевшем клочке бумаги у него в кармане.
Он вернулся на Петровку, когда город уже погружался в синие сумерки, зажигая редкие желтые огни. Кабинет встретил его привычным беспорядком и запахом остывшего кофе. Он не стал включать верхний свет, щелкнул только настольной лампой. Зеленый абажур бросил на стол круг мягкого света, превратив остальную комнату в царство густых, шевелящихся теней. Это было похоже на тот островок света от прожекторов в тоннеле. Безопасная зона, окруженная неизвестностью.
Коршунов достал из пакета карту. Расправил ее на столе, придавив по углам тяжелой пепельницей и толстой папкой с нераскрытым делом о хищении со склада. Бумага была плотной, почти как ватман, но от времени и влаги стала мягкой и хрупкой по сгибам. Он смотрел на нее долго, пытаясь прочесть не только надписи, но и то, что было между ними.
Это была не просто схема. Это был чей-то рабочий инструмент, дневник, путеводитель по миру, которого нет. Основные линии, напечатанные типографской краской, принадлежали прошлому. Названия станций, знакомые каждому москвичу, казались здесь чужеродными, как имена святых в книге черной магии. Настоящая жизнь карты была в пометках, сделанных красным карандашом. Тонкие, уверенные линии, которые пронзали привычную реальность метро, уходя в белые пятна пустоты между официальными тоннелями. Штриховки, крестики, цифры, написанные мелким, сжатым почерком инженера. «ВШ-7бис». «Обводной коллектор. Затоплен в 58-м». «Гермозатвор. Шифр?».
Каждая пометка была вопросом. Каждая линия – оборванным маршрутом. Жирная красная стрелка, начинавшаяся у перегона «Таганская»-«Марксистская», вела к аккуратно нарисованному крестику с подписью «Вход». Вход куда? В затопленный коллектор? В вентиляционную шахту? Или во все это сразу? Коршунов чувствовал себя неграмотным, уставившимся на страницу из книги на незнакомом языке. Он видел буквы, но не понимал слов.
Официальный запрос в Управление метрополитена даст только официальный ответ: таких объектов не существует. Обращение в архивы Моспроекта без конкретного названия проекта было бы похоже на попытку вычерпать море наперстком. Нужен был кто-то, кто говорил на этом языке. Кто-то, кто сам чертил такие линии тридцать лет назад.
Он потянулся к телефону, но остановил руку. Звонить по служебным линиям было все равно что кричать о своей находке на Красной площади. Он открыл ящик стола, порылся под старыми рапортами и вытащил замусоленную записную книжку в потрескавшемся дерматиновом переплете. В ней были номера, которых не было ни в одном официальном справочнике. Телефоны бывших коллег, осведомителей, полезных людей, которые давно отошли от дел, но не растеряли память.
Он нашел нужную фамилию. Званцев, Николай Степанович. Бывший главный инженер одного из управлений Метростроя. Вышел на пенсию лет десять назад. Коршунов помнил его по какому-то старому делу об обрушении в строящемся тоннеле. Старик был вредный, дотошный, но знал свое дело как никто другой. И, что самое важное, он работал в Метрострое с начала пятидесятых. Он мог помнить.
Квартира Званцева в типовой девятиэтажке на Профсоюзной пахла корвалолом, пыльными книгами и чем-то кислым, старческим. Сам он, худой, высохший старик в застиранной байковой рубашке и стоптанных тапочках, смотрел на Коршунова с недоверием из-под кустистых седых бровей.
– Майор, я уже десять лет как на пенсии, – проскрипел он, пропуская Коршунова в тесную прихожую. – Все, что я знал, давно либо замуровали в бетон, либо сдали в утиль. Чем могу быть полезен доблестным органам?
– Памятью, Николай Степанович. Память в утиль не сдают.
Они сели на кухне, такой маленькой, что колени Коршунова почти упирались в холодильник «ЗиЛ». Майор разложил карту на клеенчатой скатерти. Званцев недовольно покосился на грязные пятна на бумаге, но потом надел очки с толстыми линзами и склонился над схемой.
На минуту на кухне повисла тишина, нарушаемая только тиканьем ходиков на стене. Званцев водил по линиям сухим, узловатым пальцем. Его лицо, поначалу выражавшее лишь старческое раздражение, постепенно менялось. На нем проступило удивление, потом – узнавание, и, наконец, что-то похожее на страх. Он резко отдернул руку, словно обжегся.
– Где вы это взяли? – голос его стал тихим и жестким.
– Это неважно. Важно – что это такое. Вы узнаете эту схему?
– Узнаю… – Званцев снял очки и протер их носовым платком. Без них его глаза казались беззащитными и выцветшими. – Это рабочий планшет одного из участков. Сороковые, начало пятидесятых. Судя по шрифтам и условным обозначениям – где-то год пятьдесят второй, пятьдесят третий. Тогда еще такие использовали. Основа типографская, а все проектные изменения наносили от руки.
– А красные линии? Это проектные изменения?
Старик снова надел очки, но на карту уже не смотрел. Он смотрел куда-то в стену, в свое прошлое.
– Нет. Это не проектное. Это… другое. Тогда много чего строили, о чем на планерках не докладывали. Страна готовилась. Сами понимаете, к чему. Гражданская оборона, объекты двойного назначения, спецсвязь. Все шло под грифами, о которых мы, простые инженеры, и не слышали. Работали вслепую. Дали участок – копай отсюда и до обеда. А что там будет – бункер ЦК или склад тушенки, – нас не касалось. Но иногда… иногда обрывки информации просачивались. Какие-то странные техусловия, нестандартные материалы, требования к вентиляции, как для химической лаборатории…
Он замолчал, поджал тонкие губы.
– Николай Степанович, – мягко, но настойчиво сказал Коршунов. – Посмотрите на эту ветку. Которая уходит вбок от перегона. Что это могло быть?
Званцев нехотя снова посмотрел на карту. Его палец завис над крестиком с подписью «Вход».
– Это так называемая сбойка. Технический тоннель, соединяющий основные пути. Их много, большинство используется для обслуживания или как эвакуационные выходы. Но эта… она ведет в никуда. По официальным планам там ничего нет. Сплошной массив известняка. Но если карандашные пометки верны… – он постучал ногтем по убористым надписям, – …то это не просто сбойка. Это подход к объекту. «ВШ-7бис» – это нестандартная нумерация. «Затопленный коллектор» – это, скорее всего, маскировка. А «Гермозатвор»… такие ставят только на очень серьезных объектах. Тех, что должны выдержать прямое попадание.
– Какого рода объект?
– Понятия не имею, майор. И знать не хочу, – Званцев аккуратно, двумя пальцами, свернул карту и пододвинул ее к Коршунову. – И вам не советую. Есть вещи, которые лучше не трогать. Они как старые боеприпасы. Лежат себе в земле тихо, а тронешь – и полгорода на воздух. Я свое отработал. У меня внуки.
Он встал, давая понять, что разговор окончен. В его глазах был уже не просто страх, а твердая, окончательная решимость не иметь с этим ничего общего. Коршунов понял, что больше ничего от него не добьется.
– Спасибо, Николай Степанович. Вы мне очень помогли.
– Я вам ничем не помогал, майор, – отрезал старик, открывая входную дверь. – У вас плохая память. Вы ко мне вообще не приходили.
Дверь за Коршуновым захлопнулась. Он постоял мгновение на лестничной клетке, ощущая себя так, словно его тоже выставили за гермодверь. Старик был напуган. Напуган по-настоящему, спустя тридцать лет. Значит, карта была не просто старой бумажкой. Она была ключом. Ключом от ящика, на котором висела табличка: «Не влезай – убьет».
Но теперь у него было главное. Время – начало пятидесятых. И назначение – секретные объекты гражданской обороны. Это уже была ниточка. Тонкая, гнилая, но ниточка.
Следующее утро встретило его моросящим дождем и перспективой погружения в бумажный ад. Центральный государственный архив народного хозяйства. Огромное серое здание, похожее на крематорий для документов. Внутри пахло так, как может пахнуть только в таких местах: смесью пыли, тлена, мышиного помета и слабого запаха вечности.
Коршунов предъявил удостоверение сонной женщине в очках, похожей на бледную немочь, которая, казалось, сама состояла из архивной пыли. Он запросил дела строительных трестов Метростроя и управлений по спецобъектам за 1951-1955 годы.
– Тематика? – безразлично спросила женщина, не отрываясь от заполнения карточки.
– Строительство подземных коммуникаций в районе Таганской площади, – как можно более расплывчато ответил Коршунов.
Она посмотрела на него поверх очков. Во взгляде ее не было любопытства, только усталость.
– Это надолго. Фонды большие. И многие дела до сих пор под грифом. Вам нужен специальный допуск.
Коршунов положил на стойку не удостоверение, а предписание, подписанное полковником с Петровки. Бумага с нужными печатями и грозными формулировками действовала на таких людей, как крест на нечистую силу. Женщина вздохнула, что-то пометила в журнале и выдала ему требование на выдачу дел.
– Читальный зал номер три. Ждите.
«Ждите» растянулось на три часа. Три часа в гулкой, почти пустой зале, где сидело еще несколько таких же искателей прошлого – аспирант с безумным взглядом и седая женщина, изучавшая подшивки старых газет через огромную лупу. Коршунов пил горький кофе из автомата в коридоре, курил на заднем дворе под дождем и чувствовал, как время здесь течет иначе – медленно и вязко, как патока.
Наконец скрипучая тележка привезла ему стопку пухлых картонных папок, перевязанных тесемками. От них исходил тот самый запах мертвой бумаги. Он начал работать.
Это был Сизифов труд. Протоколы, сметы, отчеты, приказы. Тысячи страниц, исписанных сухим канцелярским языком, скрывавшим за собой гигантскую, нечеловеческую работу тысяч людей. «Проходка щитовым методом…», «крепление тюбингами…», «объем вывезенного грунта…». Он пролистывал страницу за страницей, и его глаза начали слипаться от монотонных рядов цифр и стандартных формулировок. Он искал аномалию. Отклонение от нормы. Что-то, что не укладывалось в общую картину строительства обычного метро.
Он просмотрел две папки. Три. Четыре. Пусто. Все выглядело до тошноты правильно и скучно. Никаких упоминаний секретных бункеров или таинственных ответвлений. Система умела хранить свои тайны. Она не лгала в документах. Она просто создавала параллельную реальность, которая не оставляла бумажных следов.
Он взял пятую папку. «Управление специального строительства №12. Приказы по личному составу за 1953 год». Он начал перелистывать страницы почти машинально, уже не надеясь что-то найти. Приказы о приеме на работу, о переводе, о премировании, о взысканиях. Сотни фамилий, промелькнувших и исчезнувших. И вдруг одна строчка зацепила его внимание.
Приложение к приказу №114 от 17 августа 1953 года. «Список инженерно-технических работников, откомандированных в распоряжение объекта п/я 902 для выполнения специальных работ». «Почтовый ящик 902». Классика жанра. Безымянный, безликий получатель, за которым могло скрываться что угодно – от шарашки в подмосковном лесу до уранового рудника в Сибири.
Коршунов пробежал глазами по списку. Двадцать семь фамилий. Инженеры-проходчики, инженеры-механики, инженеры-гидротехники. Он читал их, и его сердце стучало ровно и глухо. Он почти дошел до конца списка, когда увидел это.
«Лебедев Евгений Павлович, инженер-конструктор. 1925 г.р.».
Фамилия как фамилия. Но рядом с ней, на полях, была сделана пометка другим почерком, фиолетовыми чернилами. Короткое, почти неразборчивое слово. Коршунов наклонился ниже, почти касаясь носом ветхой бумаги. «Выбыл». Не «уволен», не «переведен», не «погиб». Просто «выбыл». Словно фигура, снятая с шахматной доски. А под словом стояла дата: 12.10.1954.
У Коршунова пересохло во рту. Это было оно. Та самая аномалия, которую он искал. Холодное, безликое слово, обрывающее судьбу человека. Он почувствовал себя археологом, который среди тысяч черепков нашел один с неизвестным письменом.
Он вернул папку и подошел к стойке. Та же бледная женщина смотрела на него с тем же безразличием.
– Мне нужно личное дело, – сказал Коршунов, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более буднично. – Лебедев, Евгений Павлович. Инженер-конструктор. Работал в УС-12 в пятьдесят третьем.
Женщина нехотя полезла в картотеку. Долго перебирала пожелтевшие карточки. Наконец вытащила одну. Посмотрела на нее, потом на Коршунова. В ее глазах впервые за все время промелькнуло что-то живое. Смесь удивления и опаски.
– Этого дела нет в общем фонде, – сказала она тихо, словно боясь, что их подслушают.
– А где оно?
– Оно на спецхранении. В архиве Первого отдела.
Коршунов знал, что это значит. Первый отдел – это был филиал КГБ в любом советском учреждении. Спецхранение означало высшую степень секретности. Туда не было доступа даже ему, майору МУРа с предписанием от полковника. Это была стена. Глухая, бетонная стена.
– Причина передачи на спецхранение указана?
Женщина поколебалась, но потом посмотрела на грозную печать на его предписании и снова опустила глаза на карточку.
– Указана, – прошептала она. – «В связи с особой важностью и секретностью выполнявшихся работ, а также… в связи с исчезновением при невыясненных обстоятельствах».
Коршунов почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имевший ничего общего со сквозняком в читальном зале. Исчез. Не погиб на производстве, не сбежал, не был арестован. Исчез. Растворился. И его дело, его жизнь на бумаге, убрали в самый дальний и темный ящик, чтобы о нем никто и никогда не вспомнил.
Он наткнулся на имя инженера, связанного со строительством секретных объектов, чья судьба была покрыта мраком. Карта в кармане мертвеца из тоннеля была не просто схемой. Возможно, это была последняя работа инженера Лебедева. Карта, которую он чертил, чтобы кто-то смог найти дорогу. Или чтобы кто-то смог выбраться.
– Спасибо, – сказал Коршунов и повернулся, чтобы уйти. Он знал, что официально он зашел в тупик. Любая дальнейшая попытка пробить эту стену вызовет немедленную реакцию. За ним начнут следить, ему начнут мешать, а дело просто заберут и похоронят в таком же архивном спецхране.
Он вышел из здания архива на улицу. Дождь перестал, но небо было низким и тяжелым, цвета мокрого асфальта. Город жил своей жизнью: спешили по лужам прохожие, фырчали выхлопами автобусы, гудели троллейбусы. И никому не было дела до инженера Лебедева, пропавшего тридцать лет назад, и до странного существа, умершего прошлой ночью в темноте под землей. Эти две истории существовали в другом измерении, и Коршунов был единственным, кто видел связывающую их нить.
Он нашел телефон-автомат, бросил в щель две копейки. Длинные гудки. Наконец на том конце сняли трубку.
– Власова слушает.
Ее голос, ровный и точный, прозвучал в этом сером дне как камертон.
– Коршунов. Есть новости.
– У меня тоже, майор, – ответила она. В ее голосе слышалось то же с трудом сдерживаемое возбуждение исследователя, что и в морге. – Я провела предварительный анализ образцов кожной ткани под электронным микроскопом. Коллагеновые волокна… они имеют неорганическое вкрапление. Микроскопические нити какого-то полимера, образующие армирующую сетку. Технология, о которой я даже не читала. Это окончательно подтверждает мою теорию. Это не просто модификация. Это… био-инженерный композитный материал.
Коршунов прикрыл глаза. Био-инженерный композит. Он даже не знал, что означают эти слова, но они ложились в общую картину, делая ее еще более чудовищной.
– У меня тоже есть кое-что, – сказал он, глядя на проезжающие машины. – Я нашел того, кто мог это спроектировать. Точнее, его имя. Лебедев Евгений Павлович. Инженер-конструктор. Он работал над секретным подземным объектом в районе Таганки в начале пятидесятых. А в пятьдесят четвертом – пропал. Официальная формулировка – «исчез при невыясненных обстоятельствах». Его личное дело засекречено по линии госбезопасности.
На том конце провода на несколько секунд повисла тишина. Коршунов слышал только ее дыхание. Она переваривала информацию, встраивала ее в свою систему фактов.
– Значит, – произнесла она наконец, и ее голос был необычно тихим, – значит, у нашего «материала» появился возможный создатель. Или… первая жертва. Инженер, который заглянул слишком глубоко в кроличью нору.
– Именно, – сказал Коршунов. – И теперь у нас есть имя. Но все подходы к нему замурованы. Официально я дальше не пройду.
– Но вы же не остановитесь, майор? – это был не вопрос, а утверждение.
Он усмехнулся, не разжимая губ.
– А у нас есть выбор, Анна Сергеевна? – ответил он. – Мне кажется, нас уже пригласили. И тот, кто пригласил, не любит, когда опаздывают.
Он повесил трубку. Имя Лебедева теперь было не просто записью в архивной папке. Оно стало призраком, стоявшим между ним и Анной. Призраком инженера, который тридцать лет назад начертил карту подземного мира и сгинул в нем. И теперь эта карта была у Коршунова. И вела она не просто к секретному объекту. Она вела к судьбе своего создателя.
Шепот забытых имен в пыльных папках архива КГБ
Дверь кабинета на Петровке встретила его привычной смесью запахов: остывший вчерашний кофе, табачный дым, въевшийся в обивку казенного кресла, и едва уловимый аромат бумажной пыли, вечной спутницы милицейских будней. Коршунов не стал включать верхний свет. Щелкнул тумблером настольной лампы, и зеленый абажур вырезал из полумрака круг света на заваленном бумагами столе. Безопасная зона. Все, что находилось за ее пределами, в густых, шевелящихся тенях, казалось враждебным, чужим. Там, в этих тенях, все еще стоял холодный стерильный воздух морга и безмолвно лежало на стальном столе доказательство того, что мир устроен не так, как написано в газете «Правда».
Он достал из кармана плаща сложенный вчетверо клочок пожелтевшей бумаги. Карта. Расправил ее под лампой, придавив по углам тяжелой чернильницей и стопкой нерассмотренных дел. Линии, нанесенные красным карандашом, казались венами на дряблой коже старика. «ВШ-7бис». «Затопленный коллектор». «Гермозатвор. Шифр?». И крестик с лаконичной подписью «Вход». Инженер Званцев, высохший, пахнущий корвалолом старик, смотрел на эту карту так, словно увидел призрака из своего далекого прошлого. «Объект», – сказал он, и в его выцветших глазах плеснулся страх тридцатилетней давности. Страх, который не замуровали в бетоне и не списали в утиль.
Официальный запрос в Управление метрополитена был чистой формальностью, бессмысленным ритуалом. Ответ пришел предсказуемо быстро и был так же пуст, как глазницы черепа. «Объекты с указанными характеристиками на балансе не числятся, в эксплуатационных схемах не значатся». Ложь была настолько тотальной и безыскусной, что почти походила на правду. Но у Коршунова было имя. Одно-единственное имя, выуженное из бумажного океана, слово, которое не должно было сохраниться. Лебедев Евгений Павлович, инженер-конструктор. «Выбыл». Не уволен, не погиб. Просто «выбыл» 12 октября 1954 года. И его личное дело, его бумажная душа, было замуровано в спецхране Первого отдела.
Коршунов знал, что это тупик. Бетонная стена, в которую он уперся. Попытка пробить ее официальным путем, даже с предписанием с Петровки, была равносильна попытке сдвинуть с места мавзолей голыми руками. Это вызовет лишь шум, привлечет ненужное внимание, и дело тихо умрет в сейфе какого-нибудь полковника, который вежливо посоветует майору заниматься пьяными поножовщинами и не лезть в дела государственной важности.
Но он должен был попробовать. Не ради результата, а чтобы нащупать контуры этой стены, понять ее материал, ее толщину. Чтобы знать, где именно нужно будет закладывать заряд, когда придет время действовать неофициально.
Утром он снова ехал в сером городском мареве, на этот раз не в архив народного хозяйства, а в ведомственный архив Министерства транспортного строительства на Садово-Спасской. Здание было монументальным, сталинским, с колоннами и лепниной, призванным внушать человеку ощущение собственной ничтожности перед лицом государства. Внутри царила та же атмосфера вечности и тлена, что и в любом другом архиве.
Запрос на личное дело инженера Лебедева из фонда Управления специального строительства №12, переданное на хранение в Первый отдел, он подал женщине с высокой прической, похожей на башню из седых волос, и лицом, которое, казалось, никогда не выражало никаких эмоций, кроме усталого неодобрения. Она посмотрела на его предписание, потом на него, потом снова на предписание. Ее тонкие, поджатые губы стали еще тоньше.
– Первый отдел – структура Комитета государственной безопасности, товарищ майор, – произнесла она голосом, напоминающим шелест сухих листьев. – У вас есть допуск соответствующей формы?
– У меня предписание от начальника Московского уголовного розыска, – ровно ответил Коршунов, зная, что это бесполезно. – Расследование особо важного дела.
– Уголовный розыск не является основанием для получения доступа к фондам Первого отдела, – отчеканила женщина, не меняя выражения лица. Она была не просто архивариусом. Она была стражем. Жрицей культа секретности. – Мне нужен запрос, подписанный уполномоченным лицом из вашего профильного управления КГБ.
Коршунов молчал, глядя на нее. Он не спорил. Он ждал. Он знал, что его запрос, как камень, брошенный в тихое болото, уже пошел кругами по невидимой воде. Кто-то, где-то, в кабинете без окон, уже знает, что майор милиции Олег Коршунов интересуется инженером, который «выбыл» тридцать лет назад. Теперь нужно было ждать ответной реакции.
Он просидел час в гулком, пустынном коридоре на жесткой деревянной скамье, выкурив три папиросы. Люди проходили мимо, не глядя на него, их шаги отдавались эхом под высокими потолками. Это было чистое упрямство. Он не уйдет, пока ему не откажут окончательно и бесповоротно. Он хотел, чтобы они знали, что он знает.
Наконец, из-за массивной двери с табличкой «Начальник архива» вышел человек. Невысокий, плотный, в идеально сидящем сером костюме, который на фоне общей казенной обшарпанности выглядел инородным. Лет под пятьдесят, с гладко зачесанными назад волосами и лицом, которое ничего не выражало, но при этом казалось значительным. Такие лица бывают у людей, привыкших принимать решения, о которых не пишут в газетах.
– Майор Коршунов? – голос был тихим, безэмоциональным, но в нем была власть. Не та, что кричит и стучит кулаком по столу, а та, что отдает приказ шепотом, и его выполняют беспрекословно.
Коршунов молча кивнул, поднимаясь.
– Я полковник Морозов, – представился человек, не протягивая руки. – Пройдемте. Нам нужно поговорить.
Они вышли из здания на улицу. Моросящий дождь превратился в мелкую, холодную пыль. У тротуара стояла черная «Волга» ГАЗ-24, чистая до неправдоподобия в этой ноябрьской слякоти. Водитель в штатском услужливо открыл заднюю дверь. Салон пах дорогой кожей и чем-то неуловимо-стерильным, как в операционной.
Они сели. Дверь захлопнулась, отсекая шум города. Внутри наступила плотная, ватная тишина. Машина плавно тронулась.
– Олег Дмитриевич, – начал Морозов, глядя прямо перед собой, на затылок водителя. – Тридцать восемь лет. Прошли Афганистан. Два ранения. Орден Красной Звезды. В МУРе на хорошем счету. Раскрываемость высокая. Но есть склонность к, скажем так, неортодоксальным методам. И излишнему упрямству. Все верно?
Коршунов смотрел в боковое стекло на проплывающие мимо серые фасады. Он не удивился. Он этого ожидал.
– Если вы хотели зачитать мое личное дело, полковник, могли бы просто передать его мне. Сэкономили бы время.
Морозов едва заметно улыбнулся одними уголками губ.
– Чувство юмора – ценное качество. Помогает справляться со стрессом. А у вас в последнее время, я полагаю, стресса хватает. Труп в метрополитене. Весьма… необычный труп.
Теперь Коршунов повернул голову и посмотрел на него. Глаза у полковника были светлые, почти бесцветные, как у рыбы, живущей на большой глубине. Взгляд – спокойный, изучающий, без тени враждебности. Это было страшнее, чем открытая угроза.
– Вы быстро работаете, – сказал Коршунов. – Я сам узнал о нем только позавчера.
– Это наша работа, майор. Знать. И предотвращать. Вы хороший оперативник, Коршунов. Вы видите деталь, цепляетесь за нее и тянете за ниточку. Обычно это приводит к поимке преступника. Но иногда ниточка оказывается привязана к спусковому крючку противопехотной мины. Если дернуть слишком сильно, пострадают все. И в первую очередь тот, кто дергает.
– Что это за мина, полковник? Инженер Лебедев, пропавший в пятьдесят четвертом?
– Лебедев, – Морозов задумчиво потер подбородок. – Какая досадная бюрократическая ошибка. Его дело давно должно было быть списано и уничтожено. Как и многие другие документы той эпохи. Время было сложное, страна строилась, готовилась к разным сценариям. Некоторые проекты были, скажем так, экспериментальными. Не все из них оказались удачными. Не обо всех стоит вспоминать. Это как старая, неизлечимая болезнь. Лучше ее не трогать, чтобы не вызвать рецидив.
– А если эта болезнь начинает убивать людей прямо сейчас? В тоннелях под Москвой?
– Вы имеете в виду вашего покойника? – в голосе Морозова не было иронии, только констатация. – Несчастный случай. Трагический, но единичный. Диггер-любитель залез не туда, куда следовало. Нарушение техники безопасности привело к печальным последствиям. Дело следует закрыть за отсутствием состава преступления. Это не рекомендация, майор. Это единственно правильное решение в сложившейся ситуации.
Коршунов усмехнулся. Холодно, безрадостно.
– Диггер-любитель с телом, которое ведущий антрополог страны назвала продуктом инженерии? С кожей, армированной полимерами? Диггер с картой секретного объекта тридцатилетней давности? Вы меня за идиота держите, полковник?
Морозов вздохнул. Так вздыхает уставший учитель, в сотый раз объясняющий нерадивому ученику простейшую теорему.
– Я держу вас за хорошего сыщика, который забрел на чужую территорию. Есть вопросы, которые относятся к компетенции милиции. А есть вопросы государственной безопасности. То, с чем вы столкнулись, – второе. Поверьте, мы знаем об этом объекте и о связанных с ним проблемах гораздо больше, чем вы можете себе представить. И мы этими проблемами занимаемся. По-своему. Ваше вмешательство, даже с самыми лучшими намерениями, может нарушить очень хрупкое равновесие. Вы спугнете дичь, которую мы пасем уже много лет.
– А может, вы просто прикрываете старые грехи? – жестко спросил Коршунов. – Эксперименты над людьми?
Лицо Морозова впервые стало жестким. Бесцветные глаза словно покрылись ледяной пленкой.
– Вы воевали, майор. Вы знаете, что иногда для победы в войне приходится жертвовать пешками. И иногда пешки даже не знают, что они участвуют в игре. Прошлое – это минное поле. Некоторые участки лучше просто обнести колючей проволокой и повесить табличку «Проход запрещен». Для всеобщего блага.
Машина замедлила ход и остановилась у обочины какой-то тихой, безлюдной улочки.
– Я настоятельно советую вам вернуться к вашим прямым обязанностям, – сказал Морозов уже другим тоном, снова спокойным и почти дружелюбным. – Займитесь бытовухой на Сухаревской. Найдите хулиганов, которые разбили витрину в гастрономе. Это полезная и нужная работа. А это дело… считайте, что его у вас забрали. Официальные бумаги придут на Петровку сегодня к вечеру. Дело будет передано в наше ведомство и закрыто. Для вас оно больше не существует.
Коршунов смотрел на него, и в груди поднималась холодная ярость. Это было даже не унижение. Это было стирание. Его, его расследования, правды, которую он почти нащупал. Его просто вычеркивали из уравнения, как пометку фиолетовыми чернилами на полях личного дела.
– А если я не соглашусь? – тихо спросил он.
Морозов снова вздохнул.
– Майор, не нужно создавать проблемы себе и другим. У вас непростая жизнь. Погибший напарник, Костя Рогов. Трагическая случайность на задании, не так ли? Было внутреннее расследование, вас оправдали. Но осадок, как говорится, остался. Неприятно будет, если вдруг появятся новые свидетели, которые вспомнят какие-то детали, проливающие на ту историю совсем другой свет. Неприятно будет вашей жене, с которой вы в разводе, но которой вы все еще помогаете. У нее могут возникнуть сложности на работе. Неприятно будет молодому лейтенанту Петренко, который вам помогает. Его могут отправить служить куда-нибудь в Читинскую область. Мир – очень хрупкая вещь, Олег Дмитриевич. Очень легко, одним неверным движением, все разрушить.
Водитель открыл дверь со стороны Коршунова. Холодный, влажный воздух ворвался в стерильный салон «Волги».
– Всего доброго, майор, – сказал Морозов, снова глядя прямо перед собой. – Надеюсь, мы друг друга поняли.
Коршунов вышел из машины. Дверь захлопнулась. Черная «Волга» беззвучно отъехала от тротуара и растворилась в серой дымке. Он остался один посреди незнакомой улицы, чувствуя, как по лицу текут холодные капли дождя, смешиваясь с потом.
Он понял. Это была не стена, в которую он уперся. Это был живой, мыслящий организм. Левиафан. И он только что ткнул его палкой, и Левиафан лениво приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть на назойливое насекомое. Угроза Морозова была не в словах. Она была в том, что он знал. Знал все. О Косте. О бывшей жене. О Петренко. Его жизнь была для них открытой книгой, которую они могли переписать в любой момент.
Он зашел в ближайшую телефонную будку. Стекла были мутными от грязи, трубка холодила руку. Он бросил две копейки, набрал номер НИИ антропологии.
– Власова слушает.
Ее голос, ровный и точный, прозвучал в этом хаосе единственной константой, точкой опоры.
– Коршунов. У нас проблемы.
– Я догадывалась, майор. Ко мне сегодня приходили. Двое. В штатском. Очень вежливые. Интересовались характером моей работы, текущими консультациями. Спрашивали, не обращались ли ко мне в последнее время из милиции с какими-то… нестандартными случаями. Я сказала, что нет. Они поверили, но попросили сообщать, если подобные обращения будут.
Коршунов прикрыл глаза. Они работали быстро и по всем направлениям.
– Они забрали дело, Анна. Официально. Передают в КГБ для закрытия. Мне только что объяснили, что я должен забыть о нем.
На том конце провода повисла тишина. Он слышал только ее дыхание.
– Но вы же не забудете, – сказала она наконец. Это был не вопрос.
– Нет. Но теперь мы под наблюдением. Каждое наше действие отслеживается.
– Тогда нужно действовать так, чтобы они не видели, – ее голос был абсолютно спокоен, словно она говорила о планировании научного эксперимента. – У меня есть кое-что для вас. Я провела масс-спектрометрию образцов кожи. Помимо полимерных нитей, я нашла следовые количества редкоземельных металлов. Иттрий, лантан, церий. В сплаве, который не встречается в природе. Но используется в некоторых видах специальной электроники и дозиметрических приборов как защита от радиации. Кожа этого существа была не просто прочной. Она была экранированной.
Радиация. Еще одна деталь из другой коробки. Подземный бункер. Защита от прямого попадания. Экранированная кожа. Все это складывалось в картину, от которой становилось не по себе. Картину мира после ядерной войны.
– Значит, он был создан для жизни в условиях повышенного радиационного фона, – медленно проговорил Коршунов, складывая факты.
– Именно. Или для работы в таких условиях. Майор, что вы будете делать?
Коршунов смотрел сквозь мутное стекло будки на серый, безразличный город. Город жил своей жизнью, не подозревая о минных полях прошлого, которые находились прямо под его ногами. Не подозревая о Левиафане, который лениво шевелился в глубине. Но теперь Коршунов знал. И это знание делало его другим.
– Я найду неофициальный вход, Анна, – сказал он. – У меня есть карта. И теперь я знаю, что по официальным коридорам мне ходить нельзя. Это больше не расследование. Это проникновение на вражескую территорию.
– Я с вами, – просто сказала она.
– Я знаю. Будьте осторожны. Они будут следить и за вами.
Он повесил трубку. Вышел из будки под дождь. Закурил. Дым «Беломора» показался горьким и настоящим. Он поднял воротник плаща и пошел по улице, не разбирая дороги. Он не оглядывался, но чувствовал это. Всем своим существом, слухом, отточенным в афганских дозорах, кожей, помнившей холод оружейной стали. За ним следили. Это было не конкретное ощущение взгляда в спину. Это было что-то иное. Город изменился. Он перестал быть нейтральным фоном. Теперь в нем появились глаза. Витрина магазина, в которой на долю секунды отразилась серая «Победа», припаркованная у обочины. Фигура мужчины под козырьком подъезда, слишком долго читающего газету под дождем. Ритм города вокруг него сбился, в нем появилась едва заметная аритмия, которую мог уловить только он.
Он был больше не охотник. Он стал дичью. И это странным образом ничего не меняло. Наоборот, это все упрощало. Когда тебя загоняют в угол, остается только одно – атаковать первым. Он шел сквозь дождь, и в его голове уже складывался план. План, в котором не было места протоколам, предписаниям и вежливым полковникам в черных «Волгах». Был только он, карта, ведущая в сердце тьмы, и шепот забытого имени инженера, который, возможно, тридцать лет назад прошел этой же дорогой.
Третья рельса, ведущая в никуда и в самое сердце тьмы
Ноябрьский вечер сочился сквозь неплотно прикрытую форточку запахом мокрого асфальта и стылого железа. Этот запах въедался в обивку казенной мебели, в стопки пожелтевших дел, в саму душу кабинета на Петровке, и даже едкий дым «Беломора» не мог его перебить. Коршунов сидел в полумраке, подсвеченный лишь зеленым кругом настольной лампы. Телефонный разговор с Власовой все еще звучал в ушах, ее спокойная, почти научная решимость была единственным твердым основанием в мире, который поплыл, потерял четкие очертания. Левиафан показал свой глаз. Теперь нужно было ткнуть в него палкой, просто чтобы убедиться, что он настоящий.
Он достал из ящика стола старую, потрепанную записную книжку в дерматиновом переплете. Официальные каналы были перекрыты, осведомители из действующих – под колпаком. Но были и другие. Те, кто давно сошел с дистанции, растворился в городской массе, превратился в призраков, помнящих другую Москву. Коршунов нашел нужную страницу. Буквы расплылись, чернила выцвели. «Палыч. Крот. Пивная на Сухаревке». Ни фамилии, ни адреса. Просто место обитания. Как у животного в справочнике.
Пивная встретила его ревом, густым махорочным дымом и кислым запахом пролитого пива. Здесь время остановилось лет двадцать назад. Мужики в спецовках и ватниках, с красными, обветренными лицами, сгрудились у высоких столиков без стульев. Разговоры велись громко, о футболе, о халтуре, о женах. Коршунов своим плащом и выражением лица выглядел здесь инородным телом. Он взял кружку темного, пена которого пахла сырым подвалом, и начал сканировать помещение.
Он нашел его в самом дальнем углу, за колонной, отделанной треснувшей плиткой. Старик, сухой и жилистый, как корень дерева, сидел в одиночестве, методично потроша воблу. Руки у него были страшные: узловатые, с въевшейся грязью под обломанными ногтями, они казались не частью человека, а самостоятельным инструментом, созданным для того, чтобы крушить камень и вгрызаться в глину. Глаза, маленькие и светлые, почти бесцветные, смотрели на мир из-под седых, косматых бровей с глубоким, застарелым недоверием. Он не пил пиво, а цедил его мелкими, экономными глотками, словно это было не пойло, а ценное лекарство.
Коршунов подошел и молча поставил свою кружку на столик. Старик даже не поднял головы, продолжая с хирургической точностью отделять хребет рыбы от полупрозрачного мяса.
– Семен Палыч?
Старик наконец оторвался от своего занятия. Его взгляд не выражал ничего, кроме глухой усталости.
– А тебе какое дело?
– Мне сказали, вы знаете город под городом. Лучше, чем те, кто его чертил.
