Мисс Василиса. Повествование о делах минувших и нынешних
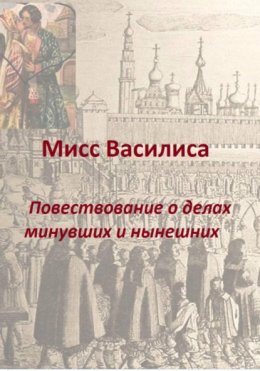
МИСС ВАСИЛИСА
повествование о делах минувших и нынешних
Часть первая
Глава 1. Вильгельм Завоеватель”
Погожим сентябрьским утром 1670 года трехмачтовый линейный корабль “Вильгельм Завоеватель” готовился выйти из дуврского порта. Сейчас он отправлялся не на войну – на борту его находилось английское посольство, следовавшее к русскому царю Алексею Михайловичу. Девяносто корабельных пушек, начищенных до блеска, готовились не стрелять по врагу, а приветствовать от имени Англии чужие страны и их жителей. Невысокие светло-зеленые волны плескались о борт огромного судна; множество чаек слетелось к кораблю, они махали крыльями перед лицами людей, стоявших у борта, и громко кричали, заглушая прощальные возгласы оставшихся на берегу.
Матросы стали поднимать якорь, и нарядная толпа провожающих, состоящая частью из родственников и друзей членов посольства, частью из лиц официальных, а в основном из тех, кто пришел сюда потому, что встречать и провожать корабли – одно из главных развлечений жителей портового города, напряглась, зашумела и в едином порыве замахала платками и шляпами. Корабельные пушки дали семь прощальных залпов. С берега им ответили тем же. Испуганные чайки разлетелись.
Распустили грот и стаксель; “Вильгельм Завоеватель” начал медленно отходить от пристани, оставляя на берегу людей, Дувр, Англию. Рассыпавшись по вантам, команда распускала один парус за другим; попутный ветер надувал очередной белоснежный парус, и красавец-корабль бежал все быстрее. Путь его лежал на северо-восток.
Глава миссии, сэр Энтони Гентли, пожилой грузный человек с длинными седыми волосами и крупной львиноподобной головой, уже сидел в своей каюте. Его темные усталые глаза были полуприкрыты, но все же он наблюдал, как посольская молодежь резвится на палубе и машет провожающим. Сэр Энтони не стоял у борта, потому что его никто не провожал. За свою долгую дипломатическую карьеру он столько раз покидал страну, что приучил к этому семью – леди Фелиция Гентли с дочерьми, теперь уже замужними, привыкла ждать его в Лондоне: там, у порога дома, она прощалась с мужем, там же и встретит его по возвращении. Глядя на молодых людей, с которыми ему предстоял долгий путь и трудная работа в далекой малоизвестной стране, сэр Гентли с грустью вспомнил, как сам почти сорок лет назад впервые отплывал с посольством, гордый от сознания того, что король поручил ему представлять Англию и отстаивать ее интересы в чужой стране. Тогда он был едва ли не моложе своих нынешних спутников. Как же давно это было…
Теперь сэр Гентли, которому недавно исполнилось шестьдесят, считал себя глубоким стариком – может быть, потому, что пережил три совершенно разных эпохи: царствование Карла Первого, революцию и реставрацию. Он был свидетелем множества событий, знал разных людей; видел, как некоторые из них менялись до неузнаваемости в зависимости от обстоятельств, поворачивая туда, откуда дует ветер.
Сам же он, несмотря на все внешние перемены, оставался все тем же сэром Энтони: верой и правдой служил королю – сначала отцу, теперь сыну – и Англии, что, впрочем, для него значило одно и то же. Когда разразилась революция, сэр Гентли оставался рядом с королем, после казни Карла I он предпочел родину эмиграции и вместе с немногими оставшимися в стране роялистами выступал за восстановление монархии и участвовал в заговоре с целью возвращения трона сыну погибшего короля.
Теперь вот по приказу Карла II он теперь отправляется в Московию.
Дувр был уже на горизонте, а молодые люди все еще махали шляпами и возбужденно переговаривались друг с другом. Большинства из них сэр Гентли не знал вовсе, с некоторыми был лишь немного знаком – посол не участвовал в отборе членов миссии. По его рекомендации в посольство был взят лишь один молодой человек Томас Торрингтон, сын его старинного друга сэра Мэтью Торрингтона, казненного Кромвелем. Посол знал Томаса еще мальчиком, помнил, с каким недетским мужеством он поддерживал свою мать в те страшные дни, когда его отец предстал перед судом и был приговорен к смерти. Знал он и о том, какое прекрасное воспитание и образование сумела дать сыну леди Маргарет, несмотря на то, что в революцию семья потеряла имение и осталась почти без средств. Сэр Энтони чем мог помогал жене покойного друга, но делал это всегда через Фрэнсиса Торрингтона, брата Мэтью, так как боялся, что гордая леди Маргарет не примет помощи от него, ибо никогда не признается, что испытывает нужду.
После реставрации королевской власти сэр Гентли был горд узнать, что Томас с честью продолжает традиции славного рода Торрингтонов, проявив мужество в войне, которую Англия вела с Нидерландами. Поэтому и решил взять молодого Торрингтона с собой, чтобы тот мог попробовать себя на новом поприще.
Когда сэр Энтони перед отплытием встретился с Торрингтоном-младшим, его поразило сходство молодого человека с отцом: то же красивое тонкое лицо, тот же пронзительный взгляд серых глаз, тот же благородный высокий лоб. Даже прическа была, как у сэра Мэтью: длинные до плеч рыжеватые волнистые волосы. И бородка та же – маленькая, клинышком посередине подбородка, в Англии такие бороды называют испанскими. Фамильное сходство было последним аргументом в пользу Томаса, оно-то и заставило сэра Энтони не только испросить назначения Торрингтона в миссию, но и потребовать для него почетной должности дворянина по положению. В конце концов, сэр Гентли возглавлял посольство, и ему было вовсе не безразлично, кто будет в миссии вторым по важности лицом.
Назначение главой посольства в Москву порадовало сэра Гентли, хотя и несколько удивило. Говоря по совести, он не очень-то рассчитывал, что о нем еще помнят при дворе, так как последние три года был не у дел. А все после злосчастного Бредского мира. Сэр Гентли до сих пор не мог вспоминать о нем без гнева. По окончании в 1667 году войны с Нидерландами, которая в очередной раз подтвердила славу английского оружия и доказала полное превосходство английского флота, он лично участвовал в мирных переговорах в Бреде. Был он тогда, правда, не главой, а рядовым членом делегации. Гнев его вызывало, естественно, не это обстоятельство – старый политик был готов в любом качестве служить своей стране, и если на Страшном Суде зачитают список его грехов, то как бы велик он ни оказался, греха тщеславия в нем значиться не должно.
Возмущало сэра Энтони совсем другое, куда более для него важное: этот мир представлялся ему крайне унизительным для Англии. Еще бы! Какая война выиграна! Нидерланды на коленях! О чем должны думать в это время дипломаты, прибывшие для заключения мирного договора? Ответ очевиден: о том, как извлечь для своей страны пользу из сложившейся ситуации. Никто не говорит, что поверженных нужно грабить, но интересы своей страны необходимо блюсти. Однако английская делегация, включая главу, сплошь состояла из новомодных дипломатов, пересидевших революцию в эмиграции – главным образом во Франции. Там они научились только галантные поклоны отвешивать да по-французски говорить. И каковы же результаты переговоров? Англия получает маленький городишко в Америке, а взамен отдает Нидерландам Суринам с его плодороднейшими землями и Молуккские острова, откуда в Европу привозят все пряности!
Ну, хорошо, Джеймсу1 понадобились новые личные владения, король замысел одобрил – и полковник Николс без единого выстрела с парой сотен солдат занял этот Новый Амстердам. После чего, собственно, и начались военные действия в Европе. Воевали, воевали – победили. Ради паршивого городишки, который к началу переговоров в Бреде уж три года, как назывался Новым Йорком, решили разбазарить прекрасные старинные владения! Вот вам и новая дипломатия… Voulez-vous Суринам, господа голландцы? S'il vous plait2. Voulez-vous Молуккские острова, господа проигравшие? S'il vous plait вам Моллукские острова. Дался этот Новый Амстердам! Переименовали, а что толку? Да хоть как угодно его называй, ни больше, ни лучше он от этого не станет!
Сэр Энтони один был против подписания этого договора и даже подал королю ремонстрацию, в которой доказывал, что условия мира абсолютно не приемлемы для Англии как победившей стороны. Ремонстрация, впрочем, так и осталась без ответа, а сэра Гентли больше никуда не посылали. А тут вдруг прибывает человек от лорда-канцлера: тот, мол, требует его к себе. Сэр Энтони не замедлил явиться, и вот он уже в Дувре на “Вильгельме Завоевателе”, отплывает в далекую Московию.
Цель миссии, казалось бы, проста: добиться восстановления особых прав английских купцов на беспошлинную торговлю во всем Московском царстве, которые те имели до 1649 года. Московский царь Алексей отменил привилегии англичан после казни короля Карла I. Сэр Энтони краем уха слышал об этом и оценил жест русского правителя. Сразу же после реставрации Карл II отправил в Москву посольство графа Карлейля с благодарностью за поддержку в тяжелые времена и с просьбой об отмене прежнего решения. Но Алексей благодарность принял, а просьбы удовлетворять не стал, ничем, впрочем, не мотивируя, кроме своей монаршей воли. С того времени прошло восемь лет – решили попробовать еще раз. Очень уж купцы настаивали.
Корабль шел курсом на шведский город Ригу. Путь от Риги до Москвы предстояло проделать в повозках или в санях, в зависимости от погоды. Собственно, добраться до этой самой Москвы можно было двумя путями: через Ригу или через русский порт Архангельск, важно было знать, какой путь до Москвы – от Риги или от Архангельска – был лучше. Сэр Гентли, получив назначение, встречался с графом Карлейлем и среди прочих выяснял с ним и этот вопрос. К чести сэра Энтони нужно заметить, что слова Карлейля о том, что оба пути до Москвы равно плохи, но от Риги меньше шансов замерзнуть, не слишком его обескуражили. Старый дипломат и политик, он служил английской короне в столь бурное и трагическое время, что мысли о личных удобствах и даже безопасности давно не приходили ему в голову.
Палуба опустела, значит, Дувр окончательно скрылся из виду; сэр Гентли все сидел у себя в каюте и размышлял. Что он знал о Московии? Почти ничего. Только то, что при встрече рассказал Карлейль. Сэр Гентли пытался представить себе московитов в огромных высоких шапках – когда Карлейль показывал высоту этих шапок, ему едва хватало руки – да с длинными густыми бородами – тут Карлейлю рук уже не хватало. Сидят эти бородачи, кивают. Кажется, все поняли, со всем согласны. А как до дела: нет, простите. Нет – и все тут. А самый непонятный человек – царь. У того и шапка невелика, и борода покороче; впрочем, в Европе и таких бород не носят. Лицом приятен, в разговоре умен, посмотришь – европеец. Принимает же лучше любого европейца. Обо всем расспросит, во все вникнет. Добр, обходителен и учтив. А как решение принимать: нет, говорит, на то нашей монаршей воли. Ни объяснений, ни условий… Нет, говорит, воли! Что тут поделаешь?
“А действительно, что тут поделаешь? – думал сэр Гентли. – Мы ведь хотим вернуть привилегии, ничего взамен не предлагая, только потому, что когда-то они у нас были. Но ведь это не основание. Так политика не делается. Просишь об услуге – покажи, в чем сам можешь быть полезен. Это и есть дипломатия. А хорошая дипломатия – это когда твоя услуга тебя ничем не обременит, а взамен получишь нечто важное. Это не Суринам на Новый Амстердам менять”. Неприятные воспоминания не давали покоя сэру Гентли.
В дверь каюты постучали. Это оказался старый Джеймс, слуга сэра Энтони, который вот уже много лет повсюду сопровождал своего хозяина.
– Не угодно ли чего, сэр? – громко спросил Джеймс.
– Чай, а потом распакуй письменный прибор и приготовь мои бумаги, – тоже громко ответил сэр Энтони. В последние годы Джеймс стал хуже слышать, и хозяину приходилось говорить с ним громче, чем он говорил обычно.
Джеймс исчез и через несколько минут вернулся с небольшим медным тазом и кувшином воды. Сэр Гентли, не вставая, вымыл руки, вытер их приготовленной Джеймсом салфеткой, потом выпил чашку чая, поданную старым слугой, и, не меняя позы, стал ждать, когда тот расставит на столе письменные принадлежности и положит нужные сэру Энтони бумаги.
Оказавшись три года назад не у дел, сэр Гентли принялся за написание трактата, который он озаглавил “De re diplomatica”3.
В своем сочинении старый дипломат хотел не просто осмыслить собственный опыт, который совершенно искренне не считал эталоном. Нет, сэр Гентли задумал теоретический труд, он пытался представить, какой должна быть дипломатия, а исторические примеры, в том числе и собственные, использовал лишь в качестве иллюстраций. Посол хотел, чтобы с его идеями познакомились не только в Англии, а потому, дабы трактат был общедоступен, писал его на латыни. Да так оно было и проще: не нужно было придумывать новых слов и объяснять их значения, вся терминология давно и хорошо известна. В последнее время среди необразованной молодежи все чаще стали слышны призывы использовать в качестве языка дипломатии какой-либо из современных языков, обычно речь шла о французском. Сэра Энтони, не любившего все, что исходило из Франции, – надо сказать, что в этой слабости он себе честно признавался, – подобные разговоры возмущали; это заставило его посвятить языку дипломатии особую главу своего трактата – “De lingua diplomatica”4, где он доказывал всю абсурдность подобного предложения.
В настоящее время он работал над главой “О пользе постоянных дипломатических представительств”. Идеи, высказанные в ней, были до того новы, что их можно было бы назвать революционными, если бы сэр Гентли не презирал слово “революционный” даже сильнее, чем французский язык. До сих пор все дипломатические связи были временными, можно сказать – случайными. Возникла нужда, вот как сейчас, и лорд-канцлер вызывает какого-нибудь сэра Энтони и велит снаряжать посольство в Московию, а то и подальше. Сэр Гентли предлагал решительно изменить практику: он считал, что в каждой стране следует держать постоянную миссию. Преимущества этого были столь очевидны, что в трактате их оставалось только перечислить, серьезных объяснений они не требовали. Вот будь сейчас в Москве постоянное английское посольство, нужно было бы только передать туда указание немедленно вернуться к переговорам о купцах. А то и указания не надо: посол сам бы нашел подходящий момент для того, чтобы поднять этот вопрос. И знал бы, какие нужды у московского царя, что ему предложить взамен. Где уступить, когда потребовать.
А так едет посольство – куда? зачем? ко времени ли? Что, если у царя траур или в стране мор? Какие тут особые права английских купцов? Чтобы обезопасить собственных послов в чужих странах, сэр Энтони предлагал по взаимной договоренности держать иностранных послов в своей столице, вроде как почетных заложников. Через них, впрочем, тоже можно было бы сноситься с державой, которую они представляют. Так и пойдет работа, как в хорошо отлаженном механизме: донесения сюда, указания туда. Все сделано, все вовремя, все четко. Сэр Гентли с удовольствием представлял себе мир, опутанный сеткой дипломатических миссий. Благодаря этому и воевать можно будет меньше. Хватит Англии терять своих сыновей. Сколько их осталось на дне Канала5 после той войны с Нидерландами? Суринам с Молуккскими островами и без выигранной войны можно было отдать, раз уж так хотелось…
Сэр Гентли запретил себе возвращаться к мыслям о злополучном договоре, обмакнул перо в чернила и принялся за работу.
Глава 2. “ Томас и Бэзилайза
«Архивный червь». Так говорят об историках. Это в какой-то степени правда. Но потревоженные тени прошлого влоуг врываются в твою жизнь и перекраивают ее по им одним веданным законам. И тогда начинаешь оправдывать название своей профессии и влипаешь в одну историю за другой.
Я корпела на архивами того периода, когда Нью-Йорк только-только перестал быть Новым Амстердамом, а население его то сильно переваливало за тысячу, а то сокращалось до нескольких сот человек. Это так говорится, что Новый Амстердам располагался на Манхеттене, на самом деле Новым Амстердамом был лишь район Гринич-Вилидж, и только при англичанах огороды и пастбища постепенно начали с современных двадцатых улиц перемещаться дальше на север, а Гарлем еще долго оставался дремучим лесом. Красота!
Главное, несмотря на разделяющие нас три с небольшим столетия, я прекрасно знала и старожилов «города», и вновь прибывших. Американский характер уже начал проявляться: казалось бы, живи – не хочу, но время от времени какая-то семья или группа приятелей срывалась с насиженного места и отправлялась на поиски счастья. Одни делали это от неуживчивости, другие из жажды наживы, третьи просто просто так. Похоже, любители приключений преобладали. И я – по архивам – кочевала вместе с ними. Не было не только Дальнего Запада, не было Пенсильвании (а Уильяму Пенну, в честь которого этот штат назван, пока даже не приходило в голову покидать Старушку Англию), поэтому и путешествовали в основном по побережью, куда-нибудь в Портсмут, Нью-Хэмпшир, или уж на самый край света – в Портленд, штат Мэн… (Впрочем, кажется, в мой период – семидесятые годы – Портленд на несколько лет превратился в поросшие бурьяном головешки: сгорел дотла усилиями индейско-французской коалиции.)
Надо сказать, к этим каботажникам душа у меня не лежала. А вот кто приводил в полный восторг, так это пионеры, решавшиеся отправится в доселе неизведанную глубь материка, вверх по Гудзону выше Олбани, или по Коннетикат-Ривер в дикие места к северу от Хартфорда. Вот за одной такой нью-йоркской компанией я и увязалась. Заводилой был, кажется, племянник Томаса Донгана, губернатора колонии Нью-Йорк, но, похоже, что его соблазнила группа шведов из Филадельфии (этих-то что сюда потянуло, плыли бы себе вверх по Делаверу…)
Надо думать, я уже утомила русского читателя всеми этими Портсфордами, Хартсмутами и их обитателями. Но для американцев – это святая святых, начало истории. Если не первый День Творения, то уж Шестой – наверняка. Каждый хочет иметь богатую историю, а посему в любом университете Новой Англии деньги на исследования вроде моих дают, пока не особенно жмотясь. И я стараюсь.
Правда, не в коня корм: рядовой американец представляет себе эту античность Нового Света так, как если бы русский был убежден, что “на диком бреге Иртыша” сидел Ярослав Мудрый, поджидая гражданина Минина Михаила Илларионовича и князя Хабарова, чтобы вместе брать Казань…
***
Итак, Хартфорд, штат Коннектикут; рутинное копание в архивах в поисках сведений о Джозефе Донгане и его товарищах. И вдруг я натыкаюсь на удивительное и потому взволновавшее меня имя: церковная метрическая запись о том, что 1 мая 1674 года был крещен младенец именем Savva Torrington, сын Томаса и Бэзилайзы Торрингтон.
Сначала я просто не поверила своим глазам. Бэзилайза… Это ж Василиса! Откуда она взялась в Америке XVII столетия? Фантастика какая-то. Во всей Англии, Шотландии и Уэльсе, не говоря уже об Ирландии, вряд ли сыскалась бы хоть одна Василиса, разве что гречанка… Хотя какая там гречанка, когда никакой Греции не было и в помине, а одна сплошная Турция. Неужели русская? Или это фантазия, пришедшая в голову кому-нибудь из пресвитериан, которые никогда не придерживались какого-то строгого именника, и у них до сих пор именем становится фамилия любого президента, хочешь Адамс, хочешь Хувер.
В XVII веке не только Рузвельтов, но и Франклинов еще не было, и их место занимали многочисленные библейские персонажи: Урия, Иов, Эсфирь. Но уж все-таки не Василиса и, тем более, не Савва.
Эта загадка так заинтересовала меня, что я стала искать сведения об этих таинственных людях, которых вполне можно было бы счесть русскими, если бы это не было решительно и совершенно невозможно. Фамилия Торрингтон, разумеется, никаких сомнений не вызывала, как совершенно англо-саксонская, но имена…
Короче, я перерыла все архивы и снова наткнулась-таки на Василису. Это была проповедь преподобного Иеремии Сайкса, прочитанная в Хартфорде, нынешний штат Коннектикут. Проповедник обрушивал свой гнев на папистов, англикан и других отступников, а также упоминал, причем весьма нелицеприятно, о двух заблудших душах, жене и муже, из коих мужчина погряз в лжеучении англиканства, которое суть тот же папизм, а жена его и вообще придерживается греческой веры, где поклоняются идолам в виде картинок, считая их святыми изображениями. Весь пыл Иеремия Сайкс направлял на то, что пресвитерианская община должна забрать у неугодных родителей сына, ибо какое воспитание получит ребенок в такой семье?
Отняли или нет сына у Василисы Торрингтон, так и осталось неизвестным, поскольку, несмотря на все усилия, мне не удалось найти более ни единого упоминания об этой семье.
Конечно, весьма соблазнительным казалось сопоставление этой фамилии и названия городка в том же Коннектикуте. В Торрингтоне ведь родился тот самый Джон Браун, о котором поют янки в гимне “Глори, глори, алилуйя!”. Однако, увы, Торрингтон был основан на берегах реки Наугатук значительно позже, в 1735 году выходцами из Виндзора. В это время Томас и Василиса, даже если и были живы, наверняка совсем одряхлели.
Ничего не дало и обращение к истории Англии. Ни граф Артур Герберт Торрингтон, ни виконт Джордж Бинг Торрингтон, современники моего Томаса, не имели родственников, которых бы так звали.
Я занялась другими исследованиями, и все-таки фамилия Торрингтон не шла у меня из головы. Томас Торрингтон был, судя по словам Сайкса, англиканином, то есть среднестатистическим лояльным британцем, признающим короля (или королеву) главой церкви. Но что ему делать в Коннектикуте XVII века, куда ехали либо религиозные фанатики, либо преступники, скрывавшиеся от закона. Приходилось предположить второе. Дальше этого соображения я не пошла.
Глава 3. Дворянин по положению
Томас Торрингтон дольше других оставался на палубе. Там внизу, в толпе провожающих, стояли его мать, дядя Фрэнсис и горничная матери Нэнси. Томас хорошо видел их: матушка подносила платок к глазам – значит, как ни крепилась, не выдержала, расплакалась; Нэнси тоже была взволнована, она даже подпрыгнула, чтобы лучше видеть Тома, и изо всех сил махала платочком. Потом спрятала его и украдкой послала воздушный поцелуй. Матушка, к счастью, ничего не замечала.
Леди Маргарет была мужественной женщиной, рассудительной и разумной, презиравшей темные суеверия. Однако сейчас она не могла отделаться от чувства, что видит сына в последний раз. Казалось бы, для таких мыслей не было никаких оснований, но как ни взывала она к голосу рассудка, ощущение безвозвратной потери не проходило. Леди Маргарет уже однажды испытывала это чувство, когда по приказу Кромвеля увели ее мужа, сэра Мэтью. И тогда все окружающие, тот же Фрэнсис, убеждали ее, что он скоро вернется. Она не смогла пойти на суд, только видела его голову выставленной на Лондонском мосту.
Вот почему леди Маргарет проделала весь нелегкий путь из Корнуэлла – она хотела еще раз взглянуть на сына. Возможно, в последний.
А вот Нэнси совершенно не разделяла мрачных предчувствий своей хозяйки. Напротив, она была уверена, что Томас вернется совсем скоро, привезет ей заморский подарок, а потом… Кто знает, не станет ли она, Нэнси, вернее Агнес Пентуин, хозяйкой поместья Торрингтонов!
Томас смотрел на мать, на дядю, на Нэнси, и ни о чем не думал. Начиналось долгое путешествие в малоизвестную страну, он волновался, как перед боем, и это волнение заглушало тоску по близким. Немного тревожила мысль о матери, которая в последнее время чувствовала себя неважно, но тут загремели пушки, и мысли Томаса понеслись в другом направлении.
Корабль отчалил. Кричать было уже бесполезно, и Том только стоял и смотрел, как фигуры матери и Нэнси становятся все меньше и меньше, пока пристань и толпа на ней не исчезли совсем. Стало прохладно, солнце спряталось за тучи, вокруг, насколько хватало глаз, простиралось лишь свинцовое осеннее море и такое же свинцовое небо. А Том все стоял и смотрел на медленно удаляющийся английский берег и пытался представить, что ждет его впереди в неизведанной дикой стране.
Двадцатипятилетний Томас Генри Торрингтон не был профессиональным дипломатом, обязанности свои он представлял смутно и ждал, не пожелает ли сэр Энтони встретиться с ним, чтобы разъяснить смысл предстоящей работы. Тот, однако, при первой и пока единственной встрече был неразговорчив, справился лишь о здоровье матушки, сказал, что горд былой дружбой с его отцом и выразил надежду, что сын окажется достойным отца. Том из этой беседы так ничего нового и не узнал, но решил не торопить события.
Пять лет назад на таком же корабле он отправлялся на войну к берегам Нидерландов, тогда он тоже не точно знал, что ему предстоит делать. Пришло время – узнал. И делал не хуже других.
К Томасу подошел его слуга Сэм, высокий парень с хитрыми веселыми глазами и длинным носом:
– Каюта готова, сэр; вещи разложены. Я вам сейчас нужен?
– Пока нет.
– Так я тогда пойду познакомлюсь с другими слугами да разузнаю, где тут что.
– Ладно, иди. Только, прошу тебя, не садись сразу за карты, а то до Швеции все проиграешь. И не пей, – Том сделал паузу, – …много. Ты мне сегодня еще понадобишься.
– О чем вы говорите, сэр? Кто же собирается играть да пить? – Сэм смотрел на хозяина такими невинными светло-серыми глазами, что тот только улыбнулся, махнул рукой и направился в свою каюту.
Он решил, что пора заняться записками.
Еще только узнав о предстоящей миссии, Томас задумал описать свое путешествие, а также нравы и обычаи Московии, о которой в Англии знали немного. Он купил в Лондоне тетрадь в кожаном переплете и изящный дорожный письменный прибор французской работы. Сейчас он с удовольствием извлек и то, и другое из саквояжа и решил незамедлительно приступить к делу – очень уж манили крошечные чернильницы и песочницы, плотно стоящие в особых отверстиях, пресс-папье, уютно угнездившееся в отведенной ему ложбинке, два железных пера взамен привычных гусиных – такими Том еще никогда не пользовался, какие-то коробочки и выдвижные ящички, назначение которых еще предстояло узнать или придумать. Томас почти не сомневался, что его записки со временем опубликуют, он представлял себе будущую книгу, гравированный портрет автора на первой странице и титульный лист с названием “Новое и самое полное описание Московии и окрестных земель, составленное сэром Томасом Торрингтоном, кавалером Ордена Подвязки”. Томас понимал, что “кавалера” он ставит пока напрасно: подобающих высокому званию подвигов он еще не совершил. Тогда он мысленно убирал “кавалера”, но титульный лист выглядел без него гораздо хуже. Том вздыхал и разрешал “кавалеру” вернуться на место: “В конце концов, кто знает, кто знает… Миссия далекая и опасная. Еще не известно, какая роль мне в ней отведена. Да и описать неизвестную страну – тоже, знаете, работа не из простых. Кто знает, кто знает…”
Так как книги пока не было, Том еще в Лондоне нарисовал титульный лист в своей тетради с золотым обрезом. Здесь он на “кавалера” пока не решился. В Лондоне же он написал и первую главу, в которой подробнейшим образом изложил свою родословную. Томас счел это необходимым, во-первых, чтобы будущие читатели знали автора, чьими глазами смотрят на далекую страну, во-вторых, чтобы подчеркнуть обоснованность своего назначения в посольство на должность дворянина по положению; ну, а в-третьих, если откровенно, то и с прицелом на будущего “кавалера” – ему без родословной никак нельзя.
Томас начинал родословную с основоположника рода Торрингтонов, затем вскользь описал еще несколько чуть менее известных Торрингтонов, пока не дошел до своего отца сэра Мэтью Торрингтона. Его он помнил хорошо – Томасу исполнилось двенадцать лет, когда отец был казнен Кромвелем. Вместе со своим братом Фрэнсисом и сэром Энтони Гентли он участвовал в монархическом заговоре.
Говорили, что сэр Мэтью был арестован, потому что в кругу заговорщиков оказался предатель. Томас не очень этому верил. Если предатель был, то как объяснить, что арестовали только отца? Том считал, что причиной ареста и казни было не предательство, а отцовский характер: сэр Мэтью ненавидел Кромвеля и никогда не скрывал этого; о его отношении к революции и лорду-протектору знали все – от конюха до соседей, так что и предатель был не нужен. Судили открыто, Том с дядей Фрэнсисом присутствовали на суде. Матушка расхворалась настолько, что не могла подняться с постели. Отец держался спокойно, словно речь шла не о его жизни и смерти, отвечал с достоинством, а приговор, от которого мать, когда ей сообщили, упала в обморок, выслушал с каменным лицом.
В записках Том привел обвинительное заключение, которое он запомнил дословно: “Задавшись коварной целью поддержать тираническую власть, Сэр Мэтью Годфри Торрингтон восстал против прав и привилегий народа. Он сговорился с иностранными державами о возведении на английский престол сына казненного по приговору Парламента и народа Карла Стюарта. Сэр Мэтью Годфри Торрингтон согласился поддержать иноземное вторжение в ущерб интересам народа, общему праву, справедливости и миру нашей страны”.
В апреле 1657 года – точного дня Томас не знал – его отец был казнен в Тауэре как государственный преступник. Но казнью мучения отца не закончились: его отсеченную голову надели на шест и еще неделю держали на Лондонском мосту для всеобщего обозрения. Дядя Фрэнсис уговаривал мать Тома не ходить туда и не смотреть, но леди Маргарет настояла на своем. Она попросила друга их семьи священника отца Уайта сопроводить их к Лондонскому мосту и совершить там подобие отпевания. Отец Уайт согласился, хотя это и было очень рискованно; он пошел с ними и тихонько прочел нужные молитвы – добрый христианин Мэтью Торрингтон заслужил христианские проводы.
Леди Маргарет происходила из валлийской семьи Лланелли. Томас с удовольствием занялся бы и ее родословной, но для этого надо было побывать в Уэльсе, порыться в геральдических книгах, на что постоянно не хватало времени: корнуэльское имение Торрингтонов, конфискованное в самом начале революции, было возвращено лишь три года назад, когда Томас вернулся с войны, и находилось в ужасающе плачевном состоянии. По просьбе матери Том все время был при ней и помогал в восстановлении родового гнезда. Тут уж не до поездок в Уэльс. Впрочем, Том не терял надежды там побывать.
Томас перечитал все написанное в Лондоне и решил ничего не менять. Перед главой оставалось свободное место для нескольких строк – надо вписать туда дату отплытия – Тому хотелось, чтобы все выглядело так, будто записки начаты на корабле. Он достал бутылку чернил и через крошечную стеклянную воронку, которая тоже входила в письменный прибор, стал переливать их в маленькую изящную чернильницу. Когда дело было закончено, он новым пером вывел наверху страницы: “5 сентября 1670 года линейный корабль “Вильгельм Завоеватель” с английским посольством на борту вышел из Дуврского порта. Поскольку до первой остановки в Швеции предстоит плыть не менее недели, предлагаю почтенному читателю ознакомиться с историей древнего рода Торрингтонов, к которому принадлежит автор настоящих путевых заметок”. Томас перечитал, подумал и исправил: “древнего и славного рода”, после чего посыпал страницу песком из маленькой песочницы, подождал несколько минут, а потом сдул песчинки – строки просохли. С сожалением Том закрыл тетрадь, но убирать ее в саквояж не стал.
В дверь постучали, и прежде, чем Томас успел ответить, она приоткрылась, и в щель просунулся длинный нос Сэма.
– Вам что-нибудь нужно, сэр?
– Поди-ка сюда. Что-то ты слишком красный, – сказал Томас, вглядываясь в лицо слуги.
– Жарко, сэр.
– С чего это тебе жарко? А, все ясно. Ну и запах! Что за гадость ты пил?
– Почему гадость? – обиделся Сэм. – Выпил стаканчик джина, чистого, как слеза ребенка.
– Откуда у тебя эта страсть к шотландским напиткам?
– Я лишен национальных предрассудков, сэр. Все люди братья. И пил я не ради удовольствия, а с глубоким отвращением, предвидя, что это может вызвать ваш справедливый гнев. Но, видит Бог, у меня не было другого выхода, да и на что не пойдешь, когда нужно получить информацию, – Сэм просунулся в каюту целиком, и его долговязая фигура слегка покачивалась из стороны в сторону.
– Бог мой, какую еще информацию? – спросил Томас, начиная раздражаться.
– Ин-фор-мацию, – Сэм с видимым удовольствием произносил это длинное и новое для него слово, – касательно дикой и неизведанной страны, в которой вам представляет предстоить… э-э.., простите, предстоит представлять наше славное королевство. Один моряк плавал туда с купцами и говорит, что это царство вечной зимы, а по улицам городов постоянно… нет, вы только представьте: постоянно бродят медведи. Джин у них покрепче шотландского, а меха сказочно дешевы. И женщины очень крупные, – Сэм широко развел руки, пытаясь показать, сколь крупные женщины живут в этой дикой и неизведанной стране.
– Что-то уж больно толсты, – усмехнулся Томас.
– Что вы, хозяин, в самый раз! Мужчины, как известно, делятся на две категории: на тех, что любят толстых женщин, и на тех, что любят очень толстых. Я принадлежу к третьей. Мне нравятся любые!
– Ладно, любитель женщин, толку от тебя сегодня не будет. Иди проспись, – сказал Томас, который по опыту знал, что если пьяного Сэма не прервать, тот будет рассуждать бесконечно. – И зачем я только взял тебя с собой?
Томас часто досадовал на Сэма, но, несмотря на это, любил его больше других слуг, потому и брал его с собой, куда бы ни отправлялся. Все два года войны Сэм неотлучно сопровождал своего хозяина, и, видит Бог, не было на свете более преданного, надежного слуги, чем этот болтливый выпивоха.
– По-моему, вы несправедливы, сэр. Но раз вы этого желаете, я удаляюсь. – Сэм изобразил оскорбленное достоинство, гордо выпрямился и вышел из каюты, стараясь не шататься.
В дверь опять постучали, Томас решил, что Сэм вернулся, но это был матрос, приглашавший к обеду.
Глава 4. Из “Нового и самого полного описания Московии и окрестных земель”
“17 сентября. На море продолжается сильнейшая буря, корабль сильно качает. Я привык к качке во время войны, на меня она не действует. Посол тоже держится хорошо. Члены же свиты мучаются от морской болезни, лежат вповалку, у некоторых горлом идет кровь.
21 сентября. Море успокоилось только сегодня. На рассвете увидели мыс Скаген. Это высокие песчаные дюны. Вскоре, к полудню увидели берег Ютландии, а к вечеру норвежский берег. Вода вблизи Ютландии белая, в Северном море – зеленая.
22 сентября. Мы все еще идем около Норвегии. Берег там высокий, горы голые. Около полудня, с попутным ветром, мы увидели мыс Куллен, там начинается территория Швеции. Перед мысом каждый, кто проходит здесь в первый раз, должен на рейде окунуться в море. У нас это сделали три молодых матроса и мой слуга Сэм Дести, они сверх требуемого обычаем окунулись в море еще несколько раз в честь разных членов посольства, чьи имена они по очереди громко выкрикивали из воды. Вылезли потом совершенно замерзшие. Мне пришлось долго отпаивать Сэма виски, пока он не согрелся и не уснул.
23 сентября. Утром бросили якорь у довольно большого шведского города Штральзунда, выполнив обычные церемонии, опустив флаг и марсель и дали десять выстрелов. Шведы ответили пятью выстрелами. Датчане с другого берега тоже стреляли из двух пушек, на что мы ответили первым – двумя, а вторым – одним выстрелом. К полудню, когда мы собрались сходить на берег, нам в этом было отказано, ибо в Европе прошел ложный слух, что в Англии сейчас чума. Не иначе голландцы распустили! Капитану, однако, довольно скоро удалось уладить дело, и после недели морского пути мы, наконец, ступили на твердую почву.
24 сентября. На следующий день мы убрали паруса и покинули Штральзунд, пополнив запасы воды и продовольствия.”
***
“29 сентября. Мы спокойно подошли к лифляндскому6 берегу и плыли вдоль него в тумане. Ночью ветер усилился в нашу пользу, так что в полдень мы увидели мыс, который ожидали, и который должны были обогнуть. Там высокие холмы, покрытые лесами. К ночи мы вошли в залив и бросили якорь.
30 сентября. Утром в пять часов мы снова подняли якорь, шли берегом и пришли к полудню к Двине, той реке, на которой стоит город Рига. Земли Лифляндии лишь совсем недавно были присоединены к владениям шведской короны. Раньше они были польскими, поэтому Рига отличается от других шведских городов как размерами, так и устройством 7.
В устье Двины лежит Дунамунд – мощная крепость со множеством шведских солдат; они охраняют все течение реки и удержали город, когда русские четырнадцать лет назад осаждали его. Крепость построена со стороны реки из камня, а с суши – из глины. Шведы считают себя умными, хорошими стратегами, обойди кто реку с суши, и грош цена всей этой защите – бери глиняные укрепления голыми руками. Интересно, почему русские не догадались? Похоже, не очень-то эта Рига им была нужна. Валы крепости полые, в них живут солдаты – сверху видны дымовые трубы, и выглядит это смешно.
Когда пошли по реке, то спустили флаг и паруса и приветствовали шведов пятью выстрелами. Шведы ответили четырьмя, но пристать в гавани нам запретили, объявили, что придется проходить карантин – боюсь, что это следствие все тех же подлых голландских слухов. К борту “Вильгельма Завоевателя” на лодке подплыл офицер и заявил, что в порт нас пустить не может, но из уважения к британской короне предлагает послу на время остановиться в одной из загородных усадеб. Сэр Гентли отказался, сказав, что не имеет приказа покидать судно и оставлять посольство, и уж коль скоро нам нельзя войти в город, попросил распорядиться прислать подводы, повозки и все необходимое для дороги, а если ему и в этом откажут, то пригрозил вернуться назад и пристать к другим берегам. Одновременно сэр Гентли передал послание генерал-губернатору Лифляндии графу Оксеншерне. Нынешний граф Оксеншерна был, как предполагал наш посол, сыном покойного канцлера Швеции Акселя Оксеншерны, о котором сэр Гентли отзывался как о великом человеке. Он говорил, что граф Оксеншерна-старший фактически правил Швецией, оказывая огромное влияние на короля Густава-Адольфа, а позже, после гибели государя стал регентом при малолетней королеве Кристине. Сэр Гентли искренне восторгался Оксеншерной-политиком, говорил, что тот выиграл тринадцатилетнюю войну, а главное – сумел воспользоваться победой, присоединив к Швеции северогерманские земли и не отдав взамен Суринама.
NB. Интересно, причем тут Суринам? Надо выяснить.”
Глава 5. Родословная Торрингтонов
Прошло несколько лет, но я хотя и не забывала о Василисе Торрингтон и ее сыне Савве, которого хотела отнять пуританская община, но уже отчаялась найти какие-то новый материалы о них. Все изменилось в тот день, когда муж вместе с почтой принес очередной ньюслеттер8 Международного общества по изучению исторической демографии; среди прочего было и напоминание, что очередная конференция Общества состоится в Эксетерском университете, графство Девоншир, в декабре текущего года. К несчастью, в конверт было вложено и теплое письмо от Джерарда Магенниса, президента Общества, напоминавшее, что я обещала (оказывается!), но до сих пор не прислала тезисы своего доклада на Эксетерскую конференцию, предположительно называющегося “Временное восстановление голландского суверенитета в Нью-Йорке в 1673–74 гг. и его демографические последствия для Новой Англии”.
Черт возьми! Вроде бы, действительно обещала… Но я твердо была уверена, что конференция будет в Малаге! В декабре и в Новой Англии погода не сулит ничего хорошего, а уж в Старой Англии… Бр-р-р… Деваться некуда, придется вооружиться зонтом и терпением и ехать в Британию. Не последнюю роль сыграло смутное воспоминание (которое я тут же подкрепила сведениями из “Британники”), о том, что рядом с Эксетером находится городок, насящий название Торрингтон.
***
Поезд из Лондона опоздал на час, что меня нисколько не вывело из себя, поскольку в Англии мне уже приходилось бывать. На вокзале в Эксетере висела эмблема нашего общества, под которой за небольшим столиком сидел какой-то замученный бесконечными участниками конференции аспирант, по-британски любезно сообщивший мне всю необходимую информацию, и посоветовавший пару отелей. Один – современный, из стекла и бетона – обладал всем необходимым для отеля, второй – знаменитый эксетерский “Корабль”, рядом с которым когда-то останавливались дилижансы, – находился в здании XVII века, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Скажем, вероятность душа в номере “Корабля” была на порядок меньше, чем личное знакомство с почтенного возраста привидением. К привидениям я равнодушна, но, к сожалению, между промозглой ветреной сыростью британского побережья в декабре и идеально застеленными, но ледяными простынями мне просто необходима горячая ванна или хотя бы душ. Однако жертв требует не только искусство, но и наука. Занялась XVII веком – притворись, что современный комфорт тебе безразличен. Итак – любовь к аутентичности пересилила, и я выбрала старый добрый “Корабль”. (Если честно, то все решило его расположение в центре города.)
Утром я бегло просмотрела программу. Пленарное заседание обещало быть как всегда скучным, но на поверку оказалось весьма живым: перед перерывом случилась драка – докладчик и его оппонент никак не могли прийти к соглашению о том, какой процент лондонцев погиб во время пожара 1667 года, а какой в предыдущем году от чумы. Первый считал, что больше жизней унесла чума, второй – что огонь. Сначала молодые люди спорили в полголоса, затем перешли на крик, сменившийся тем, что в Британии можно расценить как площадную брань, и готовились к нанесению друг другу телесных повреждений. На миг показалось, что чума и пожар, свирепствовавшие в XVII веке, унесут еще пару жизней.
Однако сцепившихся ученых мужей разняли, научная общественность разошлась на ланч, и как я поняла, после перерыва большинство не торопились в зал, где проходили доклады.
– Еще не хватало выслушивать этого осла Торрингтона! – громко сказал кто-то за соседним столиком.
На миг мне показалось, что я ослышалась. Торрингтон! Хотя я тут же расхохоталась. Мало ли на свете Торрингтонов, фамилия, возможно, не из самых частых, но и не уникальная. Однако, несмотря на скепсис, я взволновалась. Некое шестое чувство, которое всегда очень помогает мне в работе, подсказывало – я напала на след.
Я вынула из портфеля программу конференции, которую, признаюсь, толком еще не изучила. Действительно в нашей секции, “Британцы вне Британии, X–XVII вв.”, первым стоял доклад некого сэра Ф. Т. Дж. Торрингтона (Труро) “Новые факты из истории рода Торрингтонов”. Тема доклада на первый взгляд имела мало отношения к интересам собравшихся, что и объясняло реакцию джентльмена за соседним столиком. Однако один восторженный слушатель, вернее слушательница, неизвестному исследователю из Труро в моем лице уже была обеспечена.
Знаток истории рода Торринтонов оказался настоящим подарком. Ради одного этого стоило лететь через океан и мокнуть под зимним английским небом. Даже если эти Торрингтоны не имеют ничего общего с Томасом и Василисой, жившими триста лет назад в Новой Англии, он мог что-то знать о них…
Посмотрев на часы, я торопливо допила кофе и поднялась с места – одна из очень немногих. Остальных история Торрингтонов интересовала менее всего.
Ведущий нашей секции сообщил, что, к сожалению, ни доктор О'Мгомбо из Лагоса, ни госпожа Калинаускайте из Каунаса, к сожалению, пока не прибыли, поэтому перерыв на кофе в нашей секции начнется сразу после первого доклада, а за сим предоставил слово сэру Фрэнсису Торрингтону из Труро. Докладчик оказался пожилым, немного грузным джентльменом, который вышел с бумагами и целым веером прозрачных пленок для оверхеда.
Молодой человек, сидевший через стул от меня, украдкой зевнул.
– Уважаемые коллеги, – скрипучим голосом начал сэр Фрэнсис, – Я уже не раз имел честь докладывать в самых различных аудиториях подробности и новые факты, которые мне удается установить в ходе тщательнейшей архивной работы. Мои разыскания касаются истории одной семьи, представителей славного рода Торрингтонов. Кто-то может возразить мне, почему я ограничиваюсь рамками всего одной семьи, или раз на то пошло, отчего я не выбрал семью с более звучным именем, которое у каждого на слуху, отчего я не занимаюсь родом Черчиллей или Байронов, Честерфилдов или Стюартов. На это я могу аргументированно ответить – история делается не только теми, кто у всех на виду, история создается…
Тут я отключилась, не в силах следить за однообразным и бесцветным голосом, прислушиваться к которому хотелось так же, как к шуму дождя.
Молодой человек рядом внимательно изучал программу конференции, делая в ней пометки. Мистер Торрингтон и его изыскания, как видно, не волновали его.
Признаться, я включилась только когда докладчик начал манипулировать с проектором, и на экране над его головой возникло родословное древо.
– До сих пор не вполне ясным было происхождение первого Торрингтона, – бубнил докладчик, – Как я уже не раз отмечал, он был посвящен в рыцари в XII столетии. Мне удалось найти записки, написанные пятью столетиями позже, где подробнейшим образом отражена история этого первого из Торрингтонов. Семейное предание гласит, что во время Третьего крестового похода, происходившего с 1189 по 1192 год, вместе с Ричардом Львиное Сердце отправился некий простолюдин по имени Джон. То есть отправился он, разумеется, не с королем Ричардом, а со своим господином, имени которого ни история, ни семейное предание не сохранили. Джон состоял при обозе. Это значит, он разжигал на стоянках костры, готовил пищу, чистил котлы, одним словом был занят делами, не располагающими к героизму. В 1191 году крестоносцы осадили Акру, эта осада оказалась долгой и изнурительной, и силы осаждающих были на исходе. Кончался провиант. Король Ричард, заботливый предводитель воинства Христова, вникал во все проблемы сам, а потому однажды лично явился в обоз, чтобы посмотреть, чем можно накормить воинов. Джон как раз разводил огонь. В это время небольшой отряд сарацин прокрался к обозу с другой стороны, поскольку в Акре дела с провиантом обстояли не лучше, чем у крестоносцев. Увидев короля Ричарда, один из сарацин натянул лук и прицелился. Джон вдруг заметил его и, голой рукой выхватив из костра горящую головню, бросил ею в сарацина, попал ему в глаз, отчего тот и скончался на месте. Остальные сарацины кинулись бежать, но были настигнуты рыцарями. А Джон остался стоять с обожженной рукой. Потрясенный мужеством простого англичанина, король Ричард Львиное Сердце тут же у обоза на поле перед Акрой посвятил Джона в рыцари, а по возвращении из похода Джон был пожалован имением Торрингтон в Корнуэлле. С тех пор… – докладчик прервал свою речь, больше походившую на роман Вальтера Скотта, чем на научный доклад, и теперь на экране у него за спиной возникло изображение герба: – Итак, с тех пор на гербе Торрингтонов на алом поле изображен восстающий золотой лев, держащий в лапе факел. Этот факел символизирует ту самую горящую головню.
Молодой человек рядом со мной захлопнул программу конференции и стал нервно дергать ногой. Докладчик продолжал:
– Как видим, старая версия о том, что Джон Торрингтон отправился в третий крестовый поход в качестве рыцаря, оказывается неверной. Новые факты свидетельствуют о том, что…
Он еще долго говорил, вновь и вновь возвращаясь к деталям семейного предания, доказывая, что каждая мелочь в нем полностью соответствует исторической действительности. Сообщение длилось долго, Ф. Т. Дж. Торрингтон давно вышел из регламента, председатель несколько раз указывал на часы, пока, наконец, не выдержав, не постучал по столу и не сказал, слегка повысив голос:
– Я вынужден прервать интереснейшее сообщение нашего дорогого попечителя. Несмотря на глубочайшее уважение к сэру Фрэнсису Торрингтону, я вынужден констатировать, что правила одинаковы для всех выступающих, какие бы посты они ни занимали. Хотя два следующих по программе доклада и не состоятся, мы не вправе менять регламент конференции.
“Сэр”, “попечитель”, “глубочайшее уважение” – это кое-что проясняло.
– Понимаю! Конечно! – воскликнул сэр Фрэнсис столь энергично, что проснулись спавшие на задних рядах. – Только одно дополнение. Я в настоящее время провожу расследования относительно того, как звали того рыцаря, с которым первый Торрингтон отправился в крестовый поход. К сожалению, от двенадцатого столетия сохранилось не так много документов, и я не сильно продвинулся в своих изысканиях. Однако, как мне представляется, это не окончательно безнадежно. К сожалению, мои обязанности как попечителя художественной школы в Труро, не говоря уже…
Сэр Фрэнсис вязал слова еще минут пятнадцать. Под звуки его монотонного голоса стал поклевывать носом и председатель. Однако, всему на свете приходит конец, закончилось и сообщение Ф. Т. Дж. Торрингтона. Когда он сходил с кафедры, раздались дружные аплодисменты. Так аудитория выражала радость по поводу того, что мука, наконец, закончилась.
Председатель объявил перерыв.
***
Всем нужно было немного прийти в себя. Я вышла вместе с молодым человеком, который делал пометки в программе и спросила:
– Извините, но кто такой этот мистер Торрингтон? У меня сложилось впечатление, что его здесь многие знают.
– Сэр Фрэнсис Торрингтон! – с некоторой торжественной издевкой поправил молодой человек. – Вы, судя по акценту, с того берега Атлантики. Выходит, до вас он еще не добрался? – удивился он – Я-то слышу эту историю, или очень похожую, с тех пор, как этот осел выступал у нас в школе. В Эксетере любой может повторить все слово в слово. Представляю себе, что делается в Труро. Живи я там, я бы уже давно свел знакомство с какими-нибудь ирландцами и лично подложил бы ему бомбу во время выступления.
– Неужели он рассказывает все время одно и то же? – недоуменно спросила я, – Ведь его доклад называется… – я раскрыла программу, – “Новые факты из истории рода Торрингтонов”.
– Да, конечно, – сардонически хмыкнул молодой человек, – Разумеется тут есть новые факты. Например, этот старый осел где-то прочитал или достал какую-нибудь древнюю хартию о том, что Джон в момент совершения своего несравненного подвига варил овсянку, в то время как раньше считалось, что он был занят чисткой котла. А через месяц он выступит с новой версией: окажется, что Джон в это время чинил конскую сбрую, или пил эль, или ковырял в носу. Причем повод вылезти на кафедру не важен. Сойдет и конкурс студенческих работ, и международная конференция, вот как сейчас.
– Да, тяжело, – я покачала головой.
– Особенно нам тут в Эксетере. Это ближайший университетский город от родового гнезда достославного семейства. А старший представитель этого знаменитого рода, к сожалению, является одним из наших главных попечителей. Так что живем мы на его денежки.
– А взамен он требует только, чтобы выслушивали о его новых изысканиях. Что ж, это небольшая плата.
– Наверно. Вот мы и тянем жребий, кто пойдет на его доклад в следующий раз.
Перерыв кончился, и все потянулись в зал. Я тоже собиралась присоединиться к коллегам, однако увидела сэра Фрэнсиса, который двигался навстречу основному потоку, с текстом доклада в руках.
Я не могла удержаться и не задать ему вопрос, который мучил меня в течение всего его доклада:
– Простите, мистер Торрингтон, я только что с большим интересом прослушала ваше сообщение и хотела задать вам несколько вопросов.
– Да, – на лице сэра Фрэнсиса появилось невероятно серьезное выражение.
– Я занималась первыми английскими поселениями в Новом Свете, и мне попалось упоминание о Томасе Торрингтоне. В 1674 году он находился в Нью-Йорке вместе с женой и сыном.
– Что?! – я даже опешила, не ожидая, что столь почтенный джентльмен способен так кричать. – Что?! – снова завопил он, и на нас стали оглядываться. – У Томаса родился сын?! Боже! Боже мой! У Томаса сын? Но он жив? – сэр Фрэнсис пронзил меня таким взглядом, что я уже была готова пожалеть, что связалась с буйно помешанным, – Вернее, что я говорю… Он не умер ребенком, были ли у него наследники?
Никогда не думала, что человека могут настолько занимать события трехсотлетней давности.
– Я, к сожалению, не могу удовлетворить вашего любопытства… – осторожно начала я.
– Какое к дьяволу любопытство! Это дело жизни и смерти! Честь Торрингтонов, черт побери!
Я не предполагала, что столь достойный джентльмен способен употреблять подобные выражения, а потому постаралась говорить как можно нейтральнее, опасаясь, как бы мои сообщения не вызвали нового взрыва.
– Мне известно только, что сын родился и был крещен в Хартфорде, а его матерью была женщина по имени Василиса.
– Ага!! – вскричал сэр Фрэнсис, – Значит, она!
– Кто она? – не выдержала я.
– Doch gostya Kooleshova, – пояснил Торрингтон.
Мне пришлось переспросить, но все равно я не сразу поняла, что сэр Фрэнсис говорит по-русски!
“Гостями” в допетровской России называли богатых купцов, нечто вроде будущей привилегированной первой гильдии. Они получали от царя персональные жалованные грамоты, имели право на собственные винокурни и так далее. Но откуда это слово известно сэру Фрэнсису С. Д. Торрингтону из Корнуэлла?
– Так Томас Торрингтон называет в своих записках одну девицу, которую увидел в Московии, – объяснил мне сэр Фрэнсис чуть позже, когда немного успокоился и вновь приобрел человеческий облик.
Мы дошли до кафе, где сейчас было пусто, потому что почти все разошлись по секциям. Я и сама надеялась услышать доклад о “достоверности советских этнодемографических публикаций”, но теперь было уже не до того. Азарт Фрэнсиса Торрингтона заразил меня, причем в довольно тяжелой форме.
Мы сели за столик, заказали кофе и сэндвичи, и Торрингтон разложил передо мной целый ворох листков, каждый из которых запечатлел фрагмент полного генеалогического древа этого славного английского рода.
Ни раньше, ни позднее мне не приходилось видеть столь скрупулезно проделанной работы. Здесь были учтены все дети, даже те, что прожили несколько часов. О супругах обоего пола сообщались всевозможные сведения, а потомки учитывались не только по мужской, но во многих случаях и по женской линии.
Уместить на одном листе бумаги эту схему было невозможно, для этого понадобилась бы трехмерная конструкция.
– Простите мне мое волнение, – сказал Торрингтон, – но вы сообщили такую новость, от которой я до сих пор еще не могу оправиться. Ведь это в корне меняет всю мою концепцию. И не только ее, – таинственно добавил он после минутной паузы. – Я не знал, что у Томаса был сын.
– Но судя по вашим словам, у вас есть его записки…
– Они охватывают только первую половину его путешествия в Московию, – покачал головой сэр Фрэнсис, – Записи становятся все короче, а потом и вовсе обрываются. Дальнейшая судьба Томаса неизвестна. Во всяком случае, с посольством Гентли он не вернулся. В то же время я как-то не мог найти точных сведений о его смерти. Я, например, не знаю, где он захоронен. Если бы он умер в море, об этом бы сообщили. Томас Торрингтон всегда меня очень волновал. Я одно время считал, что он натурализовался в России. Пару лет назад я даже делал доклад на эту тему в университете Сент-Эндрюс.
– Подумайте, как это возможно? В то время в России иностранцы жили на положении изгоев, каждый их шаг контролировался властями. Они фактически были лишены свободы передвижения. И это после Англии?
– Тем не менее купцы туда ездили – ответил Торрингтон – Однако все это не так важно в свете того, что вы мне сейчас сообщили. Он женился на русской и увез ее в Новую Англию. Мать его, леди Маргарет, к этому времени скончалась… И все-таки остается непонятным, почему он не вернулся в Корнуэлл. В результате я стал владельцем поместья, – сэр Фрэнсис рассмеялся, затем стал тасовать листы генеалогии и скоро вытащил на свет один из них, относящийся к XVII столетию. Лист касался потомков некоего Годфри Эдварда Торрингтона, который в 1609 году женился на Джейн Эннабел Дарси и имел от нее пятерых детей. Первенец, Кристофер прожил несколько дней, второй, Сэр Мэтью Годфри, родился в 1612 году, а в 1657 был обезглавлен. Затем родилась Эмили, вышедшая замуж за Джона Гарольда Бингли и умершая в 1643 году, Констанция, так и не вышедшая замуж, и при этом прожившая 102 года и, наконец, Фрэнсис Годфри Торрингтон, родившийся в 1626 году. От него-то и вел свою линию нынешний владелец поместья. Этот “старый” сэр Фрэнсис долгое время был холостяком, а в 1675 году внезапно женился на Агнес Пентуин, которая была моложе его на двадцать два года. От этого брака в следующем 1676 году родился Годфри Фрэнсис, ставший в начале следующего века активным деятелем партии вигов и породнившийся через детей с Кавендишами, Стенхопами и Расселами.
Что касается сэра Мэтью Годфри, то у него был один-единственный сын Томас Мэтью, двое других детей умерли до года. Томас Торрингтон принадлежал к старшей ветви семьи и именно он должен был унаследовать поместье, а не Фрэнсис Годфри, который родился значительно позже и был сыном младшего брата. Однако Томас не воспользовался своим наследным правом. И совершенно непонятно – почему.
– А что он пишет в своих заметках? – спросила я.
– Обычные записки о стране глазами иностранца, – пожал плечами сэр Фрэнсис, – Возможно, это интересно для истории России. Все, что нужно было мне, я оттуда извлек. Вот, кстати, и история Джона, первого из Торрингтонов. Новые факты, о которых я рассказывал, почерпнуты именно из этих записок.
– А возможно ли взглянуть на них? – робко спросила я, зная, что многие подобные энтузиасты не жаждут показывать свои материалы, а кое-кто умудряется упрятать их даже после смерти, составив завещание таким образом, что они могут быть опубликованы, скажем, через двадцать лет.
– С радостью покажу их вам, – ответил сэр Фрэнсис, и моя все растущая симпатия к нему выросла сразу вдвое, – Вы собираетесь пробыть в Эксетере до конца конференции? Тогда я буду ждать вас в субботу в Труро у епископального собора сразу после окончания службы.
Глава 6. Дела Московские
В Московии, меж тем, послов не ждали, своих дел хватало.
Лето от сотворения мира 7177 было тяжелым для царя Алексея Михайловича. Несчастья, как нарочно, преследовали его семью. В феврале прошлого умерла его старшая дочь Евдокия, которой шел тогда девятнадцатый год. Потеря эта поразила мать ее, царицу Марью Ильинишну 9, что она родила прежде срока – дочь также нарекли Евдокией, и через несколько дней она умерла, а еще через неделю скончалась и царица. Горести на том не кончились. В июне умер четырехлетний царевич Симеон.
Следующий год был не лучше. Начался он с того, что вор Стенька Разин, нагулявшись по Дону и Каспию, пошел из Астрахани вверх по Волге, захватил Царицын, выпустил из воеводской тюрьмы всех татей и разбойников. Вся ватага отправилась зимовать на Дон.
В январе преставился наследник престола царевич Алексей, объявленный уже соправителем отца. Меньше чем за год потерял царь супругу и четверых детей.
