Дом
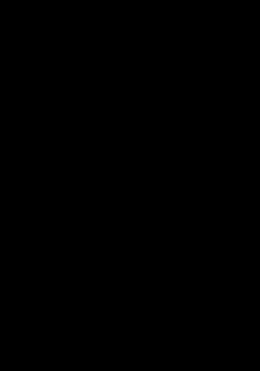
Глава 1
– Егорка!
Голос с улицы показался знакомым. Но тут же во дворе отчаянно и звонко залаял Рыжий – значит, чужак. Отложив гитару, Егорка подошел к окошку и осторожно приподнял угол занавески – Квадрат.
Опустив занавеску, Егорка замешкался. Меньше всего ему хотелось видеть сегодня кого-либо из подъездной компании. В этом ноябре стали случаться странные дни, когда ему хотелось остаться в своем старом, скрипучем доме, побыть одному. Затопить печь, бренчать на гитаре, забравшись на диван. Слушать, как отстукивают время настенные часы, с медным боем. И сегодня был один из таких странных дней. Тем более что на улице с утра моросил отвратительный дождичек – мелкий, ледяной, еще немного и посыплется снежная крупа. И небо над головой было всех оттенков серого цвета, тяжелое и низкое – небо ноября. Вернувшись из школы, Егорка остался дома, затопил печь и воцарился на диване, с гитарой в обнимку.
Рыжий лаял уже реже и тише. Егорка снова осторожно выглянул в окошко, в надежде, что Квадрат свалил. Но тот продолжал мяться на крыльце – белобрысая голова не покрыта, модная ярко-красная куртка из болоньи расстегнута. Что-то во всем его облике было жалким. И к тому же никогда прежде этот пижон не заглядывал в гости.
Квадрат снова позвал:
– Егор!
И чуть дернул за ручку входную дверь, надежно запертую изнутри на железный крюк. Егорка поплелся отпирать.
Когда он скинул крюк и распахнул дверь, в лицо с улицы пахнуло холодом и сыростью. Квадрат молча проскользнул мимо, боком, буркнув что-то невразумительное, а Егорка вышел на крыльцо, присел на корточки и ласково погладил тут же радостно подбежавшего Рыжего по спинке.
Когда Егорка вернулся в дом, Квадрат, сбросив куртку и ботинки, уже забрался в самую глубину, и сидел там, в темной детской комнате, перед открытой печной дверцей, глядя на огонь.
– Свищ совсем …, понял, да? – нервно затараторил он, обернувшись к Егорке. – Напился, и бегает по району, понял, да? Меня ищет…
Егорка молчал.
– За что взъелся, … проссышь, понял, да? – продолжал возбужденно стрекотать Квадрат. – Пьяный, собака… Говорит, что в сарайке я сказал что-то вчера… Придурок, … ваще… Урод полный…
Нервное возбуждение Квадрата передалось и Егорке. Он вышел из детской, включил магнитофон.
– Был еще недавно я любим и мил… – запела «Юность» веселым многоголосьем. – Отчего внезапно изменился мир…
Выключив магнитофон, Егорка сел на диван, взял прилегшую на валик гитару и принялся что-то бренчать. Постепенно бренчание становилось все более оформленным и энергичным, откуда-то пришли слова. Эти слова стали складываться в строчки, к строчкам прилетали рифмы – Егорка являл миру новую, неслыханную песнь. Вскоре и Квадрат выбрался из темноты детской комнаты, и тоже принялся что-то возбужденно бормотать и подкрикивать. Через полчаса песня была готова.
Это была героическая сага, сказ про двух отважных молодых волков, которые ничуть не боятся тупого старого вожака – Свищу было аж шестнадцать. Пацаны принялись скакать по дому в диковатом танце, воодушевленно горланя победную песнь. На ходу досочинялись новые куплеты, в каждом из них Свищ жестоко высмеивался, являя собой полное ничтожество. Утомившись орать и скакать, оба плюхнулись на диван и умиротворенно притихли. В этот момент за окном истерично залаял Рыжий, а дверь дома рванули – раз, другой…
Егорка выглянул в окно и увидел Свища. Голова не покрыта, патлы мокрые, промок и плащ на спине и плечах. За вожаком теснились трое или четверо пацанов – из-за горячечного тумана, вдруг образовавшегося в голове, Егорка не мог точно посчитать и различить каждого. Квадрат, выглянувший было из-за Егоркиного плеча, тут же пал на пол и быстро, боком, как морской краб, уполз в детскую и там забился под кровать, в самый дальний угол. Егорка растерянно посмотрел в сторону уползшего и пошел к двери.
Компания завалилась в дом. Вожак замер на пороге залы, прислонившись к дверному косяку. Дворовая свита теснилась за его спиной в напряженном молчании. Свищ тоже молчал, глядя себе под ноги. Егорка стоял перед ним. От вожака стаи сильно несло портвейном. Наконец, Свищ поинтересовался, как бы нехотя:
– Квадрат… у тебя…?
– Нет, – отрицательно мотнул головой Егорка и в ту же секунду увидел за спиной вожака злополучную красную куртку Квадрата.
– А ес-ли па-шарить? – с блатной расстановочкой уточнил Свищ.
Егорка неопределенно пожал плечами. Свищ перевел взгляд за спину Егорки, прислушиваясь и даже как будто принюхиваясь. В доме было на удивление тихо.
Свищ тяжело отвалился от дверного косяка, и свалил, перед уходом неожиданно пожав Егорке руку. Дворовая свита слилась вослед.
Егорка заставил себя спуститься вниз и запереть входную дверь на спасительный крюк. Вернувшись в дом, прислушался – тишина стояла прямо-таки удивительная. Будто действительно не было в доме ни единого чужого человечка. Дедовские часы отчетливо и равнодушно чеканили секунду за секундой, как царские серебряные монетки.
Егорка подошел к старинному зеркалу на тонких, изъеденных древесным жучком ножках, всмотрелся – худое, бледное лицо. Взгляд острый, с болезненным блеском. Пышная сфера кудрей над головой. Будто абрек какой-то, спустившийся с гор. И куда подевался тот пухлощекий мечтательный малыш с добрыми, широко открытыми миру глазищами? Вот куда он подевался? Егорка отвернулся от зеркала, дошел до дивана и плюхнулся на него, прикрывая глаза…
Мама пришла
… Дом – это кит. Живой – слышно как он дышит. А Егорка угодил киту в утробу. В теплой утробе почему-то тревожно. Нашептывает о чем-то дом – шорохами, скрипами, тихими вздохами. Сколько ни вслушивайся – не поймешь, о чем эти шорохи, чьи тихие вздохи. Одно ясно – они подчеркивают глубину тишины и вселенскую безмерность Егоркиного одиночества. Ведь мама ушла, и когда придет – неизвестно. И придет ли вообще…
Только этот широкий диван и спасает. Он тоже поскрипывает скрытыми пружинами при каждом, даже самом осторожном шевелении Егорки. Но как же не пошевелиться? Ножки-то затекают. И тишина в доме час от часу как будто нарастает, становясь все слышней и напряженней. Тишина даже как будто начинает звенеть. Приходится зорко посматривать по сторонам. Слева недобро молчит папина комната. Вход в нее занавешен двумя зелеными шторками, украшенными веселыми хвостиками по краям.
По вечерам папина комната добрая, безопасная. Папа читает толстенький журнал, лежа поверх постели. Бодро потрескивает радиоприемник с рыжей пружинкой антенны, зацепленной на высокий гвоздик. Приемник то заговорит мужским голосом бархатного, дикторского тембра, то запоет ласкающим слух женским, а то вдруг весело брызнет ребячьим хором. И даже безмерно печальная тетя с пухлым малышом на руках, изображенная на старинной картине, смотрит вниз, на светлую макушку Егорки, разместившегося на спинке папиной кровати, с материнской нежностью и теплотой.
Что за веселыми занавесками творится сейчас – неясно. Радиоприемник испуганно молчит. Красивая тетя, чудится, смотрит в пустоту с печальной укоризной. Под папиной кроватью наверняка затаился кто-то опасный. В окно, выходящее из папиной комнаты в сад, вполне может заглянуть хищно крадущийся мимо разбойник, с черной меткой на левом глазу и кривым кинжалом за матерчатым поясом. Что тогда говорить про детскую спаленку – темную, без единого окна? Там, под высокой кроватью с медными шариками на спинке, наверняка укрылся матерый волк. Сверкая из темноты красными злыми глазищами, готовый клацнуть ужасной клыкастой пастью – бац! И нет маленького Егорки, как и не бывало… И уж совсем невыносима мысль о том неведомом чудище, что затаилось под диваном, на котором так доверчиво разместился Егорка, беззащитный и вполне съедобный для кровожадных тварей, заполонивших дом.
На этой мысли Егорка сиганул на пол и метнулся на кухню. На двух стремительных крыльях – отчаянного страха и решимости сражаться за свою жизнь до последнего, малыш в мгновение ока достиг кухонного стола, выхватил из ящика вилку и нож, и рванул обратно. Занырнув на диван, быстро подобрал ножки под себя. Повезло – никто не ухватил сзади за колготки, не цапанул за ворот фланелевой рубашонки. Благополучно воцарившись на своем месте, Егорка грозно выставил вилку и нож в разные стороны, и заново оглядел подвластное пространство дома…
Медный маятник исправно отстукивает секунды:
– Так-та-а-ак… Так—та-а-ак…
Так, да не совсем – минутная стрелка будто залипла на месте. А когда чудом доползает-таки до нового часа – раздается медный бой, будто в дом залетел и разорвался игрушечный артиллерийский снаряд:
– Домм! – задремавший было Егорка вздрагивает, открывая глаза.
– Домм…! Домм…! – Доммм…! Домммм…! – продолжают рваться в голове Егорки игрушечные снаряды. Он окончательно вываливается из дремотной грогги, чувствуя как внутри разливается болезненный жар.
Войну Егорка видел – по телевизору. Особенно запомнилось, как взрыв взметает землю, а бесстрашный командир, поднимаясь из окопа во весь богатырский рост, уже зовет солдат в атаку… Ура….! Жаркий будет бой. Жарко Егорке… Когда вырастет, он обязательно станет таким же бесстрашным и неуязвимым, как телевизионный командир… Но сейчас он очень и очень уязвим, горячий поток влечет его все дальше и глубже, уже близится воронка, она грозит окончательно затянуть Егорку на неведомую глубину… И затянула бы, но в самый последний момент вдруг кто-то дергает входную дверь. Егорка сползает с дивана, выглядывает в окно и видит на крыльце маму, ее каштановые, вьющиеся волосы и светлый плащ…
…
Неясные образы короткого сна – что-то детское, давно позабытое – еще роились в голове, Егорка еще пытался уловить их дырявым сачком пробуждающегося сознания.
– Квадрат! Вылазь! – позвал Егорка. – Свалил Свищ …
Свищом вожака прозвали за угреватое лицо. У него были потные руки и мутные глаза. Ухватки гиены или какого другого опасного животного – сильного, хитрого и затаенно трусливого. На голову выше и на три года старше. Когда у вожака случается запой, кому-нибудь из стаи легко попасть в немилость – не то сказал, не так посмотрел. Вчера собирались всей гоп-компанией в маленькой заброшенной сараюшке возле снесенного дома мазуриков, бывших друзей Егорки.
Народу в сараюшку набилось плотно, и Квадрат тоже был. Курили сигареты с фильтром, запивали бутылочным жигулевским, чтобы балдежней было. По очереди бренчали на гитаре. Играть пробовали все, но толком никто не умел, все ждали Егоркину «Олю». Наконец, Егорка взял гитару и начал бить по струнам пульсирующим дворовым боем:
О, васильки, васильки,
Сколько вас выросло в поле?
Помню до самой зари
Их собирали мы с Олей
Пацаны подхватили, подвывая нестройно и гнусаво:
Оля, ты любишь меня?
Оля шутя отвечала
Нет, не люблю я тебя,
И быть твоей не мечтала.
И дальше снова солировал Егорка:
Парень достал свой кинжал,
Низко над Олей склонился,
Брызнула кровь из груди,
Синий венок покатился…
Оля, зачем так шутить?
Оля, зачем так смеяться?…
На этих словах Свищ резко поднялся с пола сарайки и выскочил наружу, прихватив ржавый колун, валявшийся в углу. На улице он принялся крушить все подряд. Сначала забил яблоньку, потом кинулся на остатки забора. А потом выкатил из зарослей крапивы ржавый железный бачок для воды и принялся калечить его, яростно и бессмысленно сминая бока, будто добивая несчастного железного человека без ног и без рук. Пацаны с опаской глядели на разбушевавшегося Свища. Егорка тоже смотрел и думал о том, как совсем по-другому – ловко, спокойно, осмысленно – колет ядреные березовые чурбаки отец.
Ночь. Скорая помощь. Том Сойер
… – Тук-тук! Тик-так! Тук-тук!
Настенные часы постукивают в сумеречной глубине дома, оживляя акустическим пунктиром извечный, неутомимый и равнодушный ход времени, из ниоткуда в никуда.
Так, да не совсем… И даже совсем не так – Егорку вот увезли по скорой… Два года сынишке уже, с небольшим… Может, и ни к чему было в больницу мчаться, дома бы поправился – жар небольшой. Дети без болезни не вырастают, простая логика жизни. Но у женщин своя логика. Жена запаниковала, до дрожи в коленках, умчалась в больницу, в темные и сырые глубины ночного города…
Августовская ночь превратила оконное стекло в зеркало. Господи, давно ли сам носился по улице светлоголовым мальчонкой, любопытные глаза торчком? Кто вы такой, солидный мужчина в толстых роговых очках? Сидите прямо передо мной, с той стороны стекла, смотрите строго … Длинные залысины по обеим сторонам… Егоркин папа… Молодой отец… Боже, как быстро утекает время. Лето едва началось, а вот уже и осень дышит в лицо сырым ветерком, и целомудренные березы с тонкими девчачьими косичками зеленых веточек превращаются в бессовестно красивых, крашеных охрой бестий, и акация давно растеряла желтые, сладко пахнущие цветы, облетела до последнего листочка. Утром выглянул в окно – снова пришла она, хозяйка-зима, и город стал ослепительно белым и загадочно молчаливым. Проснулся на следующий день – опять весельчаки воробьишки чирикают на ветках акации, радостно обсуждая приближение весны… Наросло еще одно годичное кольцо…
Человек стареет, а жизнь делает заход на очередной виток в неведомое, новое. И на этом новом витке жизни то и дело являются чудеса – радио, телевизор, калькулятор. Что еще придумают? Из новейших – эти хитроумные вычислительные приборы. Вот одна из них, изображена на обложке свежего номера журнала, внешне – симбиоз телевизора с пишущей машинкой. И ума палата – для сложных расчетов. Будущее за большими вычислениями. Оно принадлежит машинкам, кнопочкам и прочим человеческим хитростям… Ракетоносителям. И, конечно – его величеству Человеку, добравшемуся до небес и даже вышедшему за их пределы. Прошлому остается только тускло мерцать отраженным светом иконной оправы. Два древних, тонких и скорбных лика – материнский и младенческий…. Милое, краешком каким-то все еще родное, но – прошлое. Совсем другие времена настали. Командир космического корабля садится в командирское кресло так же уверенно как его предки в седло на деревенской кобыле. Человек пристегивает ремни безопасности и велит космическому кораблю как сказочному коньку-горбунку «поехали!», и конек рвет с места, одним махом выводя седока за пределы, казавшиеся неодолимыми – в открытый космос. А тем временем дома, на Земле – праздничное шествие. Демонстрация красных транспарантов, растянутых над благодушно-выходными лицами сослуживцев. Куда движется вся эта праздничная махина? К каким таким светлым временам? Сами не знаем. Но идем уверенными колоннами, по районам – Кировский, Дзержинский… А раньше были – Сталинский, Кагановичский. Сейчас уже звучит диковато – культ разоблачили. А крестины по-прежнему тайком. В церквях – сплошь старушки. Вымрут старушки – опустеют церкви… А пожалуй что и не опустеют. Старые старушки вымрут, придут новые. Нет, ничего не изменится. Вышли в Космос, изобрели вычислительную машинку, а дети по-прежнему болеют. И будут болеть. А родители уходят – навсегда… И будут уходить.
На службу ходили в кладбищенскую церковь – другие позакрывали. С отцом. Церковь была поделена на две половины – белую и красную. На белой – битком, на красной – пусто. Служба идет долго. Тяжело выстоять. Отец на коленки разрешал опуститься, отдохнуть. А то и на улицу отпустит – проветриться. Вышел как-то, а на церковной паперти Костерин крутится, одноклассник. Обрадовался одноклассник, когда увидел, что Сережка из церкви выходит, аж заплясал на фоне крестов и могилок, как чертенок. Вертится на одной ноге и припевает – «А я в школе все скажу! А я в школе все скажу!»… Скажет он… А сам то чего припёрся сюда, на церковное кладбище? Поколдовать на дохлой кошке что ли? Балбес…
По старинному календарю сегодня – Илья Пророк, два часа уволок… Особенный святой. Борец с идолопоклонниками. Покровитель города – «… именно в день его был побежден хищный и лютый зверь…». Еще одна схватка человека со зверем. Жили же люди – непроходимые леса, дикие звери, разбойники… Человек-то порой лютее самого дикого зверя. Достаточно философии. Она не должна быть… пятиэтажной. Пора на боковую.
В доме тихо как в открытом космосе. Жена осталась в больнице. С женой повезло – красивая как восточная царица и бойкая, как… Том Сойер. Характер мальчишеский, крепкий. Мать любила ее. «Куда собралась? Сидеть не буду!». А сама уже подсаживается поближе к кроватке, качает … Довольно былого и дум. Сегодня можно храпеть на весь дом, никто слова не скажет…
…
В темной комнате послышалось шевеление. Егорка поднялся с дивана и снова подошел к зеркалу. Серебро зеркальной глади было изъедено временем, тут и там чернело червоточинами, особенно по краям. Егорка снова всмотрелся в свое отражение. Сегодня утром, собираясь на работу и мимоходом взглянув на сына, мама вдруг заметила:
– Да… изросся, сынулька…
И Егорка вдруг взвился, как ошпаренный, выкрикнув нечто совершенно несообразное:
– Что ты мне в душу-то лезешь?!
«Итак, свет мой зеркальце, повторяю вопрос – куда подевался тот пухлощекий малыш с круглым личиком и ясными глазками?»
Сын умирает. Тонкорунная овечка. Котлеты мужу
… – Не полагается мамам оставаться в больнице! Вам русским языком говорят – не предусмотрено!
Медсестра замолчала, сердито перебирая в кармане белоснежного халата ключи от больничных кабинетов. Еще раз взглянула на мальчонку. Годика два, с небольшим. Личико бледное. Светлая прядь волос намокла и прилипла ко лбу. Жар, конечно, имеется. И что? Обыкновенное же дело. Тут таких мальчонок с жаром еще почище – вон, полтора десятка по кроваткам. Настырная мамаша, а с виду – эдакая тонкорунная овечка. Мягкие черты лица, темные завитые локоны, выразительные карие глаза. Была бы красавицей, если бы не эта тонкая линия сжатых губ, придающая лицу неприятно-упрямое выражение. Говорит, что из областного снабжения… Заведующую знает по имени-отчеству… Ладно, пусть остается. Нравится спать на полу – спи. Утром разберемся, что за птица…
Спасибо, сестра… Ничего-то у нас не полагается… Пришла вечером с работы – у сынишки лоб как кипяток, волосенки светлые намокли, прилипли, а жар все поднимается. Хорошо – на улице бывший нквдешник живет, с телефоном. Сбегали, вызвали скорую. Да, ослабли коленочки, дрожат. Конечно, дети без болезни не вырастают, но коленкам не объяснишь – скачут. Дому под пятьдесят лет, старенький. Летом тепло, и дышится легко, а зимой – пар изо рта. Щели в полу, слышно как в подполе крысы шуршат и сыростью несет. Бронхит заработать – пара пустяков. Давно говорила – утепли! Наконец, собрался, обшил вагонкой снаружи. А щели в полу так и остались. И когда соберется доделать дело – неизвестно. Одно слово – «теля». Но – с характером. Не пьет – уже редкость. И домосед – закоренелый! А как же другая жизнь, другая радость? Хочется и в гости сходить, и в кино. Нет – сиди дома, при нем. Жарь котлеты. И с сыном не очень-то помогает, считает – женское дело. А ведь тяжеловато одной – и на работу ходи, и с сыном управляйся, и с мужем. А тому – лишь бы наесться до отвала и на кровать, читать про науку и жизнь… Купила на рынке дорогущего мяса, побаловать. Нажарила сковородку котлет, думала, хватит денька на два – съел всю, за один присест… Побаловала. Опять надо думать, что готовить и из чего. В магазинах пусто, на рынке – дорого. Вот и получается, что мужу – жизнь, мне – наука… Стоп! Очнулась, заглянула в кроватку – глаза сынишки широко раскрыты, а взгляд – неподвижный и одновременно какой-то тающий. Смотрит, ангел мой, перед собой в одну точку, побелел, как гипсовый, будто видит что-то, чего никто не видит, и дышит – едва-едва… Господи – дышит ли?! Ох, и всполошилась! Как подскочит, как закричит – «Сестра! Сын умирает! Сын!» На всю больницу! Выхватила сына из кроватки и – пулей из палаты! Прижала к себе, несется как кикимора, укравшая из колыбели чужого ребеночка, боится, что – догонят, отнимут…
…
Егорка оглянулся – Квадрат вышел в залу и осторожно осматривался, снимая с головы подкроватную паутину. Взгляд еще настороженный. «Пересрал… – отстраненно подумал Егорка. – И верно – квадратная…»
Свою дворовую кликуху Квадрат заполучил из-за специфической формы головы. Егорка снова посмотрелся в зеркало, и подумал, что у него самого голова то еще зрелище – волосы дыбом. Нечто невообразимое, всклокоченное. Кочка в лесу. Взрыв мозга. Наглядное отображение того, что происходит вокруг Егорки и внутри. Вокруг все было невероятно сложно, а внутри еще сложней. Там шла ломка. Это заметила и старая тетушка, к которой он заглянул недавно в гости, по привычке.
– Раньше взгляд у тебя был томный… А сейчас стал…, – она задумалась, подбирая точное словцо. – Острый.
Тетя Зина – старшая сестра Егоркиного папы. Она давно на пенсии, а когда-то была кудрявой малышкой и жила в Егоркином доме, который тогда не был Егоркиным, потому как не было еще на белом свете не только самого Егорки, но и его отца. Теперь тетя Зина давно живет в кирпичном доме, на третьем этаже. И она давно уже не та маленькая малышка с кудряшками, а совсем даже наоборот – седая, величавая старуха с проницательным взглядом из-под очков в толстой роговой оправе. «Баба Яга», – со страхом и почтением думал малыш Егорка, приходя с папой к ней в гости, и стараясь держаться поближе к папе. По внешнему виду ей и правда как будто не хватало одного – помела и ступы. Тогда она могла бы преспокойно подниматься на третий этаж своей пятиэтажки по воздуху, влетая в свое жилище через балконную дверь…
В комнате тети Зины всегда было очень чисто и уютно, ее населяли:
– железная кровать на высоких ножках, всегда аккуратно заправлена, большая пуховая подушка поставлена на уголок и прикрыта пелеринкой;
– старый шифоньер с зеркальной дверцей, откуда доставались конфеты, фотоальбомы и иногда – малая денежка на мороженое племяннику;
– диван с подушками, над ним на стене – ковер, на котором гордый изюбр с роскошными ветвистыми рогами оберегает покой своих олених, мирно пасущихся неподалеку на опушке леса;
– округлый холодильник – то начинающий недовольно тарахтеть, то снова покорно замирающий;
– телевизор, накрытый чистой белой тряпочкой с узорной вышивкой по краям;
– шкаф с книгами и семейными фотографиями на полках.
Пока тетушка хлопочет на кухне, чтобы накормить гостя, Егорка вытаскивает наугад любой из томов Малой советской энциклопедии, садится на диван и погружается в чтение.
«…ДНЕПРОГЭС ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА – гидроэлектростанция на реке Днепре. Расположена вблизи г. Запорожья, ниже днепровских порогов, делавших невозможным регулярное судоходство по реке. Сооружение Д. предусмотрено планом ГОЭЛРО, начато в 1927…»
А тетушка тем временем уже заваривает чай в фарфоровом чайнике с золотистыми узорами, накрывает его чистой тряпочкой-прихваткой, выставляет на стол вазу зеленого стекла с шоколадными конфетами, карамельками.
«ЗАРАЗИХА, волчок, Oro banche – род одно- и многолетних паразитных растений сем. заразиховых (Orobanche eae). Св. 120 видов. В СССР – 42 вида…»
На стол ставится чугунная сковорода с красавицей глазуньей, тонко нарезанный хлеб на тарелочке с серебряной каемочкой.
«Иванов, Александр Андреевич [16(28), VII, 1806,Петербург, – 3 (15), VII,1858, там же] – русский живописец. Сын живописца А.И. Иванова. С 1817 посещал петерб. АХ. Исполненные И. в этот период картины «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора (1824, Третьяков. гал)… И. не оставлял мечты об иск-ве, стоящем на уровне передовых идей своего времени. Революция 1848 – 49 произвела огромное впечатление на художника. Он утратил прежнюю религ. веру…»
И, наконец, царица стола – суповая тарелка домашней лапшички, с вьющимся ароматным дымком. Когда дразнящий запах лапшички достигает сознания Егорки, он кладет книгу рядом с собой на диван, охотно принимаясь за первое блюдо тетушкиной трапезы.
Тетушка тоже усаживается за стол, наливает себе чайку. Сделав первый глоток и поставив чашку на блюдце, долго смотрит в окно, потом произносит в задумчивости свое вечно-скрипучее:
– Да… Ну что же…
Это начало повести временных лет, повести о начале начал. Голос у тетушки хрипловатый, со сказочной трещинкой. Время замедляется, останавливается, а потом начинает течь вспять. Прошлое оживает, обретая плоть и кровь, горячо пульсируя здесь и сейчас. Прошлое становится гораздо более настоящим, чем самоё настоящее. Из Егоркиной головы выметаются как ненужный мусор все злобы дня – безнадега прокуренных подъездов, страдания из-за девчонок, тревожные думы о грозно надвигающемся будущем. Егорка впадает в благостное состояние полусна-полуяви, перемещаясь в другие измерения, где возможны любые метаморфозы духа и тела, любые перемещения в пространстве и во времени…
Feuer! Feuer! Feuer!
…Да… Ну что же… Часы с боем остались в отчем доме, а здесь только этот пузатый, пустоголовый будильник. Стоит на тумбочке возле кровати. Эдакий толстячок, тикающий безобидно – спи, мол, моя дорогая хозяюшка, спи…
Не спится. Эта августовская ночь давно забралась в комнату черной бездомной кошкой, а сон все не приходит. Мысли – одна за другой, как в бесконечном железнодорожном составе – вагончик за вагончиком, та-дам, та-дам… та-дам, та-дам… А ты стоишь возле полотна и считаешь, и не способна остановиться в счете… Вагон за вагоном, год за годом. В зеркало на себя уже смотреть тошно.
Егорка зовет тетя Зина. Ну да, тетя и есть. Сестра отца. Но какая я тетя? Старуха. Бабушка. Волосы белые, нос вороньим клювом, а ведь была когда-то копна золотистых, вьющихся волос, и носик – веселой кнопочкой, и озорные глазки. Родилась в год, когда началась война – не эта, последняя, победная, а та – давно забытая, безнадежно проигранная. Родилась, жила-была, росла – выросла. И теперь вместо дюймовочки с озорными глазками – старая карга с колючими очами. Девочка стала старухой. Глаза смотрят пристально – совсем как у старенькой мамы на той маленькой фотографии, для паспорта. Пора вливаться в ряды суетливых старушонок в продуктовых очередях, начинать перемывать косточки соседям, сидя на скамейке возле подъезда… Увы, характер не тот. Из-за характера и одна. «Как была гордячкой, так и осталась…». Да, ну что же… Так сложилась жизнь. Столько всего пережито, пройдено, а каждый новый день все еще как будто с чистого листа. Утром посветлеет в комнате, заглянет солнышко в окно – и сразу радость на душе детская, будто бы все еще манит куда-то, обещает что-то хорошее удивительное будущее.
Будущее? Где ты? Ау! Будущее осталось в прошлом. В таком любезном сердцу и таком непостижимо далеком, когда забиралась вечером на высокую родительскую постель, украшенную медными шариками, втираясь между папой и мамой, и чувствовала, как жесткая папина ладонь гладит по спинке, а ты засыпаешь сладким сном, как у Христа за пазухой… В родном доме, в теплой постели. Господи, почему все так мимолетно и так непрочно? Век человеческий проходит, как утренняя роса на траве высыхает… и даже быстрее. Жизнь вспоминается как мираж. Иногда – как страшноватый сон. Златокудрая малышка, носик кнопочкой, еще нет и четырех, прижалась к маме, уткнулась личиком в живот, глаза испуганные как у мышонка, попавшего в ловушку. Страшно ведь сидеть на дне этой ямы. Страшно и тесно – как в могиле. Выбраться бы поскорей отсюда, вернуться в теплый родной дом, уютно скрипящий половицами, но нельзя – там, наверху случилась большая беда. Там грохочет адский оркестр – революция, а с ней и война докатились до порога родного дома. Тяжкий дробный перестук пулеметов то и дело перебивает винтовочный треск, слышен змеиный посвист шальных пуль. Время от времени громогласно вступает пушечная секция, предваряя нарастающий злобный вой и чудовищной силы удары, от которых сотрясается земля и осыпаются стенки ямы… Будто бьет молотом по городу как по наковальне разгневанный на людей небесный кузнец, каждым ударом высекая новые искры, поднимая новые пожары. Изо всех укрывшихся в яме спокоен один дядя Василий. Знай себе – варит кашу на костерке. Костерок наверху, возле ямы. Ведь кушать хочется и в войну, и в революцию. То и дело высовывается и помешивает ложкой в котелке, чтобы каша не подгорела. А малышка прижимается к маме еще крепче. Пусть прилетают огнедышащие драконы и по-змеиному зло свистят железные осы – с мамой не страшно…
– Feuer!
Замковые части орудий по очереди дергаются, выплевывая большие раскаленные гильзы. Снаряды уходят по дуге вниз, на другой берег русской реки с малопонятным названием Kotorosl, и через долю секунды взметаются новыми языками огня, хватая из воздуха мечущихся в панике, окончательно спятивших от огня и черного дыма птиц.
Расчет знает дело – за плечами война. Казалось, что за плечами, ан – снова перед тобой. Неохота умирать в этой русской глуши. Душа тоскует по Vaterland. Следует признать, – красив был русский городок, уютен. Город-сад, белый от обилия церквей. Богомольем город взял, говорите? Не взял. Расцветает белый богомольный край новыми цветами – алыми да черными.
– Feuer! Feuer!
Девочка сидит на дне ямы, выкопанной папой, а ее прекрасный город почернел дымами, покраснел пожарами, переливается всеми цветами смерти – гибнет. Скоро от белого города останется пепелище, только трубы печные торчат – черные, обугленные. Заканчивается большая война – мировая. Начинается новая – местная, русская. Такая же безжалостная, но с привычной русской придурью – с матерком и пьяной гульбой. Веселая, разноцветная, поначалу похожая на нелепую игрушечную, в солдатиков и матросиков – белые, красные, зеленые, серо-буро-малиновые… А потом – с каждым днем все яснее и яснее – обыкновенная, черно-белая, со зловещим кровавым отсветом… и совсем не игрушечная. Но без немцев и на русской войне не обошлось. Отличные вояки – храбрые, дисциплинированные, умелые. Действуют по военной науке: разбили центр города на сектора и методично обрабатывают квадрат за квадратом.
Там, в центре – восставшие. Объявили себя в состоянии войны с Германией. На них красные прут со всех сторон как черти, а они с Vaterland собрались воевать! Mein Gott, как малые дети! Большинство из них и есть дети –пятнадцатилетние мальчишки – гимназисты, студентики в фуражках с кокардами. Ладони белые, лица и пальцы – тонкие. Взрослые попрятались по домам и подвалам, а у юнцов романтика в головах бродит – спасем Россию! Глупые, глупые, глупые дети! Спасти Россию – дело совершенно невозможное!
– Feuer! Feuer! Feuer!
Драконы ее не заметят, железные осы не укусят. Главное – глаз не открывать и не отрываться от мамы. Вот рискнула один раз. Мама забылась в тревожном забытьи, задремал папа, старшие братики забылись у него под боком, как щенята-переростки… Наверху как будто поутихло. И разыгралось любопытство – забралась по лесенке, выглянула – бегут по полю диковинные люди с пылающими факелами, вокруг голов – будто белые полотенца обмотаны. Спустилась обратно, на дно, приткнулась к маме, зажмурилась еще крепче. Опять стало любопытно, как будто недосмотрела что-то. Рискнула открыть глаза еще раз и увидела дядю-кашевара с изменившимся, вдруг обездвиженным лицом. В его голове образовалась дырка, из дырки вытекает, пульсируя, темно-красная струйка, и лицо – бледнеющее, восковеющее, как у куклы…
Мало было уцелеть в той спасительной яме, выкопанной отцом возле дома, – надо было потом провалиться еще в одну – зловонную. Пепелища вместо домов, обгоревшие печи, торчащие из земли как гнилые зубы старухи-земли. Выгребные ямы как западни. Как их разгадаешь в свои четыре годика? Никак. Шла-шла по широкому пепелищу, напевала что-то себе под нос, лялякала… Да и ухнула в зловонную яму как в топь – с головой. Помощь пришла свыше – вытащил отец, за шкирку. Принес домой, сунул матери как новорожденного кутенка – на, отмывай… Матери еще одна забота, а и так ведь дом сгорел, у родни живем, все не свое… Дальше – больше – тиф. Смертельно бледное лицо отца – его выносят из дома на матрасе. Но отец выкарабкался. И новый дом построил на прежнем месте. И еще двух младших братцев подарил – Павлика и Сережу. Выросли, озорники, завели семьи, делят теперь отцовский дом на двоих, живут мирно, а в те времена…
Сережа был теленочек. В семье его так и звали – теля. Хвостиком бегал за Павликом. Старший любил подшутить над младшеньким – прикидывался, что умер. Ляжет на диван, глаза закроет и не шелохнется. Сережа подходит и треплет за плечо – сначала тихо, потом все сильнее и отчаяннее, до слез – брат умер! В самый трагический момент брат милостиво воскресает и говорит весело «Не хнычь! Чего ты?». Сережа вытирает слезы, пытаясь улыбаться. Став подростком, Павлик шутил злее, иногда с перехлестом. Возраст такой, что почти у всех мальчишек с головой не в порядке. Однажды пришлось запереть в чулане. Отец очень рассердился, – мол, к тюрьме приучаю. А что оставалось? Я полы мою тряпкой, внаклонку, а Павлик – прыг через меня, как через чурбан какой-нибудь… Тогда злилась, кипела, а сейчас сердце щемит, ведь это и было счастье – папа, мама, братья…
Счастья, Господи, так хочется счастья! Чтобы снова – молодость, институт… Притихшая военная Москва, зимняя стужа на улице, валенки на ногах.. Нелепые красные калоши, присланные из дома отцом с оказией… И чтобы громыхающий по пустынным улицам трамвай, гулкие студенческие аудитории… Или пусть даже после войны и института – тайга, партия. Наматываем километры по бесконечному лесу, смертельная усталость в натруженных ноженьках, жажда мучает, и вдруг – бревенчатый забор, высокий и глухой. Откуда? Как в сказке. Стучишь-стучишь… Наконец, осторожно приоткрывают ворота. Попросишь вынести воды – вынесут. Но плошку тут же выкинут – грех после никонианцев нечестивых посудой пользоваться. Старообрядцы. Да, ну что же…
А сколько километров пройдено в партиях – не сосчитать. Вот под старость ноги-то и болят. И чем дальше, тем больше будут вылезать болячки, о которых в молодости даже не помышляешь, как оно к старости аукнется… Пусть болят ноги. Зато обе целы. А говорили – гангрена, ампутация. Мол, выбирай – или жива на одной ноге, или с обеими – в могилу. Калека одноногая – мыслимо ли?! Нет уж. Господь произвел о двух ногах, о двух и в могилу лягу, так и сказала врачам. То ли с диагнозом ошиблись, то ли выбор правильный вылечил – кто знает… Радости в больных ногах мало, но все-таки они есть, обе целы. Одна радость теперь – племянники. Болеют часто – то краснуха, то воспаление легких. Вот и вчера, слышно, в больницу увезли Егорку. Невестка запаниковала, вызвала скорую … Может, и зря, дети без болезни не вырастают – так говаривал отец. И был прав. А может и не зря…. Материнскому сердцу видней…. Да… Ну что же… Детские лица… Они начинают сменять друг друга солнечным калейдоскопом… Это хороший знак… Приходит долгожданный, освободительный сон…
…
Квадрат вышел в прихожую, увидел свою куртку.
– Тупари, бл… – принялся вопить Квадрат, перемежая вопли дробным, нервным смехом. – Куртка под самым носом у них висела, … рот! Вот козлы!
Квадрат вернулся в залу, взглядом ища поддержки у Егорки. Тот молча кивнул в ответ.
– Ну и тупари! – продолжал вопить недавно выползший из-под кровати, продолжая заискивающе поглядывать на Егорку. – Козлы…
«Зачем он сейчас-то шестерит?» – с внезапной неприязнью подумал Егорка. И тут же ему вспомнились их храбрые песнопения, и как потом в один момент храбрец превратился в подкроватного краба. И как у самого Егорки сердце провалилось до пяток, а ноги приросли к полу. Чувство стыда было настолько острым, что у Егорки заныло под сердцем, на секунду перехватило дыхание, он даже прикрыл глаза.
Квадрат еще пошатался немного по дому, с осторожностью выглядывая то из одного окна, то из другого, а потом свалил, не попрощавшись. Егорка с облегчением выдохнул – отвяжись, дурная жизнь, привяжись хорошая…
Праздник и его хозяйка
… Совушка – хорошая, хотя и важничает. Пёрышки сияют алмазным блеском, круглые глазки смотрят пристально и как будто равнодушно, но это притворство. На самом деле она по-хозяйски присматривает за всеми, ведь именно она – хозяйка праздника, каждый новый год. Вот-вот приоткроет клюв и скажет глубоким грудным голосом фрекен Бок:
– Я, знаете ли, не чета той телевизионно-мультипликационной простофиле в очках, хоть мы и одного роду-племени. Безвкусно быть болтливой и шепелявой одновременно. Недостойно мудрой птицы водить компанию с безмозглым осликом, глуповатым медвежонком и простодушным поросенком. Сова должна быть всему хозяйкой. Сидеть на лапке новогодней елки и присматривать за приготовлениями к празднику. Чем мы, собственно, и заняты…
– Вообще-то, на вашем месте я бы не очень зазнавался, – деликатно возражает зазнайке Егорка. – Ведь это я подвесил вас на елочку на тонкой ниточке…
На ниточке мы висим или нет – неважно, будьте уверены – все видим и подмечаем. Хозяин дома – средних лет, высокий, с интеллигентными глубокими залысинами. Серые глаза смотрят из-под оправы роговых очков внимательно и спокойно. Его жена – кареглазая, бойкая, красивая. Сынишка – в отца, сероглазый. Колдует возле елки – откусывает ниточки, развешивает игрушки. Как же он кричал первые три месяца! Совушка помнит, хотя с той поры уже встретили девять новых годов, – она лежала в коробке вместе со всеми елочными игрушками. Так аж игрушки позванивали, шифоньер дрожал всем телом. Да что там игрушки, шифоньер – дом дрожал. У самой молодой мамы однажды нервы не выдержали – кинула орущий кулек на подушки, выбежала из темной детской комнаты. Но тут же вернулась. Снова взяла малыша на ручки и качала, укачивала, напевая:
– Баю-баюшки баю… Не ложися на краю… Придет серенький волчок… И укусит за бочок…
Но все обошлось. И вот он – сероглазый маленький принц, жив и здоровехонек. Фланелевая рубашонка застегнута на все пуговицы, поверх рубашонки свитерок – в доме прохладно. На окнах – сказочный лес морозных узоров.
Егорка сидит за дубовым столом в центре залы, привычно подсунув левую ногу стопой под попу. Он частенько так сидит – ему так удобно почему-то. Возможно, в этой же позе он когда-то лежал в животе у мамы, перед своим рождением. Но Егорка никогда об этом не задумывался – просто ему так хорошо сидится и работается. Сегодня он колдует над новогодними игрушками. Готовит ниточки для серебристых сосулек, свитых в спиральки, для заснеженного сказочного домика, для одноглазого малинового шара. Космонавту нитка не нужна, у него прищепочка. На столе дожидаются своего часа бенгальские огни в синей бумажной упаковке и толстенькие колбаски пушек-хлопушек с мышиными хвостиками.
Едва пробьет двенадцать, папа, мама и Егорка выйдут из дома, во дворик. И огни из таинственной Бенгалии снова загорятся напополам с едким дымком, высекая в душах иррациональные искры глуповатого новогоднего восторга. Искрящиеся огоньки будут взлетать в небо, а после вонзаться с коротким раскаленным шипением в сугробы, гаснуть. Но веселье продолжится – пришло время пушек-хлопушек. Бабах! И еще раз – бабах! Трах-тибидох-тах-тах! Разноцветное конфетти рассыпается по голубому новогоднему снегу…
Но это будет после полуночи, а пока – на диване прилег на бок весомый пакет из плотного, новенького целлофана – новогодний подарок тетушки. Это она с виду такая коровница строгая – высокая, неулыбчивая, нос как вороний клюв. Балует, добрая душа, племянника, олуха царя небесного. Каждый новый год приносит этот волшебный дар, битком набитый невиданными богатствами. Шоколадные конфеты «Маска». Веселые, зимние, пахнущие морозцем и хрустящим снегом мандаринки. Сочный, солнечный, ароматный апельсин. Огромное красное сладкое яблоко. Крупняк грецких орехов, мелочь фундука. Ириски «Золотой ключик», шоколадка «Аленка»… И как все это поместилось в одном пакете? Откуда такая роскошь? Не иначе она – волшебница, добрая фея, может превратить обыкновенную тыкву в золотую карету…
Дед Мороз в стареньком ватном кафтане уже стоит под елкой, укрылся под нижними ветками. Клок ваты торчит из полы. Полустертые голубые глаза и старческий румянец на лице.
Ну скажите, кому и какое такое счастье способен принести сей немощный старичок? В его способность творить чудеса даже Егорке не очень-то верится. А старичок снова и снова приходит под новогоднюю елку и смирно стоит на своем посту, глядя на всех добрыми, подслеповатыми глазами… И снова – серебряный дождь стекает вниз, от самой верхушки елки к нижним раскинувшимся веткам… И снова развешаны под потолком гирлянды, вырезанные из листов цветной бумаги. Еще вчера цветные листы лежали аккуратной стопочкой, перемежая все необходимые для сотворения мира цвета: насыщенно синий – для неба, лимонно-желтый – для солнечных лучей, жизнестойкий зеленый – для остролистой травы, уверенно-коричневый – для земли, радостный ярко-красный – тюльпанам и макам…
Из года в год – эти бумажные гирлянды под потолком, от стены до стены… Эти снежинки, вырезанные из салфеток…. Гордая бутылка советского полусладкого, веселая – «Буратино», извечный салат оливье… В каждом доме, по всей округе, в какое окошко ни загляни – самодельные снежинки, покрашенные гуашью лампочки в гирляндах, никчемный старичок под елкой, на верхушке елки – звездочка из тонких стеклянных трубок, выкрашенных в красный. Убогий антураж! Но есть в этих людях что-то трогательное, какая-то наивная вера в лучшее будущее – своё и страны. Откуда она?! Просто это их время.
Глава 2
Егорка опустил железный крюк, запер входную дверь, прислушался – тихо. И на половине дяди Павлика тоже. Подумал о том, что здесь, в этих стенах, под этой железной крышей, ему сам черт с рогами не страшен, куда там Свищу. Однако захотелось вымыть руки и лицо – с мылом. Егорка поднялся по скрипучим ступенькам сеней, вошел в прихожую и шагнул к умывальнику, тщательно умылся. Свежий запах зубного порошка из открытой круглой коробочки напомнил, как малышом карабкался на высоченную кухонную табуретку…
Сладкие сны
… Умывальник на кухне похож на железного дровосека из сказки – такой же дылда и голова ведерком, с клювиком. Чтобы дотянуться до клювика, нужно потрудиться. Это папе табуретка – пустяк. И маме. А как быть тому, кто мал ростом – ненамного повыше самой табуретки? Эх, всю жизнь, наверное, придется таскать эдакую тяжесть. Ладно, хватит ныть, пора за дело приниматься – забирайся на высокогорное табуретное плато. В круглой коробочке – горкой зубной порошок. Пахнет вкусно. И в носу щекочет. Немного смочить щеточку под клювиком дровосека, макнуть аккуратно в порошок, прополоскать рот и старательно драить зубы. Затем сполоснуть лицо – разок, другой. Закончили водные процедуры, буксируем табуретку на место – к кухонному столу. Во рту – приятный привкус мяты. Пора отправляться в чистую постель – спать, видеть сны.
Спать сладко. Сначала в голове начинает мелькать веселый непредсказуемый калейдоскоп – первый хрупкий ледок на лужах с пузырьками воздуха… воздушные одуванчики. Сквозь их пушистые, круглые от удивления головы вдруг проявляется, радостно смеясь, яркое утреннее солнышко, льется пенье летних пичужек – синичек, щеглов и зарянок. Проплывают улыбчивые личики девчонок из детского садика. Носики-кнопочки. Сестрички-косички. Ясные ласковые глазки. Потом, без ощутимого перехода, вдруг начинается подъем. По мере набора высоты зрение обостряется – видишь рассыпанные детскими кубиками домишки, разгадываешь замысловатые узоры дорог, подмечаешь орлиным взором телеги с лошадьми, неспешно катящиеся по сельским кривобоким дорогам и блестящие автомобили, мчащиеся по гладким шоссе. Даже муравьиные фигурки пешеходов на улицах городов и жучки коров на полях – и те можешь рассмотреть до пятнышка на лбу. И когда успеваешь разглядеть? Ведь несешься над миром как стремительная торпеда – то приближаясь к поверхности земли, пролетая по-над лесами, вдоль высоковольтных проводов и мелких, извилистых речушек с темными бочагами, то поднимаясь под облака. Неуемная подъемная тяга в руках зовет тебя забираться еще выше, но приходится сдерживать себя. Ведь подниматься слишком высоко – опасное дело. Время от времени обязательно нужно спускаться на землю, давая отдых крылам. Но время коварно и неумолимо – наступает момент, когда должно отпустить себя. Становится все выше и все страшней, но и не только – страшней, но и – радостней одновременно.
Так и пролетаешь всю недолгую летнюю ночь. А утром солнышко, неслышно смеясь, заиграет на ресницах драгоценными огоньками. Где я? Откуда этот радостный холодок в груди? Что за дали невиданные обещает? Отчего сердце ликует, бьется в груди веселым воробышком? Будто бы с этого солнечного утра, с этой самой, солнечной секунды начинается новая жизнь – настоящая. Прежняя жизнь уже похожа на сны, которые быстро забываются, едва поднимешься утром с постели. Неясные образы как латухи, вырвавшиеся из рук и уходящие все дальше в небо – они все менее ясны, все больше теряются в светлых глубинах, но кое-что еще можно разглядеть…
А вот покачиваясь и помогая себе цепкими руками, которые сами хватаются сначала за воздух, а потом – за углы комода, громадного как дом, мы топаем в сторону света и вкусных запахов. Мир штормит, пол как палуба корабля качается под нами, но мы упорно топаем вперед. Дотопали до дверного проема, заглядываем – далеко-далеко, в самом конце наполненного солнечным светом тоннеля силуэт любимой великанши, и мы взываем к ней, лопоча почти без пауз «ма-ма-дай-ми-чаю-слатого-и-хебим-мастим». Великанша волшебным вихрем преодолевая пространства, подхватывает нас на руки и усаживает к себе. Здесь, на плато маминых теплых колен, самое время заняться бутербродом со сладким сливочным маслом, запивая лакомство сладким чайком.
А вот нас будят среди ночи и ставят сонного на ноги. Стоим с полузакрытыми глазами, покачиваясь и зевая. Тонкая струйка гуляет то влево, то вправо. Мама устала, ее глаза слипаются, но и в таком состоянии она умело ловит нашу струйку желтым железным горшком. А вот – мама устала запредельно, и спит крепко. И тогда с теплым и ласковым миром происходит что-то неладное. Сначала под нами растекается горячая лужица. А потом становится холодно и мокро, а главное – пусто и одиноко. Мы недовольно покряхтели, поворочались – ноль внимания. Мы заплакали – мир молчит. Заревели как иерихонская труба! Глухо. Мокро. Противно. И, наконец, подтопленная с правого бока, мама вскакивает, включает резкий свет и, сердито ворча, меняет простынь. И Мир снова становится сухим, теплым и ласковым. Мир становится Мамой.
А вот – орущая пасть крупного, лобастого мальчишки. Кровь течет из-под его шапки-ушанки. Ревущую черную дыру рта мучительно хочется чем-нибудь заткнуть, но нечем и незачем – все самое худшее уже произошло. Уже прибежала растерянная богиня. Это воспитательница. У нее блестящие карие глаза, мягкая озорная улыбка и темные, с длинными локонами волосы. Вообще-то, мы уже умеем сами зашнуровывать ботиночки, но каждый раз перед прогулкой просим помочь нашу богиню. И она присаживается возле Егорки. В первый момент красивые шелковые волосы спадают ей на лицо, а потом она вдруг отбрасывает их одним движением и смотрит на Егорку снизу вверх – ласково и чуточку озорно. Она догадывается, что нравится малышу. Но сейчас Егоркина богиня, выбежавшая на мороз с непокрытой головой, замирает, с ужасом и болью глядя на Егорку и орущего лобастого. Егорка растерянно молчит, опустив руки. Лобастый ревет как раненый тюлень. Капли крови на снегу… Дети окружили и дружно галдят, так что в первые мгновенья невозможно понять, что именно произошло. Неужели это сделал он – ее сероглазый маленький принц, с оттопыренными мягкими ушками и мечтательной улыбкой? Сам Егорка на расспросы не реагирует, молчит. Никому никогда не расскажет, что мерзкий здоровяк получил за то, что обижал слабого, что от одного вида насилия и несправедливости вдруг потемнело в глазах. И все видится, видится искаженное страхом и болью лицо обидчика, по которому со лба стекает первая кровь. И память души все прокручивает, как гнев вызывает затмение разума, темнота сменяется ярким светом и ледяным ужасом от содеянного, а потом – жалостью к тому, кто только что вызывал страх и ненависть. Вот эту адскую смесь ненависти, ужаса и жалости, впервые образовавшуюся в душе, мы и изучаем, снова и снова прокручивая, заново переживая случившееся. А папа помогает пережить первый душевный ад – тем, что не слишком настойчив в расспросах, просто идет рядом и держит в своей широкой, теплой и надежной ладони маленькую ладонь сынишки…
…
Егорка вымыл руки, ополоснул лицо, насухо вытерся чистым полотняным полотенчиком и прошел в комнату отца. Сел за его письменный стол, по детской привычке подогнув одну ногу под себя. Вежливо отодвинул на край стола пластмассового витязя в тигровой шкуре – подставка для блокнота и автоматической шариковой ручки. Вытащил сам блокнот, коротко полистал, – все листочки божественно чисты. Обложка из пластика наполовину белая, наполовину ржаво-рыжая, состарилась.
Весь дом как-то разом состарился, когда рядом выросла эта новенькая девятиэтажка. Обветшал, уменьшился в размерах, рискуя в скором времени окончательно превратиться в сказочную тыкву, непригодную для жилья. Лошади – те давно уже обратились в крыс и поселились в подвале, в дальнем сыром углу, рядом со ржавеющими плугом и бороной. В детстве, когда Егорка спускался по заданию мамы в подпол за картошкой, он всегда прихватывал с собой железный фонарик и забирался в дальние уголки подвала. Желтый батареечный свет выхватывал из тьмы крутые бока и острые зубья дедовского крестьянского антиквариата. Егорка же чувствовал себя водолазом, опустившимся на большую глубину, осматривающим корпус затонувшего корабля с огромными винтами, покрытыми водорослями и ракушками. Озябнув – в подполе даже летом бывало прохладно, Егорка набирал полное ведро картошки и возвращался наверх, в теплый и светлый дом.
Два строгих портрета, херувим и закон Божий
… Обстановка в доме – его естественное внутреннее устройство, неизменяемое как у любого живого организма. Ведь нельзя же у живого человека поменять местами сердце и легкие, печень и селезенку? Зала – самая просторная комната на этой половине дома. Именно – зала. Как будто Егоркин дом – царский дворец. Убранство залы – скромняга книжный шкафчик… Самодовольный тип шифоньер… Круглый столик – уродец на тонких кривых ножках… Смешная коротконожка тумба, на ней телевизор, в ней – папины журналы «Здоровье» и «Наука и жизнь»… Между уродцем и тумбой – кокетливое трюмо на тонких фигурных ножках, серебряное зеркало изъедено временем, почернело по краям. На противоположной стороне залы – обжора комод, битком набитый чистым постельным бельем…
За комодом живет деревянная хромоногая лошадка о трех колесиках. Одно колесико давно отвалилось и потерялось. Наверное, от этого у лошадки бывает немного грустный взгляд, и она редко выбирается из своего угла, чтобы покатать Егорку. Под круглым столом-кривоножкой надежно укрыт большой короб со всякой всячиной – деревянными кубиками, железными машинками, бронзовыми солдатиками. Еще одна важная задача кривоножки – раз в год быть постаментом для новогодней елки и игрушечного Деда Мороза. В центре залы воцарился второй стол, полная противоположность первого, – квадратный, на толстых надежных ножищах. Он похож на столетнюю черепаху, втянувшую голову в дубовый панцирь. Под ним можно укрыться ото всех невзгод, если напроказничаешь или просто станет грустно. Еще за этим столом Егорка рисует. Больше всех места в зале занимает диван с валиками – Егорка любит забираться на его широкое, уютно продавленное кое-где ложе как на спину кита или доброго бегемота. На стене над диваном – два строгих портрета, мужской и женский. Это Егоркины дедушка и бабушка.
Маленький Егорка уверен, что дедушка и бабушка всегда существовали вот так – портретно, бесплотно. Почти так же бесплотно, как и та божественно прекрасная тетя, с печальным младенцем на руках, чье изображение в серебряной оправе висит в папиной комнате. И вряд ли Егорка поверит, если ему кто-то скажет, будто его бабушка когда-то была обыкновенной тихой девчушкой Аней, а его дедушка – обыкновенным бойким мальчишкой Мишей. Это было слишком невероятно, чтобы в это смог бы поверить Егорка. Но это было именно так.
Тот далекий и свершено невероятный Миша был всего тремя годами младше другого русского мальчишки, во младенчестве похожего на кудрявого рождественского херувима. Тот херувим очаровательно грассировал, а в остальном мало отличался от большинства мальчиков своего возраста. Со временем кудрявый грассирующий мальчик превратился во вдохновенного юношу с ангельским ликом. Этот юноша выделялся отменными способностями, великолепной памятью, благодаря чему имел успех в обществе и большие перспективы на поприще юриспруденции. Вот тогда-то и пришло умопомрачительное известие о случившемся великом несчастии – в столичной крепости по высочайшему повелению казнён старший любимый брат.
Семья вдруг оказалась в полном отчуждении от общества – даже старичок-почтальон, старинный друг семьи и большой любитель поиграть в шахматы, перестал бывать по вечерам. Ангел стал изгоем, камнем пал с высоких небес на низменную землю. И старший повешенный брат навсегда застыл перед его взором как живой. И огонь любви жег нежное сердце все сильнее и нестерпимей, неумолимо перерождаясь в огонь ненависти ко всему сущему, перевоплощая ангельскую сущность в ее противоположность. Наконец, огненная лава любви остыла, окаменела и превратила когда-то живое любящее сердце в холодный мрамор надгробия, а самого рождественского ангела из плоти и крови – в кладбищенского херувимчика из потемневшего от времени гипса с облупленной краской.
«Мы пойдем дгугим путем» – с легкой трещинкой в голосе отчеканил грассирующий кладбищенский ангел. И отправился проповедовать человечеству новую зарю, сулить трудовому народу эру всеобщего счастья, равенства и братства. В том случае, конечно, если трудовой народ поверит голосу на слово и будет делать то, что ему велят, не жалея живота своего. В самом деле, товарищ, – хватит горбатиться попусту – строить дом, растить детей, гнить в окопах. Родину защищаешь, солдат? Государя?! Где ты видишь Родину, товарищ? Присмотрись внимательно и увидишь вместо нее расплодившихся господ-паразитов, главный из которых – кто? Правильно – царь-батюшка. Самодержец вовсе не такой добренький, как тебе, товарищ, кажется, – именно он виноват в том, что ты сидишь в окопе и кормишь вшей, вместо того, чтобы работать на своей земле, трудиться на собственном заводе. Ты сам подумай, ну зачем тебе эта постылая война?
Опостылела война – это верно, в самое яблочко. Боже мой, как опостылела война! Топчемся на одном месте – то германец нас, то мы германца. И сколько же нашего брата полегло, даже не добежав до колючей проволоки! Без счета. А кто смог добежать, то и дело – хвать, опять колючая проволока цела! Беги обратно под пулями, так и не добравшись до германского окопа… Снова артиллерия подвела. Или генералы-предатели? Прохаживался тут один вдоль линии фронта с инспекцией. Солдаты голову боятся из окопа высунуть – снайперы работают. А он в полный рост расхаживает, да все напротив разрывов в нашей заградительной проволочной полосе останавливается, достает шелковый генеральский платок и сморкается. На следующий день германец идет в наступление, да все точнехонько через те места, где проволоки нет. И опять поползли по фронту слухи о Распутине и предательстве в окружении императора, прогерманских настроениях царского двора. Или это только слухи? Поди – разберись, правда или нет, но они будоражат истомившиеся на войне солдатские головы. И с офицерами стало попроще – старых служак повыбивало давно, а новые настроены либерально, многие из студентов, образованные, морды не бьют, собраниям не мешают. А тут еще эти агитаторы объявились, сладкую жизнь обещают и светлое будущее.
Слушает солдат сладкие сказки, курит добрую самокрутку, а воображение услужливо рисует волшебные картинки, одна волшебнее другой. Как приходишь домой сотоварищи, выгоняешь хозяина из его господского дома с колоннами, и сам поселяешься хозяином, на кровати с балдахином. Красота! А потом приходишь на завод, прогоняешь заводчика и сам становишься заводчиком – еще краше! И вот уже пошел солдатский гул по-над окопами – зачем воевать? За что? Пора, брат-солдат, разворачивать штыки и наведаться в гости к богатеям, фабрикантам и помещикам. Вскоре и по фронтовым тылам шелест пошел. Внимают сладкому голосу с трещинкой кружковцы, качая тугодумными головами, гудят рабочими басами. Поначалу многие сомневаются. Государь – примерный семьянин, четверо дочерей – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Сынишка в матроске, Алексей. И чем он уж так виноват перед народом? Да и касательно господ… Господин господину рознь, как и рабочий – рабочему. Попадаются господа – сволочи и форменные кровопийцы, но много и таких, кто заботится о рабочем классе – скотные дворы при мануфактурах держат, чтобы у рабочих всегда к столу были свежее мясо и молоко, помощь врачебную оказывают бесплатно. Но голос с трещинкой сладок, он умеет убеждать даже самых недоверчивых. Ах, при новом строе все будет бесплатно? И мясо, и молоко, и образование, и врачебная помощь? Не может быть! Или все-таки – может? Хм… Царь и правда какой-то слабовольный, не хватает ему сильной государственной руки. Да и среди господ многовато дармоедов. А работяга – он, даже если лентяй, пьяница и форменная сволочь, то … все-таки какая-то симпатичная сволочь, свойская. Да и не виноват он, что сволочь, – жизнь виновата тяжелая, несправедливая. По всему видно – пришла пора новую зарю разжигать, для всего человечества. Чтобы из края в край заря – широко, весело – как масленица с вселенского размаха кровопусканием. От одного сердца к другому передается зловещий огонек, и уже многие и многие дышат ядовитыми парами светлого будущего, загорелся в сердце синий угарный огонек ненависти ко всему сущему. И уже скоро, совсем скоро благодаря очаровательному цветку любви к старшему брату пожар мировой войны перекинется вглубь страны и займется всеобщее братоубийственное пожарище …
Миша тоже отличался большими способностями, и в числе прочего – отменной памятью. Батюшка на уроке священного писания, когда очередной недоросль начинал мямлить невыученный урок, случалось, не выдерживал, поднимал лучшего ученика:
– Воронцов! Напомни этому дураку Закон Божий…
«…Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство…»
Но семья жила бедно, и учебу пришлось оставить. На первых порах устроился в торговую лавку. Отец напутствовал сурово: украдешь копейку – прибью. И то ли напутствие сработало, то ли врожденное трудолюбие и честность, но работал по совести, заслужил доверие хозяина лавки и когда подрос, остепенился – стал приказчиком. Будущую жену – купеческую дочь Аню, красавицу и тихоню, присмотрел в церкви, на службе. Пришло время – женился, купил землю, поставил дом с красной крышей. Жили размеренно, кормились крестьянским трудом. Бывший мальчик на побегушках стал взрослым, сильным мужчиной – одной рукой легко вскидывал на плечо двухпудовый мешок с картошкой. Работал с раннего утра до позднего вечера, а когда появляется первый урожай, каждый день – на Сенную. На выручку от проданного с огорода покупал все, что нужно к столу, раз в неделю – большой кус мяса. Заворачивал его в чистый лист лопуха и нёс жене – щи варить, деток кормить.
Тихоня Аня сменила белое девичье платье на плотный темно-малиновый жакет с воротником, до подбородка закрывающим шею. Дети по молодости рождались каждые год-два, но вырастали не все – Катинька вот умерла совсем маленькой, заболела золотухой. Петя ушел пятнадцатилетним – надуло в голову, когда ночевал в голубятне, сторожил свое голубиное хозяйство от соседских мальчишек. Бог дал, Бог взял. Каждую утрату Анна переносила тяжело, но стойко, почти незаметно для посторонних глаз. Только взгляд становился все строже, а губы – полные и алые – все больше вытягивались в жесткую, тонкую, почти бескровную, линию.
По воскресеньям утром всей семьей ходили в церковь, а вечером глава семейства отправлялся в чайную – посидеть за чашкой чайку, перевести дух перед новой рабочей неделей. За соседними столиками между студентами часто случались оживленные споры о грядущей революции, с приходом которой наступят столь чаемые просвещенной частью русского общества свобода, равенство и братство. Мужики не вмешивались в такие разговоры, беседовали о делах личных, хозяйственных и торговых. Но однажды жаркий спор студентов Демидовского выплеснулся через край. Один из мальчишек с азартным любопытством обратился к сидевшим рядом мужикам, желая услышать глас народа:
– Господа, как вы относитесь к революции?
Господа переглянулись.
– Погодите! Придет… ваша революция – по-другому запоете, – ответил за всех мужиков Михаил Иванович. – Взвоете! Да только поздно будет…
Вопрошавший опешил, замолчали его галдящие сотоварищи – шпик? Агент царской охранки? Нет, ничуть не похож – лицо открытое, взгляд твердый и умный, руки рабочего человека. А! Просто не понимает! Отстал от времени, политически не подкован… И уже в следующую секунду с новым жаром забурлили, заклокотали в головах яростно-прекрасные мысли о свободе, равенстве и братстве, которые, конечно же, невозможны без свержения кровавого государя, восседающего на престоле. Сердца переполнял праведный гнев на этого черного человека в мундире полковника, одиноко и обреченно стоящего на пути к осуществлению давней мечты человечества. В каждой восторженно бурлящей голове, разгоряченной шампанским прекрасного будущего, роились великие мысли о грядущей свободе и ее сладостных, притягательных плодах, о том как прекрасно будет жить на обновленной земле, под новым небом…
Егорка прошел на кухню, поднял люк в полу. Прихватив пустое ведро, спустился по лестнице в темноту подпола. Там он вкрутил в патрон лампочку, загоревшуюся слабеньким желтым светом. Пригнувшись, чтобы не касаться головой свисающей с сырых половиц паутины, зашел в дальний закуток, набрал картошки.
На обратном пути Егорка немного задержался – там, в темных глубинах подпола, покорно ржавели те самые дедовские плуг и борона, когда-то такие таинственно-притягательные. Погасив свет, Егорка поднялся в дом, поставил полное ведро на лавку, а сам вернулся в отцовскую комнатку. Ему нравилось быть здесь, даже когда самого отца не было дома. Папина кровать, аккуратно укрытая тонким шерстяным одеялом, выглядела обыкновенной. Но когда-то она была кораблем дальнего плаванья, а эта шаткая кроватная спинка – капитанским мостиком…
На спинке папиной кровати
… Папа – добрый медведь, комнатка за зелеными шторками – его берлога. Место таинственное, притягательное. В углу под потолком висит на стене потемневшая от времени картина в серебряной оправе. На ней изображен печальный малыш на руках у своей печальной мамы. Оба смотрят то ли в самих себя, то ли в свое грозное будущее. К чему эта печаль, малыш? Жизнь же только же начинается же! Жизнь же – она же нескончаемые солнце, радость, свет, праздник! Эх, малыш…. Грустная картина, в детском садике такой нет.
Письменный стол папы почти свободен. Одна кривобокая старушка-лампа из черного эбонита застыла на краю как бы в нерешительности – стоит ли шагать дальше? И еще пластмассовая подставка для блокнота и ручки, на которой витязь с барсом схватились не на жизнь, а на смерть. За папиным свободным столом хорошо сидеть и смотреть в окно, выходящее в лето. На шустрых синичек, скачущих с ветки на ветку в кроне антоновки. Фьюить-фьюить… На попрыгуний трясогузок. Прыг-скок, прыг-скок по цветочной клумбе. Остановилась попрыгунья, глянула по сторонам и опять – прыг-скок. Или рисовать приблудную кошку – белая, с черным пятном на правом боку. Кошка внимательно смотрит на вышагивающую неподалеку взрослую ворону с огромным хищным клювом. Птица тоже искоса посматривает на соседку. Обе понимают, что слишком велики друг для друга, и благоразумно предпочитают не затевать военных авантюр.
Папа не любит рисовать. Изредка открывает большую тетрадь в твердой обложке, и что-то записывает, поглядывая в окно. Потом ложится поверх постели на свою односпальную кровать и слушает радиоприемник с рыжей антенной из гибкой медной проволоки-пружинки. Или читает свежий номер журнала. О! Папа – большой мастер полежать поверх постели, с журналом или книжкой. Тут можно смело прибегать к нему в гости, становиться на спинку кровати и просить рассказать сказку. Папа никогда не откажет. Сказка сказывается всегда одна и та же – про старого недотепу-волка и трех молодых и расторопных поросят, но действие развивается каждый раз по-новому. Вчера, например, отважный Наф-Наф незаметно выбрался из каменного дома, с черного входа, подкрался к старичку волку и поддал ему копытцем под хвост, а волк заголосил обиженно, на всю Ивановскую:
– Ой-ей-ей-ей-ей! Так нечестно!
Егорка засмеялся, а потом сказал, что папа обманывает.
– Этого не может быть, – авторитетно заявляет Егорка папе. – Волк цапнул бы поросенка за бок. А потом съел.
– Верно, – тут же соглашается папа. – Цапнул бы. И съел. Раздухарившийся Наф-Наф и сам об этом вдруг вспомнил! И страшно испугался, и от страха…
Тут папа взял паузу, сам еще не зная, что такого особенного предпринял Наф-Наф, чтобы спастись. Егорка замер.
– … громогласно пукнул! – придумал папа. – Да так громко, будто из ружья пальнул. Впечатлительный волк и вправду решил, что охотники неподалеку. Трусливо прижав уши к мощному черепу, перепуганный серый позорно убрался восвояси, в свой темный-претемный лес…
Стоять на спинке папиной кровати, как на капитанском мостике, поглаживать ладошками теплую папину лысину, и слушать, слушать, слушать папины бесконечно потешные небылицы про трех поросят и глуповатого волка. Вечер за вечером, век за веком – всю жизнь без остатка и еще целую вечность – плыви мой домашний корабль, только вперед! Никогда не надоест стоять на спинке папиной кровати…
…
Курильный паучок до поры до времени дремлет, а потом просыпается и начинает царапаться изнутри – сначала едва-едва, а потом все сильнее и сильнее. И пока не накормишь зловредное насекомое сигаретным дымом – не уймется, час от часу паучок будет становиться злей. Когда паучок снова проснулся, Егорка приподнялся из-за стола и прислонился лбом к холодному стеклу, пытаясь понять – дождик все еще моросит или перестал?
На улице как будто посветлело. На голых ветвях антоновки блестели капельки, опавшая листва ивы на клумбе под окном почернела от влаги. Клумба напомнила Егорке о кенаре, когда-то похороненном где-то здесь, под трогательным крестиком из двух щепочек. Крестик почти сразу затерялся, пропал в ярком хоре фиолетово-белых анютиных глазок, красно-желтых маргариток и оранжевых ноготков, в празднике вечного лета…
Волшебный калейдоскоп жизни
… Кенар околел от ливерной колбасы – так считает папа. Егорка же был убежден, что певец умер от одиночества. Посиди-ка один в клетке. Прыг да скок, прыг да скок. С жердочки на жердочку. От одной стенки до второй. Попробуй голос – нет ответа, глохнет. Глухая тишина в доме съедает голос без остатка. Кому петь? Зачем? Где золотокрылая подружка? Где друзья, способные откликнуться, поддержать? Отзовитесь! Не отзываются. Тоска. Что такое кусок ливера, по доброте душевной подброшенный певцу единственным обожателем Егоркой? Жалкая подачка. Настоящий творец на ливерную колбасу не клюнет. Певцу нужна публика, а не ливерная колбаса. Ему нужны райские кущи – такие же, как там, на другой половине дома, у дяди Павлика. Чтобы клеточка на клеточке, чтобы канарейки и кенары в одной веселой шумной компании. Будто на одном большом дереве в общем тропическом лесу под высоким небом, где нет для чистых высоких голосов преград. Бери любые ноты, импровизируй – тебя услышат, подхватят, взлетят вместе с тобой, переплетутся и воспарят в насыщенном музыкальным озоном пространстве. Какие клетки? Где прутья? Нет ни прутьев, ни клеток – есть сцены. Есть аккуратные фигурки артистов в желтых фраках, которые ни на секунду не остаются в позе академических певцов, ежесекундно находясь в жизнерадостном движении. Прыг-скок, прыг-скок. С жердочки на жердочку, друг к подружке – вместе отпили живительной для голоса влаги из стеклянной поилки, и снова – трели и рулады.
На другой половине дома именно так – по-птичьи шумно, сказочно светло и целительно спокойно. А еще там есть домашние океаны с водорослями, меж которых плавают диковинные рыбки. На половину дяди Павлика входишь как в храм – робко, с большим почтением.
– Что, архаровец, чайку?
– А можно я просто посижу, посмотрю?
– Сиди. Смотри.
И вот Егорка сидит и зачарованно смотрит. Как весело блещет стайка сестричек гуппий. Как чинно красуются, прохаживаясь купчихами на ярмарке, золотые рыбки. Как важничают пышнохвостые барбусы. Как деловито ползают по дну аквариума упитанные бухгалтеры-сомики. Миниатюрные пузырьки струятся веселыми дымками к поверхности – так работают специальные моторчики, насыщая воду кислородом. Волшебный калейдоскоп бытия продолжает вращаться неведомой рукой, из разноцветных стеклышек складываются все новые и новые комбинации…
Глава 3
Егорка вышел в сени, поднялся по лестнице, ведущей на чердак, сел на верхнюю ступеньку. Вытащил из укромного местечка заветную пачку Стюардессы. Сладкая болгарочка. После первой же затяжки в голову ударила первая волна кайфа, паучок в груди перестал царапаться и затих. Выдержав небольшую паузу, Егорка затянулся во второй раз, пустил струю ровным ходом и снова вспомнил о недавней катастрофе. Егорка тогда забежал домой чего-нибудь перекусить. Он так торопился поесть и снова смыться на улицу, к дружкам, что выронил ложку на пол. Инстинктивно нагнулся за ложкой и – бац! Пачка Стюардессы предательски выпадает на пол. Егорка так и замер, головой вниз. В левой руке – злополучная ложка, перед ним, на полу – злосчастная пачка «Стюардессы» и… тапки отца, который как раз пришел на кухню и стоял напротив. Егорка осторожно, движением ленивца убрал сигареты во внутренний карман драного уличного пиджачишки, и только после этого разогнулся. Горячая краска стыда от неизбежности полного и немедленного разоблачения заливала лицо до самой макушки.
Отец не курил. Впрочем, однажды, очень давно, не вспомнить даже когда и сколько лет было Егорке, он увидел отца с папироской.
Калина-малина
… Егорка подходил только что с игрушкой – резиновый мишка с дырочкой-кнопочкой на животе. Тот самый мишка, из полузабытого тазика, в котором мать намыливала голову и промывала уши… Пролопотал о чем-то на потешном малышачьем языке, но вскоре отошел – не понравился запах табака.
Завтра утром – глубже дышать… Ды-шать, ды-шать… выгонять из себя табачную нечисть и водочную дурь… У отца, помнится, на случай застолий на подоконнике стоял специальный фикус. Пока гости задирают подбородки и опрокидывают водочку, отец ловко и незаметно выплескивал огненную воду из стопки в горшок. «Что-то наш фикус совсем захирел», – скажет иногда мать, с притворной укоризной покачивая головой… Есть, конечно, своя приятность в этом дурном занятии – опрокинуть стопочку, затянуться беломориной, выдохнуть – струйкой или аккуратными колечками, но… ни к чему это. В армии семь лет смолил…
Эх, махорочка-махорка,
Породнились мы с тобой.
Вдаль глядят дозоры зорко,
Мы готовы в бой…
Как было не смолить в армии? Стоишь на посту – мороз скулы сводит, под тулуп пробирается. Зажег папироску, затянулся – согрелся как будто. И время уже не так тягостно тянется. Два часа отстоял – смена караула. Упал в караулке на лежак, как был – в тулупе, забылся во сне, в обнимку с винтовкой, через два часа снова – подъем и – марш на жгучий мороз. Номер винтовки до сих пор помню… Многое помню. Промозглый ноябрь и собранный мамой сидор. Как она перекрестила и сказала коротко «иди!». Потом – холодный вагон-телятник, склады с боеприпасами, боевой караул… Помню как вечером, в казарме один солдат, из деревенских, вдруг пропел залихватскую частушку «Калина-малина, длинный … у Сталина…».
Мертвая тишина воцарилась тотчас. «Пропал парень» – вспышкой мелькнула мысль. Все сидевшие в общем кругу молча поднялись с мест и тихо разошлись по солдатским койкам. Обошлось, никого не тронули. Повезло дураку. Времена были суровые. Такие фортели выкидывает порой ее величество История, что не знаешь, как к этому правильно отнестись, осознать. Надо же эдакое учудить: из беглых каторжан – в правители самого большого в мире государства, размером с одну шестую земного шара. А когда во главе страны оказывается бывший каторжанин, он всю страну обнесет колючей проволокой – это уже естественный ход событий. Ему так комфортнее. Есть зона, и есть ее хозяин. Пахан. Взаимоотношения предельно простые и понятные. И чем это прекраснее самодержавия, когда на троне каторжанин из безродных, а не законный наследник престола? Нагнал каторжанин на страну страху. До сих пор страшновато поминать имя человека… Человека? А был ли человек? Это еще вопрос. «Туда ему и дорога!» – тихо сказала деревенская баба, услышав новость по радио, и вышла на двор. В Москве люди давились, лезли увидеть тело, а эта простая баба не сомневалась, что его надо поскорее и поглубже зарыть… Хорошо бы еще – осиновый кол в спину… Да… А тот деревенский простак, возможно, и не простак вовсе, а из штатных сексотов… Теперь не узнать, что за человек был. Другом не был – это точно. Друг – Колька Федоров, детдомовец, с которым за луком на чужой огород лазали, как мальчишки.. А потом на гауптвахте вместе сидели за этот тяжкий проступок… Военное время – суровое, прекрасное, молодое. Человек счастлив, когда молод и будущее распахнуто настежь, будто дверь в солнечный июль. Делаешь один шаг – и перед тобой весь мир! Правда, и старость бывает разная, не обязательно болезни и несчастья. Взять дядю Мишу, – он аж светится изнутри. Вот ведь как бывает в больших семьях – родной брат, а всю жизнь зовем дядей. Слишком велика разница в возрасте… Отца звали Михаил, одного из братьев зовут Михаилом, Павлик сына назвал тем же именем. Живучая русская традиция – одни и те же имена кочуют из поколения в поколение – Иван, Степан, Василий, Константин, Михаил, Алексей, Павел, Сергей, Николай… Дядя Миша радуется каждому дню, больше – каждому мгновенью стариковской жизни. И все-таки радость радостью, а предложи любому старику, самому радостному, снова стать молодым – никто не откажется… Правда, никто и не предложит…
…
– Скажи матери, что куришь, – выдержав паузу, сказал отец. – И давай бросай. Дурное дело нехитрое. Вон посмотри, как дядя Павлик дохает. По ночам спать не может, а бросить не получается – стаж слишком велик.
Егорка молча кивнул в ответ и тут же смылся из дома, оставив суп недоеденным. Матери он побаивался, и ничего не рассказал. Курить тоже не бросил, на время став более осторожным. Сигареты в карманах не оставлял – прятал пачку на чердаке. А по пути домой дышал полной грудью, выгоняя из легких табачный дух. Со временем бдительность притупилась, Егорка стал позволять себе покуривать на чердаке, пока родители были на работе. Но потом все-таки выходил на крыльцо и старательно дышал, чтобы не пахло изо рта уж слишком сильно – ему очень не хотелось, чтобы на неумении держать слово его поймал отец.
Солнечный медведь
… Время дышать. Ды-шать, ды…шать! Вдыхать жизнь полной грудью, ощущая, как сладкая утренняя сила растекается по жилам, а в легкие возвращается пронзительное ощущение чистоты. Замереть на вдохе и слушать робкие голоса утренних пташек, всеобщую благостную тишину. Зеленый! Голубой! Светлый! Здравствуй, многоцветный мир! Здравствуй, капустница! Я обожаю, жизнь, твои цвета свежести и радости – лимонно-желтый! Прозрачно-голубой! Как у этих небес над головой… Солнечно-рыжий! Как у этого маленького верного пса, что крутится возле… Крутишься тут, заглядываешь в глаза, улыбаешься и радостно дышишь. Хороший ты малый, хоть и трусишка. Вечера бывают красивыми, конечно, но истинная красота мира открывается ранним утром. Но утренняя красота уже истаивает. Солнце уже поднимается над казармой огненным, раскаленным добела шаром. И первая тишина все больше истончается, становится хрупкой и пугливой, как импала. Со всех сторон ее подкарауливает стремительный, хищный зверь – большой город. Он замер как гепард в высоких травах саванны перед решительным рывком. Одиноко хлопнувшая уличная калитка дает сигнал к всеобщему пробуждению. Почти тут же откуда-то издалека доносится звук, в котором угадывается первый, мощный раскат гимна, затем вступает смешанный хор, поющий про союз нерушимый – у кого-то включена радиоточка. А когда вслед за трубным зовом гимна по соседней большой улице с грохотом прокатывается снаряд первого трамвая, становится ясно, что новый день начался – пора собираться и идти на работу. Если выйти заранее, можно прогуляться неспешно, в свое удовольствие, наблюдая городскую жизнь со стороны…
