Хрупкое завтра
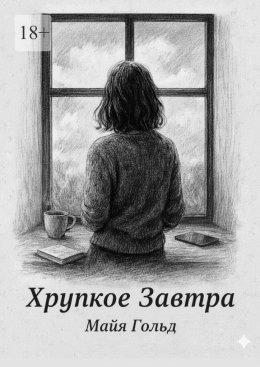
© Майя Гольд, 2025
ISBN 978-5-0068-4032-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Окно на Арбат
Лиза жила на девятом этаже старого дома на Арбате, словно принцесса в башне. Только башня эта не была сказочной – подъезд как подъезд, с истёртыми ступенями, стенами, пахнущими краской и кошками, с громыхающим лифтом, который скрипел и дрожал. Соседи пользовались им ежедневно, но для Лизы он был чем-то страшным – тесная дрожащая кабина, которая могла застрять между этажами. Она не могла даже представить, что окажется там одна, запертая.
С самого детства её ноги не слушались. Они не держали вес, не могли сделать шаг – словно между мозгом и мышцами не оборвалась связь. Диагноз поставили рано: детский церебральный паралич, ДЦП. Мама возила её по больницам, делала массажи, ездила в санатории. Врачи обещали улучшения, мама верила, Лиза терпела боль от процедур. Но чуда не произошло. Лиза так и не смогла ходить.
В раннем детстве мама носила её на руках – маленькую, лёгкую, в курточке с жёлтыми пуговицами. Спускалась с девятого этажа пешком, потому что лифт Лиза боялась уже тогда. Выносила во двор, к песочнице. Сажала на лавочку, и Лиза смотрела, как играют другие дети – бегают, прыгают, смеются. Они подходили иногда, спрашивали: «А почему ты не встаёшь?» Мама объясняла осторожно: «У Лизы ножки болят». Дети кивали и убегали дальше. Лизе казалось, что она понимает – они просто не знали, что сказать.
Но Лиза росла. Становилась тяжелее. Маме с каждым годом было всё труднее нести её. Прогулки, когда-то радостные, стали редкими. Сначала раз в неделю. Потом раз в месяц. Потом почти перестали. И Лиза начала отказываться сама. Сначала из жалости: «Не надо, мам, я устала, не таскай меня». Видела, как мама тяжело дышит на девятом этаже, как болит спина.
Потом появилось стеснение. Она выросла, стала подростком. Начала замечать взгляды – косые, жалостливые, любопытные. Слышала шёпот: «Смотри, какая жалкая». «Почему она в коляске? Она что, совсем не может?» Детский смех – острый, как осколки стекла.
А потом пришёл страх. Настоящий, липкий, парализующий. Однажды мама повезла её в магазин. Толпа, шум, чужие голоса, кто-то случайно толкнул коляску. Лизе стало плохо – сердце заколотилось так сильно, что она не могла дышать. Руки похолодели, в ушах загудело, перед глазами поплыли чёрные пятна. Мама испугалась, вызвала скорую. Врачи осмотрели, сказали: «Паническая атака». Позже в карточке появилось новое слово: «агорафобия» – боязнь открытых пространств, толпы, улицы. С тех пор мир Лизы закончился у порога квартиры.
Зато у неё было окно. Большое, с белой облупившейся рамой и широким подоконником, на котором она расставляла книги, кружки с чаем, горшок с фиалками. Лиза подкатывала своё инвалидное кресло к батарее и могла часами смотреть вниз, на Арбат. Арбат жил своей жизнью – шумной, яркой, настоящей. Под её окном разворачивался целый театр, и у Лизы были свои любимые актёры.
Старик-книжник приходил каждый день в десять утра. Расстилал на раскладном столике потрёпанные книги – детективы, классику, советские журналы. Иногда менял их местами, словно от этого зависели продажи. Лиза знала его распорядок наизусть: в час он уходил на обед, в три возвращался, в шесть сворачивал лоток. Однажды целую неделю его не было, и Лиза волновалась, пока он не появился снова – с тростью, прихрамывая.
Певец в клетчатой рубашке приходил после обеда. Худой, с длинными волосами, собранными в хвост. Играл на гитаре одну и ту же песню – что-то про дорогу и журавлей. Лиза слышала её сквозь закрытое окно десятки раз, знала все слова наизусть. Но люди всё равно останавливались, слушали, кидали монетки в открытый футляр.
Женщина с крошечной собачкой появлялась ровно в девять утра. Быстрая, собранная, в синем плаще. Собачка – белый пушистый комочек – смешно подпрыгивала рядом, повторяя ритм её шагов. Лиза называла её про себя «Девять утра», как персонажа из романа. Если женщина опаздывала хотя бы на пять минут, Лиза волновалась: всё ли в порядке?
Туристы приходили группами, спорили над картами, фотографировались у витрин. Художники ставили мольберты прямо на мостовой, рисовали портреты за час. Дети с шариками. Пары, идущие под руку. Одинокие люди с телефонами.
Для Лизы все они были героями романа, который она читала каждый день. Она знала наперёд каждый поворот сюжета, но всё равно не могла оторваться. Это была единственная жизнь, к которой она могла прикоснуться. Книги заменяли ей остальной мир. В них она могла быть кем угодно – героиней, путешественницей, влюблённой. Мама приносила их откуда могла: с книжных развалов, от знакомых, иногда соседи подбрасывали стопку «для Лизоньки». На полке теснились любовные романы, детективы, классика, фантастика. Целый мир, сжатый в страницы.
В книгах было всё то, чего у самой Лизы никогда не случалось: встреча взглядов в кафе, случайный поцелуй под дождём, ссоры и примирения, путешествия к морю, прогулки по ночному городу. Она знала, что это выдумка, что настоящая жизнь сложнее и грязнее. Но всё равно читала жадно, потому что только так могла почувствовать движение жизни, пусть на мгновение стать её частью.
Они жили вдвоём с мамой. Отец ушёл, когда Лизе было три года – не выдержал диагноза, больниц, безнадёжности. Просто собрал вещи и исчез. Мама об этом не говорила никогда, но Лиза помнила его смутно – высокий, пахнущий табаком, с тихим голосом.
Мама работала в аптеке фармацевтом. Уходила в полседьмого утра, когда Лиза ещё спала. Возвращалась в девять вечера – уставшая, с тяжёлой сумкой на плече, в белом халате, пропахшем лекарствами. Но всегда – всегда! – приносила какой-нибудь маленький сюрприз: яблоко, пирожное в бумажке, журнал с кроссвордами, шоколадку. Снимала туфли, садилась рядом на диван, вздыхала с облегчением и рассказывала о дне. Кто приходил в аптеку: благодарная старушка, грубый мужик, молодая мама с температурящим ребёнком. Кто скандалил, кто говорил спасибо, кто приходил просто поговорить о жизни.
Лиза делилась своими наблюдениями из окна: «Старик сегодня ругался с подростками – они хотели взять книгу, а денег не было». «Певец сбился на второй строфе и сам рассмеялся». «„Девять утра“ опоздала на двадцать минут, я уже волновалась».
Эти разговоры были их мостом – между аптекой и Арбатом, между внешним миром и маленькой квартирой, между двумя одинокими сердцами, которые держались друг за друга изо всех сил.
Иногда мама осторожно заводила тот разговор. Тот, который Лиза ненавидела.
– Лизонька, может, попробуем выйти? Хоть до лифта… я буду рядом.
Лиза отворачивалась к окну. Молчала. Её молчание было криком.
– Я не могу, мам.
– Ты можешь. Просто боишься.
– Я боюсь, потому что не могу!
Они спорили. Мама уговаривала, Лиза плакала или кричала. Потом обе замолкали, обиженные. Через час мирились – обсуждали цены на картошку или жарили блины вместе. Но напряжение оставалось, как заноза под кожей, которую невозможно вытащить.
Весной он появился впервые.
Высокий, светловолосый, лет двадцати пяти. С рюкзаком за плечами. Просто остановился под её окном и поднял голову вверх.
Лиза отпрянула от стекла так резко, что чуть не опрокинула кружку с чаем. Сердце заколотилось. Она спряталась за шторой, выглядывала краем глаза. Он стоял и смотрел – спокойно, внимательно, без жалости. Не на окно, а словно на неё. Словно видел сквозь стекло. Потом развернулся и ушёл. На следующий день он пришёл снова. И снова поднял голову. Постоял минуты две и ушёл. Лиза не знала, кто он. Но ждала его весь следующий день.
Его звали Денис. Он жил неподалёку, снимал комнату в коммуналке вместе с другом. Учился в музыкальном училище на третьем курсе – гитара, композиция. Но денег от родителей не было, поэтому подрабатывал курьером: развозил еду на велосипеде по всему центру. А по выходным выходил на Арбат с гитарой – играл часа три, зарабатывал на жизнь и на мечту когда-нибудь записать свой альбом.
Ему нравилась эта улица – шумная, пёстрая, живая, настоящая. Здесь были художники, музыканты, мошенники, туристы, влюблённые – вся Москва в одном месте.
Он заметил девушку в окне случайно. Поднял голову и увидел силуэт за стеклом на девятом этаже. Потом увидел снова. И снова. Она была там почти всегда – смотрела вниз, наблюдала. Никогда не выходила.
Денис начал обращать внимание: утром – там, вечером – там. Всегда одна. Всегда в окне. Однажды он задержался, поднял голову специально. Она смотрела прямо на него. Не отвернулась. Денис махнул рукой – просто так, не ожидая ответа. Она исчезла за шторой.
Но на следующий день он пришёл снова. И снова помахал. Ему казалось важным, чтобы она знала: он её видит. Её мир не заканчивается стеклом. Кто-то снаружи замечает её.
Почему он не поднялся на девятый этаж? Он думал об этом. Адрес был очевиден. Но какой-то внутренний инстинкт подсказывал: не надо. Чужой человек в её квартире – это не романтика, а вторжение. Он не знал её истории, но чувствовал: она в клетке. И клетка эта невидимая, сделанная из страха. Нельзя ломать прутья снаружи. Можно только показать, что дверца не заперта.
С тех пор Лиза ждала.
Он приходил по-разному. Иногда три дня подряд – утром, возвращаясь с работы. Иногда пропадал на неделю. Иногда с гитарой – играл под её окном. Иногда с пакетом продуктов – видимо, жил совсем рядом. Всегда поднимал голову. Всегда махал рукой – по-детски, по-дурацки, но искренне.
Сначала Лиза пряталась. Потом начала оставаться. Сидеть у окна, не прячась. Потом – осторожно, с бешено колотящимся сердцем – подняла руку в ответ. Он улыбнулся. Широко. И кивнул. Так начался их молчаливый разговор.
Однажды утром Лиза увидела на асфальте под окнами огромное сердце, нарисованное мелом. Ярко-розовое, неровное, детское. Ночью прошёл дождь, и к обеду оно смылось, оставив лишь бледный след. Но Лиза успела его увидеть. И сердце билось весь день быстрее, согретое этим маленьким чудом.
Она завела тетрадь. Обычную школьную, в клетку. Писала туда коротко, как письма самой себе:
«Ты пришёл сегодня. Махнул рукой. Я ответила».
«Ты играл на гитаре. Я слышала сквозь стекло».
«Когда-нибудь я выйду. Честно».
«Я боюсь. Но когда ты смотришь на меня, я боюсь меньше».
Это была её тайная переписка, её диалог с миром. Односторонний, но настоящий.
Мама заметила. Конечно заметила. Лиза стала другой. Чаще улыбалась. Подолгу сидела у окна – не просто смотрела на улицу, а словно кого-то ждала. Следила за собой: просила маму купить новую кофту, причёсываться начала каждое утро.
Однажды вечером мама спросила осторожно, как всегда боясь ранить:
– Лиз, а если бы он поднялся к нам… ты бы открыла дверь?
Лиза молчала долго. Смотрела в кружку с остывшим чаем.
– Не знаю, – сказала честно. – Я хочу. Очень хочу. Но боюсь, что испугаюсь ещё сильнее.
Мама обняла её. Сказала тихо:
– Значит, пока не надо. Пусть будет так, как есть. Это тоже хорошо.
Лиза кивнула, уткнувшись маме в плечо. И впервые поняла: мама не давит. Не заставляет. Просто надеется. Как и она сама.
И всё же однажды Лиза решилась.
День был тёплый, майский. За окном пахло распустившимися каштанами. Лиза подкатила кресло к окну, как всегда. Но вместо того, чтобы просто смотреть сквозь стекло, положила руку на ручку створки. Сердце колотилось. Ладонь вспотела. Она толкнула. Створка поддалась со скрипом. В комнату ворвался воздух – тёплый, живой, с запахом каштанов, пыли, кофе из соседней кофейни, выхлопных газов, жареных пирожков. Запахи Арбата. Запахи жизни. Лиза вдохнула – глубоко, до самого дна лёгких. Закружилась голова.
В этот момент он появился внизу.
Как всегда – с рюкзаком, в джинсах, в потёртой куртке. Поднял голову по привычке – и замер. Окно было открыто. Она сидела прямо у края, без стекла между ними. Не силуэт, не отражение – живое лицо. Бледное, с огромными глазами, с растрепавшимися волосами. Он улыбнулся. Медленно. Удивлённо. Счастливо.
Лиза не спряталась. Пальцы вцепились в подоконник, но она не отступила. Смотрела на него – впервые без барьера. Он поднял руку. Нарисовал в воздухе сердце – пальцем, медленно, чтобы она видела. Она кивнула. Улыбнулась. Не широко, не уверенно – но улыбнулась.
Вокруг Арбат жил своей жизнью: играл музыкант, туристы спорили над картой, «Девять утра» прошла с собачкой, старик раскладывал книги. Но для Лизы мир изменился. Она позволила ему войти. Через открытую створку. Через запах улицы. Через улыбку снизу вверх. Через страх, который впервые за много лет стал чуть меньше.
Вечером она написала в тетради:
«Сегодня я открыла окно. Ты видел меня по-настоящему. Я не испугалась. Ну, почти. Когда-нибудь я открою дверь. Обещаю».
Мама вечером вернулась с работы, как всегда уставшая. Принесла пирожное и журнал. Села рядом. Лиза сказала тихо:
– Мам, а давай завтра попробуем выйти. Хоть до лифта.
Мама замерла с кружкой в руках. Посмотрела на дочь долгим взглядом. Глаза блеснули – не поняла Лиза сразу, слёзы это или радость.
– Давай, – сказала мама. – Попробуем. Вместе.
Лиза кивнула.
За окном гас вечерний Арбат. Гасли огни, расходились люди, сворачивали лотки. Но где-то там, внизу, может быть, всё ещё стоял он – светловолосый, в потёртой куртке, с гитарой за спиной. И смотрел на девятый этаж, где в открытом окне горел свет. И это было достаточно, чтобы поверить: однажды она выйдет. По-настоящему.
Где-то далеко
Марина никогда не ездила отдыхать одна. За тридцать восемь лет жизни – ни разу. Всегда рядом был кто-то, кто занимал всё её внимание и время: муж Сергей, сын Илья, мама или подруги. Её жизнь была сплетена из бесконечных «надо», которые наслаивались друг на друга, как слои старой краски: приготовить завтрак, отвезти сына в школу, позвонить классной насчёт экскурсии, забрать анализы мамы из поликлиники, купить корм коту, успеть в магазин до закрытия.
Вечером она падала на диван, как подкошенная, включала какой-нибудь сериал – но досмотреть удавалось редко. Глаза закрывались сами собой, убаюканные усталостью и монотонным гулом телевизора. Иногда, уже в темноте, когда муж храпел рядом, а сын сидел в наушниках в соседней комнате, в голове вдруг всплывал вопрос: «А я сама – где? Где я, Марина, не мама, не жена, не дочь – просто я?»
Но он сразу тонул в заботах следующего утра, растворялся в звонке будильника, в необходимости сварить кашу и найти чистую рубашку для Ильи.
Этим летом всё сложилось иначе.
Мужу отпуск не согласовали – на заводе началась какая-то авральная проверка, все ходили с серыми лицами. Сын готовился к экзаменам в институт, сидел над учебниками до ночи, нервничал. Мама, с которой они обычно ездили вдвоём в санаторий под Тулой, сказала твёрдо, как отрезала: «Езжай одна. Ты и так всё время для всех живёшь. Хватит уже».
Марина растерялась: «Мам, как же одна?»
«А вот так. Купишь путёвку и поедешь. Я Ильей займусь».
Сергей пожал плечами, даже не отрываясь от газеты: «Конечно, лети. Мы справимся». Сын улыбнулся рассеянно: «Круто, мам. Привезёшь козинаки?»
И всё. Ни возражений, ни сомнений, ни «как же мы без тебя». Просто: езжай.
Марина купила дешёвую путёвку на юг – Крым, маленький городок, о котором никто не слышал. Не Ялта, не Сочи – просто тихое место у моря. Собрала чемодан, положила три сарафана, книгу, которую не могла дочитать два года, крем от загара. И поехала.
Самолёт сел ранним утром. Она вышла из душного салона – и первый вдох горячего южного воздуха был как глоток воды после долгой жажды. Пахло соснами, раскалённым асфальтом, солью, чем-то сладким и пряным. До моря было совсем близко – голубая полоска мелькала между белыми домами с черепичными крышами и яркими вывесками: «Экскурсии! Скидки!», «Кофе у моря!».
Пансионат оказался простым, почти аскетичным. Советская постройка, побелённые стены, узкие коридоры. В номере – железная кровать с туго натянутой белой простынёй, старый шкаф с перекошенной дверцей, деревянный столик, на котором стоял допотопный вентилятор. Но был балкон. Узкий, со скрипучими ставнями и видом прямо на пляж. Днём снизу тянуло запахом горячей кукурузы, и подгоревших чебуреков. Вечером – терпким дешёвым вином и солёным ветром с моря.
Соседи были разные. Слева – семейная пара из Тулы: он плотный, краснощёкий, в шортах и сандалиях на носки, она хрупкая, разговорчивая, в соломенной шляпе. Каждое утро они долго, скрупулёзно собирались на пляж – надевали купальники, искали крем от загара, спорили, взять ли зонтик, будто собирались в экспедицию. Справа – две студентки лет двадцати, смеющиеся так заразительно и громко, что прохожие в коридоре невольно оглядывались и улыбались.
В коридоре пахло хлоркой, свежевымытыми полами и чем-то затхлым, старым – запахом всех советских санаториев.
Первые дни Марина не знала, что с собой делать.
Она прислушивалась к тишине, которая казалась громче любого шума. Привыкла, что день расписан по минутам, а тут – пустота. Свобода. Непривычная, почти пугающая.
Она вскакивала по привычке в семь утра, хотя будильник не ставила. Шла на пляж с полотенцем и книгой. Купалась до дрожи, до сморщенной кожи на пальцах. Потом лежала на шезлонге под зонтиком и дремала под ровный, убаюкивающий шум волн. Волны накатывали и откатывали, накатывали и откатывали – бесконечно, успокаивающе.
Завтракала простым кофе с круассаном или салатом, выбирая самое лёгкое. И мысль, что никто не спросит вечером: «Мариш, а что на ужин?», была для неё новой и невероятно освобождающей.
Тишина внутри постепенно расправлялась, разглаживалась, как аккуратно застеленное покрывало, освобождая место для чего-то нового, непонятного.
Вечерами она сидела на балконе. Солнце медленно опускалось в море, окрашивая воду сначала в оранжевый, потом в тёмно-лиловый, почти фиолетовый. Чайки пролетали низко, почти касаясь крыш, кричали резко и тоскливо. Внизу гуляли пары, семьи с детьми.
Марина брала телефон, чтобы позвонить домой, и откладывала.
«Пусть сами позвонят», – впервые подумала она с лёгким, почти детским упрямством.
Сын написал на третий день: «Мам, привет. Все норм. Учусь. Бабушка кормит». Всё. Три предложения.
Муж позвонил через два дня, спросил про отель, про погоду, попросил сфотографировать счёт за номер – «для бюджета, понимаешь». И всё.
Она осталась одна наедине со своей свободой. И это было странно, непривычно – и удивительно хорошо.
На третий день она встретила его.
Стояла у стойки ресепшена, просила заменить полотенце – старое было с дыркой. Администраторша, полная женщина с крашеными рыжими волосами, позвала её: «Вот, держите, новое». Марина обернулась – и увидела рядом высокого парня в светлой льняной рубашке с закатанными рукавами. Загорелый, светловолосый. Он улыбнулся – просто так, без причины – и его улыбка была такой открытой и лёгкой, что Марина невольно улыбнулась в ответ.
– Отдыхаете здесь? – спросил он.
– Да. А вы?
– Тоже. Андрей, – протянул он руку.
– Марина.
Его рукопожатие было крепким, тёплым.
– Я лётчик, – сказал он просто, будто говорил «инженер» или «учитель».
Она рассмеялась от неожиданности:
– Настоящий?
– Самый настоящий. Летаю на Боингах.
Он сказал это буднично, как о погоде, и в этой простоте чувствовалась спокойная уверенность человека, который знает себе цену и не хвастается.
Вечером, когда Марина сидела на балконе с книгой, он постучал в соседнюю дверь – оказалось, живёт через стенку. Спросил, не хочет ли она прогуляться вдоль берега. Марина хотела отказаться – по привычке, из осторожности. Но вместо этого сказала: «Да. Хочу».
Они шли вдоль набережной. Солнце садилось, стены домов, нагретые за день, отдавали накопленное тепло. Тротуар был неровным – корни старых сосен разломали асфальт. Пахло хвоей, морем, жареной рыбой из прибрежных кафе.
Андрей рассказывал про лётное училище, про первый самостоятельный вылет – ему было двадцать два, ладони тогда дрожали так сильно, что штурвал скользил в руках. «В воздухе всё честнее, чем на земле, – сказал он. – Если ошибся – небо не прощает. Там не спрячешься».
Он говорил просто, без красивостей и пафоса. И Марина слушала, вспоминая свою жизнь. Замужество за Сергеем в двадцать три года – не по страстной любви, а потому что «пора», потому что «хороший парень, надёжный». Рождение Ильи через год. Декретный отпуск, потом работа в банке – операционистка, каждый день одно и то же. Потом увольнение, потому что «не успеваю и за ребёнком, и за работой». Тихая жизнь «как надо», где всё шло по накатанной колее: без ссор, без скандалов, но и без огня. Всё по расписанию. И всё больше молчания.
Марина вдруг почувствовала, как в ней просыпается что-то забытое, задавленное бытом. Не мать, не жена, не дочь – а та девчонка, которой когда-то, в школе, мечталось о дальних странах, о приключениях, о том, чтобы жизнь была яркой, а не серой.
– А вы почему одна? – спросил Андрей, остановившись у парапета.
Марина задумалась. Честный вопрос заслуживал честного ответа.
– Так вышло. У мужа работа, у сына экзамены. А я… просто поехала. Первый раз за много лет.
– И как?
– Сначала было страшно. Потом – интересно. Сейчас тихо. Хорошо тихо.
Он кивнул, глядя на море:
– Хорошая последовательность.
Они встречались каждый день. Не договаривались специально – просто так получалось.
Утром Марина купалась дольше обычного, плавала с маской, рассматривала мелких рыбок, камни, заросшие водорослями. Погружалась в этот тихий подводный мир, где не было слов, только движение и свет.
Днём они ездили в соседние городки на маршрутке. Автобус был старым, советским, пах пылью, бензином и сосновой смолой. Водитель курил с открытым окном, пуская дым прямо в салон. Пассажиры не возмущались – привыкли.
Они сидели в маленьком горном посёлке у белой церкви, ели персики прямо с рынка, сок стекал по подбородку, по пальцам – сладкий, липкий. Андрей вспоминал детство в Воронеже: отец – начальник цеха на авиазаводе, мать – учитель физики в школе. Строгая, требовательная. Как в девятом классе он с друзьями запускал бумажные самолётики с крыши пятиэтажки, и директор школы гонял их с криками. Как решил стать лётчиком, и отец сказал: «Если хочешь – иди. Но сам. Я не буду пробивать».
Вечерами они ужинали в крошечном кафе у самого моря. Три столика под навесом, шаткие стулья, запах рыбы и чеснока. Хозяин – пожилой грек с седыми усами – приносил барабульку на гриле, домашнее вино в графине и каждый раз говорил одно и то же: «Хорошего вам отдыха».
Андрей показывал созвездия: Большую Медведицу, Кассиопею, Лиру. Называл их так уверенно, будто перечислял улицы родного города.
На пятый день он поцеловал её.
Они стояли на набережной, совсем одни – туристы разошлись по гостиницам. Море шумело глухо, ритмично. Он обнял её за плечи, развернул к себе и поцеловал. Уверенно, но мягко.
В голове у Марины словно щёлкнул выключатель. Вернулась к жизни. Очнулась. Она отпрянула:
– У меня муж. У меня сын. Я не могу.
Но тут же, почти одновременно, подумала: «А еще у меня есть я. И я хочу».
И не оттолкнула его.
Море шумело. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в розовый и золотой. Сердце билось так, будто вспомнило ритм юности, забытый за годами быта.
Ночью она долго лежала в своём номере, глядя в потолок, слушая, как шумит вентилятор. И впервые за много лет чувствовала себя не усталой, а живой. Спокойной и живой одновременно.
Утром позвонила домой. Сын ответил сонно: «Мам, привет. Да, всё норм.». Сергей взял трубку: «Как дела? Погода хорошая? Ну молодец, отдыхай». И всё.
Она положила телефон на столик осторожно, как стакан на край стола, боясь уронить и разбить это хрупкое мгновение.
Их роман был коротким – всего восемь дней. Но каждый день был насыщен так, будто вместил в себя целый месяц.
Днём они ездили в соседние города, на рынки, бродили по узким улочкам, поднимались на смотровые площадки, заходили в маленькие музеи, где пахло старыми книгами. Андрей смеялся редко, но когда смеялся – искренне, от души, и его смех был похож на тёплый солнечный луч, пробившийся сквозь тучи.
Марина улыбалась чаще, чем за последние десять лет. Чувствовала, как внутри что-то оттаивает, отогревается.
Она знала: дома всё идёт своим чередом – сын учится, муж работает, мама готовит. И впервые это не тянуло её обратно. Не давило виной. Она просто жила здесь и сейчас.
Вечером начался дождь. Тёплый, летний. Они не стали прятаться. Медленно шли по пустой набережной, позволяя крупным каплям стекать по волосам, по лицу, по плечам. Промокли до нитки, смеялись, как дети.
Вернулись в пансионат вместе. Поднялись к нему в номер. Там было так же просто, как у неё: та же железная кровать, тот же шкаф. На стуле – аккуратно сложенная форма пилота. На запястье – белая полоска незагоревшей кожи от часов.
Марина провела по ней пальцем. Не почувствовала уколов совести, ни капли стыда. Только возбуждение, радость и острое, новое, живое чувство.
В последний вечер перед её отъездом они сидели на его балконе. Молчали. Внизу гулкали волны, где-то играла музыка.
Андрей сказал тихо:
– Осенью я иду на отбор в отряд космонавтов. Конкурс огромный – триста человек на три места. Если пройду – уезжаю на Байконур. На год точно, может, на два.
Марина кивнула. В груди стало пусто, но не больно. Просто пусто.
– Ты не оставишь контакты? Телефон? – спросила она, уже зная ответ.
– Не хочу обещать то, чего не смогу выполнить. У меня будет другая жизнь, ты понимаешь? Другая. Но если вдруг… если я пройду… ты узнаешь. Такая работа – о ней все знают.
Она кивнула снова. Не плакала. Просто сидела рядом, держала его за руку.
Они расстались утром, у входа в пансионат. Её такси уже ждало. Андрей держал её руку долго, не отпускал. Потом достал из кармана маленький морской камешек – серый, гладкий, отшлифованный волнами. В форме звезды.
– Это тебе. На память, – сказал он. – Чтобы помнила, что ты можешь. Что ты умеешь быть счастливой.
Она взяла камешек, сжала в ладони. Тёплый от его руки.
– Спасибо, – сказала тихо.
Не «за что», не «я буду ждать», не «позвони». Просто: спасибо.
Села в такси. Не обернулась.
Москва встретила её серым небом, мелким дождём и холодом. В автобусе от аэропорта пахло мокрыми куртками, потом и чужой усталостью.
Дома всё было по-прежнему. Сергей встретил у двери, обнял механически: «Ну как? Хорошо отдохнула?» Сын выбежал из комнаты, обнял крепко: «Мам! Привезла козинаки?» Мама на кухне жарила котлеты: «Ну наконец-то. Загорела, вижу. Молодец».
Всё на своих местах. Жизнь текла, как текла.
Вечером Марина достала из чемодана камешек. Положила на подоконник в спальне, рядом с фикусом. Он лёг туда, словно всегда там и был. Маленький, серый, в форме звезды.
Через неделю она записалась в бассейн. Давно хотела, но руки не доходили. Купила новый купальник – не чёрный, как всегда, а синий, с белыми полосками. Пошла на курсы итальянского при библиотеке – два раза в неделю, по вечерам. Мечтала об этом ещё в школе, но как-то забылось, потерялось.
Мама сначала фыркнула: «Итальянский? Зачем тебе?» Потом махнула рукой: «Ходи, если нравится».
Сергей вообще не заметил. Или сделал вид, что не заметил.
Они не говорили «о главном». Жили рядом, как жили. Без ссор, без претензий. Но и без тепла. Марина больше не пыталась что-то изменить. Просто жила. По-другому.
Внутри неё что-то неуловимо сдвинулось. Она стала чуть жёстче с мужем, чуть мягче с сыном. Научилась говорить «нет», когда её просили в выходной посидеть с чужим ребёнком или испечь пирог для соседки.
Однажды вечером, когда Марина готовила ужин, по телевизору показали репортаж. «Подготовка нового набора космонавтов. Конкурс – триста человек на три места». Камера скользила по лицам. И вдруг – он. Андрей. В форме, серьёзный, сосредоточенный. Диктор назвал фамилию: «Андрей Соколов, военный лётчик первого класса».
Марина замерла с половником в руке. Сердце ухнуло вниз. Он прошёл. Прошёл отбор.
Прошло ещё два года.
Сын окончил школу, поступил в институт. Сергей сменил работу – ушёл с завода, устроился в частную фирму. Зарабатывал больше, но и пропадал дольше. Марина продолжала ходить в бассейн, учить итальянский. Прочитала уже пять книг в оригинале. Планировала летом поехать в Италию – одна или с группой туристов, ещё не решила.
Камешек лежал на подоконнике. Маленький серый якорь, удерживающий её в новом мире.
И вот однажды утром, за завтраком, диктор в новостях сказал: «Сегодня в 09:00 по московскому времени с Байконура стартует корабль „Союз-МС“ с тремя космонавтами на борту».
Марина замерла с чашкой в руке.
Камера показала лица. Три человека в скафандрах. Андрей был в центре. Смотрел прямо в камеру – спокойно, уверенно. Так же, как тогда, в пансионате, когда впервые улыбнулся ей.
– Интересно, каково это – в космос лететь, – пробормотал Сергей, жуя бутерброд.
– Наверное, страшно, – ответила Марина тихо.
– Ну да. Но они же готовятся.
Илья выглянул из комнаты:
– Мам, а ты бы полетела?
Марина посмотрела на сына. Подумала.
– Нет. Наверное, нет. Но хорошо, что кто-то летает.
Вечером она вышла на балкон. Было холодно – октябрь, ветер. Она накинула плед на плечи и долго смотрела в небо.
Оно было обычным московским – мутным, затянутым облаками. Звёзды проглядывали редко, тусклые, почти незаметные. Но одна мигала особенно ярко – красноватая, пульсирующая. Марина знала, что это, скорее всего, самолёт. Или спутник. Но ей хотелось верить, что это – он.
Где-то там, далеко за пределами её мира, там, где нет ни кастрюль, ни очередей, ни школьных собраний, ни усталости – летит Андрей. В невесомости, в тишине космоса, среди звёзд.
Мысль об этом была простой и тёплой.
И это знание – что там, далеко-далеко, за облаками, живёт её тайна, её маленькое лето, её восемь дней счастья – грело душу. Напоминало, что она когда-то была не только мамой, женой и дочерью. Она была просто Мариной. Женщиной, которая умеет смеяться, целоваться под дождём и мечтать.
Ночной город
Ане было девятнадцать. Её жизнь – это филфак МГУ, бесконечные семинары по русской литературе, пары с восьми утра, подработка репетитором три раза в неделю. Вечное движение, в котором метро с одинаково уставшими лицами было лишь частью серой рутины. Утром – в университет, вечером – к школьнику на Юго-Западной, потом домой, где мама сразу спрашивала: «Ну как? Поела?» И снова – книги, конспекты, сон в обнимку с томом Лихачёва.
И ещё были парни. Те самые студенческие парни, которым нужно было либо «погулять без обязательств», либо «пожить вместе, но не серьёзно». Настоящая романтика оставалась только в книгах – у Пушкина, у Тургенева, у Достоевского. А в реальной жизни было расписание, усталость и ощущение, что ты всё время куда-то опаздываешь.
Кирилл, студент-юрист с параллельного факультета, уже на третьем курсе слыл настоящей «звездой». Высокий, ухоженный, с модной стрижкой и дорогими кроссовками, с той безграничной уверенностью в глазах, которая появляется у людей, привыкших получать что хотят. Он умел смотреть прямо, говорить коротко и улыбаться так, словно заранее знал, чем закончится этот вечер. Девушки появлялись и исчезали рядом с ним с завидной скоростью – неделя, максимум две, и уже новое лицо в его сторис.
Когда он подошёл к Ане после совместной лекции по философии и спросил небрежно: «В субботу идём в клуб на Тверской. Потанцуем?», она понимала всё. Прекрасно понимала. Это не начало великой любви, не сказка, а скорее проверка – подходишь или нет, интересно или скучно, останешься или уйдёшь в список бывших. Но всё-таки согласилась. Ей хотелось хотя бы раз побыть «той самой на вечер», той, на которую смотрят с завистью. Хотя бы раз.
В субботу Аня потратила час на макияж – накрасила глаза тёмными тенями, губы ярко-красной помадой, которую купила специально для этого вечера. Надела короткое чёрное платье, которое обычно висело в шкафу без дела, тонкую кожаную куртку, высокие ботинки. Посмотрела на себя в зеркало – незнакомая, красивая, смелая. «Ничего, прокатит», – сказала она своему отражению.
Поехала в метро. В наушниках грохотала музыка – что-то ритмичное, модное, из того, что все слушают. Сердце билось чаще – от предвкушения, от волнения, от страха. На Курской надо было пересаживаться на кольцевую. Аня вышла из вагона, двери закрылись за спиной, и она машинально сунула руку в карман куртки. Пусто. Проверила второй карман. Пусто. Сумку. Внутренний карман. Пусто.
