Одежда для души. Рассказы для всех
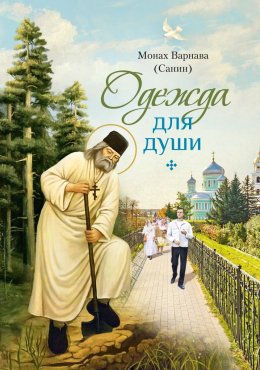
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р23-319-0465
© Монах Варнава (Санин), текст, 2024
© Сибирская Благозвонница, макет, 2024
Часть первая
Рассказы Отца Дамиана
Старое знакомство
Все мы из одного времени. И одного мира. Не важно – в миру ли…
В монастыре… Однажды иеромонах[1] отец… назовём его (изменяя, по его просьбе, имя и сан) Дамиан, знакомился с только что прибывшим в обитель монахом.
– Как тебя звать, брат? – на правах старшего спросил он.
– Монах Арсений! – с готовностью прозвучало в ответ.
– И откуда же ты? Где подвизался?
Монах ответил.
– Знаю-знаю этот монастырь, – одобрительно кивнул иеромонах. – Порядки строгие. Климат суровый. Там даже месяц непросто выдержать…
Высокий, статный, с седой окладистой бородой, отец Дамиан сразу невольно вызывал к себе расположение.
Монах не оказался исключением из правил.
Он охотно поведал о своей насыщенной множеством событий жизни в монастыре, где провёл месяц не месяц, а целых пятнадцать лет, не умолчав и о причине своего ухода оттуда – просто по состоянию здоровья, обитель-то та находилась на Дальнем Севере.
– Это понятно, Север – не сахар, по себе знаю! Я, брат, после того как однажды к вере пришёл и Бога в своё сердце впустил, где только не был, чтобы в ней как следует укрепиться! – с участием выслушав нового брата, пооткровенничал отец Дамиан и поинтересовался: – Ну, а до пострига где обитал?
– А в городе Н., – пренебрежительно отмахнулся монах. – Есть такой, правда, его мало кто на карте найдёт. Тем более что и название у него теперь новое. То есть старое, дореволюционное.
Густая посеребрённая бровь отца Дамиана – хотя в монастыре давно пора привыкнуть к чудесам – удивлённо приподнялась.
Всё дело в том, что он сам был оттуда родом.
– Да-а? – протянул он. – Ну я-то, положим, этот город с закрытыми глазами даже без карты найду! А работал в нём где?
Монах, словно извиняясь, развёл руками:
– В Доме культуры – руководителем танцевального кружка и по совместительству лектором. Приходилось даже атеистические лекции народу читать. Хорошо, что люди ждали только одного – чтобы я побыстрей закончил, потому что после этого наш руководитель привозил особенно интересное, чаще всего зарубежное кино. Это, значит, чтобы явка больше была!
Монах готов был словоохотливо продолжать.
Но уже вторая бровь отца Дамиана пришла в неописуемое движение.
– В каком именно ДК? – словно не веря своим ушам, уточнил он.
Монах, не понимая, зачем собеседнику нужны такие подробности, ответил. Он и не подозревал, что отец Дамиан не только жил в этом городе, но и работал именно в этом заведении культуры!
– Когда? – быстро уточнил он. – В какие годы?
– В середине семидесятых… – пробормотал окончательно переставший понимать что-либо монах.
И то правда. Это уже было похоже на какой-то допрос, а не на знакомство… Но, к счастью, вскоре всё выяснилось. И не только для него одного.
Отец Дамиан с минуту пристально вглядывался в лицо переминавшегося с ноги на ногу, тоже густобородого, широколицего монаха, мучительно пытаясь что-то узнать в нём, но, так ничего и не найдя, наконец хрипло спросил:
– Ты кто?
– Отец Арсений – я ведь уже говорил!
– Нет, я спрашиваю, как тебя звали в миру?
– А-а… Александром Свинцовым.
– Сашка! Ты?!
Монах, сообразив, что все расспросы были не из любопытства или ещё чего ради, во все глаза уставился на иеромонаха. А тот, покачав головой – всяко в его нелёгкой судьбе бывало, но чтобы такое… – усмехнулся:
– А ты знаешь, кто я?
– Кто?.. – затаив дыхание, тоже стал внимательно вглядываться в него монах.
– Да тот самый руководитель, который привозил тебе те самые фильмы!
Иеромонах с монахом – теперь уже с трудом узнавающе – посмотрели друг на друга.
И оба в один голос с изумлением выдохнули:
– Не может быть…
«Может, – закончив, задумчиво возразил сам себе отец Дамиан. – И это только лишний раз говорит о том, что все мы из одного времени и мира. И доказывает тем, кто хочет видеть над головой монахов чуть ли не ангельские нимбы, что они такие же люди – только нашедшие свой путь к Богу и пришедшие в монастырь, чтобы с Божией помощью бороться со своими погибельными, то есть греховными, привычками и навыками за спасение своей вечной души…»
…Рассказал мне отец Дамиан эту историю. Потом другую. Третью. И в итоге их накопилось столько, что мне только осталось пересказать их. Разумеется, от его имени. Языком художественной прозы. На строго документальной основе.
Чудесная туча
Ну и лето было в тот год! Всё изнывало от зноя и жажды. И деревья, и травы. Всё, что было посажено нами на монастырских огородах, несмотря на то что из сил выбивались с поливами. И сами люди… Особенно те, кому во время солнцепёка приходилось ходить по обители в чёрном подряснике. Но – хоть бы капля дождя… И тут вдруг видим – тучка издалека ползёт. Тучка как тучка. Сколько уже таких проплыло мимо. А тут вся братия – все как один, начиная с игумена и заканчивая трудником, – как начала молиться! И надо же такому…
Чем дольше, горячей молимся – тем больше становится тучка. Затем она превратилась в настоящую тучу. Остановилась. Зависла
над нами. И давай обильно поливать монастырский огород и цветы на клумбах перед храмом и братским корпусом! И ведь это ещё не всё!
Напротив через дорогу магазин был. Там на крылечко бабушки высыпали. Стоят, крестятся при виде такого чуда. И то правда. У магазина – пыль. Сушь. Такая, что земля чуть ли не трескается. А через дорогу – настоящий ливень. Да не минуту-другую, как это бывает иногда в жару, когда природа не столько утешает, сколько дразнится. А зарядил по-настоящему на целых полчаса!
Полила туча всё, что только могла, у нас. И – пустая – ушла дальше! Но не зря, видно, и бабушки крестились. Потому что за этой тучей вскоре пришла новая. Которой хватило уже на всех. А потом и вовсе стало в меру дождливо и приятно прохладно!
Вразумление
Север – юг… Восток – запад… Ох, и побросала же меня монашеская судьба! Снова Север… И вот тут, по сути дела в тундре, понял я вдруг, что нет на земле ни одной вещи, к которой, несмотря на всю очевидность её полезности, нужно относиться с крайней осторожностью! И разумением. Взять, например, обыкновенный столовый нож. Им можно красиво порезать на обеденный стол хлеб. А можно, чего недоброго, в пылу гнева убить человека. Или ещё, к примеру, компьютер. Предмет, который сейчас, пожалуй, не менее привычен во всех домах, чем кухонный нож. Так вот, стоит на этом Севере один женский монастырь. И у матушки экономки в рабочем кабинете – компьютер. Всякое в нём есть – и игры, и интернет. Но матушке, разумеется, он нужен был для работы. Ведь куда сейчас без компьютера? Простой отчёт и то не сделаешь! Время, правда, тогда было уже не до отчетов. Они закончились в старом году. И тем более начинался Великий пост.
Сёстры искренне, в слезах вечером, во время особого чина, попросили друг у друга прощения. И наутро началось время, которое, как говорится, для нерадивого монаха в тягость, а для желающего спасения – в радость. Пришла матушка в кабинет. Кому, как не ей, опытной в монашеской жизни, было знать, что в Великий пост и искушения бывают великие? Которые, по вражьей хитрости, начинаются с, казалось бы, самых невинных мелочей. И что-что, а уж компьютер, как ни тянуло это сделать, она решила не включать ни в коем случае! Только разве что будет какая нужда в нём. А тот вдруг возьми да включись… Сам! Не ноутбук, в котором есть аккумуляторы. А обычный стационарный компьютер. К тому же, как всегда, предусмотрительно – в посёлке часто бывали резкие скачки напряжения, отключённый от сети! Даже неспециалисты сразу поймут, что такого просто не может быть.
Но – было! Экран монитора внезапно засветился. Матушка экономка даже перекреститься не успела. И на нём появилась надпись:
«Привет! Давай пообщаемся?»
Вот тут-то матушка и начала и креститься, и молиться! Дошло до неё, что ещё прячется или, точнее, кто сидит в этом безобидном на вид и действительно порой очень нужном предмете! Стоит ли после этого говорить, что до окончания Великого поста матушка экономка обходила компьютер стороной.
И до сих пор использует его исключительно в случае крайней необходимости. И то с великой осторожностью, постоянно молясь во время работы!
Спасение
Сломалась однажды прекрасно налаженная жизнь у человека, которого я знал, как едва ли не самого себя![2] До этого он вполне успешно занимался пусть не приносящим огромные барыши, но вполне надёжным и честным бизнесом. Но вот – один к одному пошли скорби. То ли его, как теперь принято говорить, подставили. То ли сам он неосторожно подставился. Да так, что пришлось прятаться от ещё вчера заверявших в вечной дружбе компаньонов. А тут ещё и близкие родственники умерли едва ли не в одночасье!
Словом, забегал он по России. Запил от отчаяния. Пил… Пил… И… очнулся в каком-то городе, чуть больше села. В гостинице. Без денег. И вот что удивительно: единственный люксовский номер ему почему-то не день или два – месяц! – предоставляли бесплатно. Вино и все другие удовольствия тоже откуда-то брались без ограничения. Словно кто невидимой рукой поставлял всё это ему.
Жизнь шла словно в пьяном угаре. Но вот однажды ночью проснулся он совершенно трезвым. Сначала даже удивился. А потом… Как бы со стороны вдруг увидел себя, всю глубину своего падения. И решил свести счёты с такой жизнью. А-а, чего мелочиться – подумал он, в общем-то отчаянный и решительный человек, – вместе с нею самою! Тут даже и снотворные таблетки каким-то чудом для такого дела нашлись. Чуть ли не сами в номере появились!
Счастье, что несмотря ни на что, был этот человек – совестливым. Почему и бизнесом занимался честным, хотя с его умом и умением располагать к себе людей (и властей предержащих, и деньги имущих и даже банкиров), мог стать богаче всех их, вместе взятых!
Взял он эти таблетки. Целую горсть. А рука, точнее, ладонь у него была на зависть любому кузнецу или боксёру. На троих бы хватило! Наполнил водкой стакан до краёв – чтобы быстрей подействовало. Не забыл даже предусмотрительно табличку на обратной стороне двери повесить: «Прошу сегодня уборкой не беспокоить!» Но тут – вдруг голос (это потом он понял, что это был глас совести):
«Что ты делаешь? Опомнись, безумный!»
Голос прозвучал так явственно, что он даже оглянулся. Но нет… вокруг никого… Однако желания свести счёты с жизнью таким способом у него почему-то сразу поубавилось. Остановил он на полпути ко рту ладонь с таблетками. И то ли что-то где-то когда-то читал, а может, слышал о том, какой вечный ужас и ещё худшая тоска ждёт людей за это после такой смерти. То ли вовремя вспомнил, что самоубийц в прежние умные времена наши предки хоронили за пределами кладбища. И, видно, далеко не случайно это делали!
Во всяком случае, опустил он руку. Покатились по полу смертельные таблетки. И не то чтобы этот человек был верующим, он даже ещё и крещён не был тогда, но внезапно – всем своим сердцем – закричал:
«Господи! Забери же меня к Себе! Сам!!!»
Что дальше? А то, что и должно было быть. Не прошло и трёх дней, как он – и сам даже не понял как – оказался в древнем мужском монастыре. Крестился. И на вопрос настоятеля: «Вы к нам надолго?» – Сам удивляясь себе, уверенно ответил: «Навсегда!» Прошло больше двадцати лет. И как выяснилось впоследствии, это была правда. Потому что пусть после этого монастыря и пришлось подвизаться ему во многих других обителях, но от Бога он уже действительно не отступал никогда!
Урок для двоих
Ловил я в северном озере рыбу. Сеть длинная – девяносто метров. Да вот беда, ячейками маловата – «сороковка». То есть не на очень большую рыбу. Но уж какая в обители была… До двух килограммов сазанчика ещё выдержит, а если попадётся крупнее, да ещё к тому же и зазеваешься, то латай её после этого под ворчание отца эконома!
Был я, конечно, не один. С послушником. Вечно каким-то угрюмым и малословным. Который в то время как раз укреплялся в вере. Душой молился. А всем своим долговязым, худым телом – сидел на вёслах. И по первому моему слову направлял нашу резиновую лодку в указанном направлении. Одно слово – послушник.
Всем хорош. Веры только ему не хватало. Но укрепил его в ней Господь! Как? Не сразу, конечно! И именно в тот раз… Поставили мы, значит, сеть. Отплыли. И наблюдаем. Если где вода забурлит – скорее туда! Значит, попалось что-то серьезное. И нужно успеть, пока рыбина не вырвалась на свободу. Час сидим. Два… Если бы не озеро, можно было бы подумать, что вся рыба куда-то уплыла. Но озеро ведь не река! Куда из него ей деваться?
Наконец, глядим – забурлило! Но увы, то ли не успели, то ли я от излишнего желания принести в монастырь для братии настоящую добычу перестарался. Только ушла рыба. Хорошая такая, килограмма на три. Охнул послушник. От огорчения чуть было весло не выронил.
«Ничего, – говорю ему. – Молись! Ибо сказано: просите – и дастся вам!»
«Да я и так молюсь, – отвечает. – Только у нас что-то как-то не получается!»
Не прошло и получаса, смотрим – опять заходила вода ходуном! И вновь прорвала сеть рыба. Ещё крупнее, чем первая. «Господи, да что ж это такое?» – застонал послушник. Тут уже я и сам расстроился. Времени до конца рыбалки не так много осталось. Неужели братия без рыбных котлет на ужин останется? Один гарнир из макарон есть будет…
Но как могу, с уверенностью, которая уже и во мне начала таять, повторяю:
«Ничего: просите – и дастся вам!»
«Но когда, как? – умоляюще взглянул на меня послушник. – Может, пока не поздно, просто на удочку попробовать?»
И тут не успел он договорить эту фразу. Вдруг огромный, серебристый, ну что твоя снегоуборочная лопата сазан – бух в сетку прямо под нами! И даже не трепыхнулся.
Хотя мог так качнуть нашу лодку, что пришлось бы нам потом как следует за ней погоняться! Вытянули мы его. Приглушили как следует. И давай радоваться – будет теперь утешение для братии, очень уж любящей наваристую уху и рыбные котлетки, да не на один день. Рыбина-то не меньше десяти килограммов весом!
Это потом, когда мы её взвесили, то точно определили – без малого шестнадцать килограммов. А тогда я, с облегчённым от лёгкого маловерия сердцем, победно взглянул на послушника и, если честно, не только у него, но и у самого себя спросил:
«Ну что, понял?»
И тот самым счастливым голосом, которого я и ожидать от него не мог, радостно, на всё озеро ответил:
«Ещё бы! Просите – и дастся вам! Понимаете? Дастся!!!»
Рассказ с продолжением
– А знаешь, как я после того случая грибы собирать стал? – спросил у меня отец Дамиан.
И, резонно не дожидаясь ответа, – потому что откуда я, собственно, мог это знать, – тут же продолжил:
– Побегу, с благословения настоятеля, в первую, свободную от послушания, минуту в тайгу. Молюсь и собираю. Пока иду и прошу: «Господи, помилуй!» – передо мной грибы. Один за другим и один к одному. Крупные, крепкие! Ну, прямо сами сразу на сковородку просятся! А как только чем-нибудь отвлекусь и о другом думать начну, казалось бы, в самых подходящих местах – под осинами, в ельниках – ни одного гриба! Хоть всё вокруг на коленях излазь! Но опять – начну молиться – и снова грибы!
Поблагодарил я отца Дамиана за столь назидательный рассказ. Вышел в монастырский двор. Знакомому позвонить – нужно было срочно попросить о его чём-то. Но о чём именно, я и тогда, и после напрочь забыл. Почему? Да как тут не забудешь… Началось всё с того, что его голос мне не очень понравился.
– Что такой скучный? – спрашиваю. – Заболел, что ли?
– Да нет, – говорит, – вот грибы собираю, точнее, просто по лесу брожу. Хоть бы для смеха один мухомор увидать!
Надо же такому совпадению случиться – только-только нечто подобное я слышал от отца Дамиана…
И, недолго думая, посоветовал:
– А ты попробуй помолись! Попроси Господа!
– И что?
– Что-что…
Знакомый мой был полной противоположностью послушнику, который рыбачил с отцом Дамианом. Низкий, полный – почти круглый. Всегда многословный, весёлый. И в духовном плане – какая там молитва? Какой храм? Он и про Бога вспоминал, только когда совсем от болезней было невмочь или случались какие-то крупные неприятности на работе. Словом, веру не отрицал, но и относился к ней с явной прохладцей. Как в одной старой песне поётся:
«И не то чтобы да, и не то чтобы нет!»
Поэтому вполне мог пропустить сказанное мимо ушей.
И я насколько мог уверенно ответил:
– А там увидим!
Увидеть ничего – то есть лица знакомого и его корзину – мне, конечно, не пришлось. Далековато от монастыря до его дачи и тем более до леса. Но услышать услы шал.
Его захлёбывающийся от радости голос:
– Представляешь? – позвонив буквально через десять минут, восторженно зачастил он. – Дай, думаю, на всякий случай проверю… И что бы ты думал? Помолился – гриб! Еще помолился – другой! Причём в тех самых местах, где я до этого всё тщательно осмотрел! Да ведь это же чудо! Сколько раз помолился – столько и грибов! Иду теперь с полной корзиной! Больше уже просто собирать некуда!
Я слушал его, радовался вместе с ним и за него. И думал, что ему ещё многое нужно сказать. Объяснить. Потому что Господь посылает иногда, особенно вначале, для укрепления в вере чудеса людям. И не только как это было на северном озере с огромной рыбиной или в этом случае – с грибами. Но, если внимательно приглядеться, буквально на каждом шагу. Когда человек действительно потянется к Богу. А потом, бывает, начинает испытывать. На прочность в вере.
Тот же мой знакомый, после сегодняшнего чуда, теперь может неделями ходить и, как бы ни молился, не найти ни одного гриба. И в итоге вконец разочароваться. Поэтому нам было о чём поговорить… И мы поговорили. Но это уже ещё одно продолжение. А точнее, тема для совершенно другого, более обстоятельного и глубокого рассказа!
Единственный ответ
Обычно отец игумен и я никогда не пропускали братского вечернего правила. Эта соборная молитва иеромонахов, монахов, иноков, послушников и трудников, несмотря на то что продолжается не больше часа, имеет великую силу. И важна не только для принимающих в ней участие. Она простирается гораздо дальше и шире.
Но тут мы по какой-то неотложной причине находились в братском корпусе. Смотрим в окно. Вышла братия из собора. Впереди – как всегда, благоговейно несут икону Пресвятой Богородицы. За ней все идут по чину. Возглавляет шествие отец благочинный. И все поют:
«Владычице, прими молитвы раб Твоих и избави нас от всякия нужды и печали!»
Прошли, пропели. А идти, надо сказать, минут пятнадцать-двадцать. Именно столько времени требуется, чтобы таким крестным ходом перед наступлением ночи обойти весь монастырь. Мы с отцом игуменом продолжили обсуждать важный вопрос. И тут… Что это? Не прошло и трёх минут, как всё повторилось. Икона… Братия… Пение… Взглянули мы друг на друга: вроде времени совсем мало прошло! И когда отец благочинный через полчаса пришёл в братский корпус, игумен сразу обратился к нему с вопросом:
– Ты что это, по второму кругу без благословения решил ходить?
– Да нет… – даже растерялся благочинный. – С чего бы? Мы, как всегда, один только раз прошли!
И тогда нам с отцом игуменом стало ясно: ну ладно, одному могло показаться, но не обоим же сразу – что впереди монахов шли… Ангелы.
А кто же ещё?
Взаимная любовь
Любит отец Дамиан птиц. И надо сказать, не без взаимности. А так как в своё время он был ещё и профессиональным фотографом, то нет ничего удивительного в том, что значительную часть его фотоколлекции занимают именно птицы. Вот синички прилетели в стужу к кормушке, сделанной из обрезанной пластиковой бутыли. Желающих много, а места мало. Вот и получилось: одна сидит в ней, завтракает или обедает.
Вторая чуть выше дожидается своей очереди. А третья и вовсе над ней зависла. Тоже ждёт. Кто-то даже назвал это застывшее мгновение «До-ре-ми». И правда, если задуматься, ведь это как ноты прекрасной песни любви человека к братьям нашим меньшим.
Есть снимок лесной пичуги. Такой красивой – глаз не отвести. А она головку запрокинула, вся вытянулась в струнку. И сразу видно, что поёт! Чтобы её не спугнуть, не отвлечь от пения, отцу Дамиану – при всей его солидной фигуре – пришлось разве что не акробатические трюки проделать. Чтобы подойти. Подползти. И ещё каким-то вообще непостижимым образом из-под поленницы навести на поющую птицу объектив фотоаппарата и щёлкнуть… Да не раз. Чтобы было потом из чего выбрать… А есть и вовсе удивительное фото.
На большой сильной руке отца Дамиана сидят две крошечные птички. Одна сельская, то есть живущая рядом с людьми. А вторая – лесная!
– Как это тебе удалось? – недоумевают даже опытные фотографы.
– Фотомонтаж?
– Использовал маленькие чучела?
– Фотошоп?
Посмотрит-посмотрит на них отец Дамиан. И одно только слово всем скажет:
– Монастырь!
И он прав. Ведь только в монастыре, где вольные пугливые птицы чувствуют благодать, которая пусть не так, конечно, как в раю, но хоть его слабым отголоском объединяет всё живущее на земле, возможно такое!
Птичий урок
– До чего же птицы иногда нас, людей, напоминают! – сказал мне однажды отец Дамиан. И улыбнулся: – Смотрю как-то: сидят на заборе два воробья. Точнее, воробей и воробьиха. Сидят, а вокруг ласточки летают. Да так ловко, красиво… Не выдержал этого воробей. Видно, не только у людей бывает тщеславие. Словом, решил он похвастать перед своей подружкой. И как только одна из ласточек поравнялась с ними, взлетел – и за ней! Та туда, и он туда. Та сюда, и он сюда! Оглянулся на воробьиху… Мол, ну как? А ласточка в этот момент как раз в ворота под надвратным храмом скользнула. Ну, а воробью куда было деваться? Даже если б не оглянулся, всё равно бы на такой скорости не успел. А тут ещё назад посмотрел… В общем, так и врезался плашмя в стену… – Отец Дамиан помолчал и сказал: – Хорошо хоть храм деревянный был. А то бы ведь и расплющиться мог! Но ничего, вернулся уже совсем не так быстро к подруге. Оправил кое-как крылышки. Сел рядом. Она на него и не взглянула даже. А вот я долго смотрел. Ведь этот воробей мне над своим тщеславием помог всерьёз задуматься!
Что ещё к этому можно добавить? И не только одному отцу Дамиану!
Люди и птицы
Был у нас в монастыре большой праздник Крестовоздвижения. Точнее, двунадесятый, который полностью называется Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста Господня. И правда – страшно даже подумать: что было бы, если бы Христос не взошёл на Крест и не искупил нас этой великой Голгофской жертвой?
Вышли мы после службы. Стоим – до трапезы ещё немного времени было. И тут вдруг кто-то первым заметил. А потом все стали глядеть… Ласточки над храмом кружат. По очереди подлетают к золотящемуся в радостных солнечных лучах кресту на куполе. И… целуют его! Маленькие, ну сколько там в такой крошечной головке может ума уместиться? Но представляют, какой сегодня великий день.
И – как могут – благодарят Господа!
А люди мимо идут…
Решение проблемы
Сидим мы как-то с братией в трапезной после утреннего чая. Решаем: что с нашей кошкой делать? Бывают среди прочих монастырских дел и такие… Не столько хозяйственные, сколько житейские. Вся беда в том, что едва успеваем её котят, как говорится, в хорошие руки пристраивать. По нескольку раз в год ведь приносит. Ну ладно бы по два-три котёнка. А то всё время – пять-шесть! Всех, кого только могли, в селе обеспечили. «Хватит, – говорят, – своих девать некуда!» Хорошо хоть паломники иногда ещё забирают.
Всё-таки не простой, а – монастырский котёнок! Сидим, думаем. Так что же с ней всё-таки дальше делать?
– Ладно польза была б от неё какая! – недовольно сказал повар. – Мышей там ловила…
– И по ночам в братском корпусе не мяукала! – поддакнул один послушник.
– Ну что ж, – вздохнул игумен, – нужно, наверное, подарить её какой-нибудь сердобольной старушке.
– И дело с концом! – не то чтобы все как один, но всё-таки подтвердило большинство.
Поговорили. Решили. Вышли на крыльцо. Смотрим… Что такое? Сидит перед нами наша монастырская кошка. А перед ней – мышка! Посмотрела кошка на нас, разве не вздохнула только.
Словно сказала:
«Я тоже, между прочим, работаю! Если вы этого не видите, это не значит, что этого нет!» – И, прямо как обиженная, ушла.
Переглянулись мы. Минут пять потрясённо молчали. Никак не могли понять… Откуда она только про наш разговор узнала? Даже если бы человеческую речь понимала… В трапезной её всё равно не было! Значит, Господь открыл? То, что далеко не со всяким монахом, будь он великим молитвенником, постником и даже в великой схиме, бывает! А что удивительного… Ведь Духом Святым вся земля живится! Стоит ли после этого говорить, что как была эта монастырская кошка у нас, так и осталась!
Да, кстати… Тебе случайно в келью котёнок красивый не нужен?..
Добрый век
А вот что однажды в северном женском монастыре было. Там тоже не знали, что делать. Только уже не с кошкой. А – с коровой! Точнее, знали… Да всё оттягивали и оттягивали этот страшный момент! Но, как говорится, сколько ниточка ни тянись, а конец всё равно виден.
Давала коровка молочко. А тут совсем состарилась. И – перестала. Что с ней, такой, оставалось делать? Известно что… Договориться с машиной. Отвезти на мясокомбинат. И… Ох, как вздыхали в коровнике, дожидаясь, когда приедет эта машина сестры… Даже заплакали. Сначала самые жалостливые, а потом…
Кто-то вдруг воскликнул:
«Смотрите! Смотрите!»
Оглянулись на корову. А та – плачет. Слёзы тяжёлые, крупные… Тут уж тогда заплакали… Верней, зарыдали все! И как замашут руками на водителя приехавшей машины. Тот, ничего не успев понять, поторопился уехать с пустым кузовом восвояси.
Так и осталась коровка доживать свой век в обители. То она вкусным молоком монахинь утешала. А теперь – они её. Все вместе – сеном. А по отдельности всякими её лакомствами. Кто что после трапезы принесёт украдкой!
Без слов
Всю зиму, несмотря на мороз, оттепели и пургу, шли у нас в монастыре по ночам молебны. Перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. А тут вдруг весной – посевная, огороды, строительство… Словом, решили отложить молебны до лучших времён. Когда больше сил и времени будет.
А ни сил, ни времени всё равно не хватает. К тому же у одних из братии ни с того ни с сего скорби… У других болезни неожиданно начались… А был у нас в обители большой чёрный терьер. Он прекрасно знал, что собакам вход в храм категорически воспрещён. Ещё щенком мы к этому его приучили. Но тут вдруг зашёл он… Ну, не то чтобы в сам храм – а в иконную лавку. Взял зубами свечу. Принёс. И положил перед нами, возвращающимися поздним вечером с огорода, чтобы скорей отдохнуть. Всё без слов стало ясно. И в эту же ночь были возобновлены молебны.
Вот ведь оно как: даже животные знают – а может, правильней сказать, чувствуют, – когда в монастыре творится молитва!
Трудная служба
Заболела монахиня Е. То ли грипп. То ли просто простуда. На службу ей уже пора. Но всё тело ломит. И такая в каждой клеточке слабость… Нет сил даже встать.
Помысел говорит:
«Полежи, отдохни! Ты же больна! Никто тебя за это не осудит: ни Бог, ни игуменья, ни сёстры…»
Как-то пересилила себя. Кое-как поднялась… Еле-еле дошла до храма. Как службу отстояла – и сама не поняла. Но достояла до конца. Помолилась. От трапезы, правда, отказалась. А как в келью вернулась, то сразу легла и задремала.
И вдруг видит монахиня во сне – подходит к ней Ангел. И дарит огромный букет цветов.
«За что?»
«За службу Богу!»
Страшная странность
Однажды к нам в монастырь приехал паломник. Походил по обители. Зашёл в храм. И вдруг – как заверещал, как захрюкал! И забегал – быстро-быстро так, на носочках. Сразу стало видно – одержимый… Догнали мы его кое-как. Еле-еле втроём держим. Сила в нём такая недюжинная была. А лицо – какое-то треугольное. И глаза – словно две пропасти.
Покропили его святой водой. Помолились над ним. И понемногу пришёл он в себя. Ночь провёл спокойно. Псалтирь над ним почитали. В общем, утром встал совершенно нормальным человеком. Но вот что странно. Точнее – страшно!
Спрашиваем у него:
– Ты хоть знаешь, что́ вчера с тобой было? Тебе на отчитку надо!
А он вдруг спокойно так:
– Да, знаю! И не нужны мне никакие отчитки!
– Как это не нужны? Ведь в тебе же – нечистый дух!
Всё мы ожидали услышать. И как это у него началось. И как ему трудно бороться с этим.
Но только не это:
– А он меня вполне устраивает! – невозмутимо пожал плечами паломник. – Мне с ним легко. И – выгодно. Всё, что хочу, подаёт!
Действительно странно и страшно было нам видеть человека, который осознанно держит в себе беса! Впрочем, если хорошенько задуматься, а один ли такой он?
Так, немного побыл он ещё у нас и уехал. Одно только загадкой осталось. Зачем же тогда он по монастырям ездит?.. А впрочем, что тут удивительного?
Не иначе как душа, которая прекрасно знает, что ждёт её в итоге за это, до последнего надеется, что он всё же одумается…
Главный вопрос
– Веришь ли ты в Бога? – спросил меня как-то отец Дамиан.
Прямо сказал. Не ища повода и не подводя осторожно к этому. Он вообще не любит разговоров вокруг да около. Особенно если речь идёт о важном… А тут…
– Да, – без колебаний ответил я.
И тогда он с каким-то особенным – не то чтобы с интересом, а с самым искренним участием в моей судьбе спросил:
– А Богу?
– Да, – на этот раз уже немного подумав, повторил я.
И он сказал:
– В жизни вопросов бесчисленное множество. Но эти – самые главные. На первый, к счастью, многие люди отвечают теперь сразу и не задумываясь. А к ответу на второй нужно в этой жизни ещё подойти. Хочешь знать, как пришёл я?
И, не дожидаясь согласия, – знал, что я жду не дождусь объяснений, – продолжил:
– Был отец игумен монастыря, где я тогда подвизался, во время первой седмицы Великого поста, на Афоне. И приобрёл у одного старца-схимника, который был иконописцем, две иконы. Одна большая, не знаю, какая именно. А вторая, маленькая, – это мне точно известно, потому что и речь-то о ней! – была Иверская. Собрался игумен уже уходить, да вдруг заметил, что на этой иконе на щеке Пресвятой Богородицы не нарисована ранка с капелькой крови. Попросил он старца дописать её. Но тот вдруг подумал. И, вздохнув, сказал:
– Нет. Бери так, как есть. И отдай брату, который прольёт свою кровь за грехи наши…
Вернулся игумен. А дальше… Не буду вдаваться в подробности. Просто не хочется вспоминать их, столь ужасными они были. Скажу лишь, что, как говорится, произошёл несчастный случай. Хотя с духовной точки зрения для меня, наоборот, счастливый!
Словом, на последней седмице Великого Поста попал я в реанимацию. Всё лицо изуродовано – несколько операций. Крови пролилось – не передать сколько. Но выжил. Перевели меня в обычную палату. И вот тут игумен принёс мне эту икону. Рассказал, как приобретал её на Афоне. Что сказал старец. Ушёл.
И тут эта икона вдруг как замироточит!.. Я смотрел на неё сквозь сами собой текущие слёзы и думал, что Господь знает о нас всё и всё делает для нашего вечного спасения. Хотя порой это бывает через немалые земные скорби. Сначала Он провёл меня через одну из таких, преисполненную боли, недоумения, обиды, а затем несказанно образовал, или, говоря монашеским языком, послал великое утешение.
Ведь прямо на моих глазах происходило чудо! А ещё первый раз в жизни было явственное ощущение, что Господь совсем близ – рядом!
«Не бойся, – словно говорил Он. – Я с тобой. Сейчас и всегда!»
И вот тогда я поверил Богу!
Взгляд Христа
Один будущий игумен («Приоткрою маленькую тайну, мой духовный отец», – шепнул отец Дамиан) рассказал мне такую историю.
Был он тогда ещё мирянином. Но уже глубоко верующим человеком. Много лет ходил в храм. Исповедовался, причащался. Молился. Постился. Словом, жил, как и подобает православному человеку. И вот однажды пришёл он в большой торговый центр. Купить что-то. Что именно, он, разумеется, давно позабыл. А вот другое в памяти осталось… Да ещё как!
Сидел там на входе нищий. Грязный, вшивый… Запах такой от него исходил, что люди не то чтобы подходили к нему подать монетку, а, наоборот, брезгливо шарахались в сторону.
Вот и будущий игумен. Поравнялся с нищим… И тот вдруг поднял на него такой до боли знакомый взгляд. Что внутри всё перевернулось.
Протянул руку и сказал:
– Помоги…
Хотел будущий игумен помочь. Но… не смог себя пересилить. Уж слишком грязен и смраден был этот бродяга. В общем, прошёл, как и все, мимо. Вошёл в огромный сверкающий зал. Сделал пару десятков шагов. И только тут вспомнил, где видел эти глаза!
О Господи!.. На одной из самых любимых своих икон – образе Спаса Нерукотворного… Бросился он, едва не сбивая с ног входящих людей, назад. Подбежал к нищему. Встал перед ним на колени. Начал было просить прощения…
Но тот вдруг посмотрел на него мутным взором и хрипло спросил:
– Те чё надо? Иди отсюда!
Это был уже совсем другой человек – простой, опустившийся на самое дно жизни нищий…
Сколько лет миновало с тех пор. Мой духовный отец давно уже игумен. А всё помнит тот, первый взгляд и скорбит оттого, что не успел помочь… нет… оттолкнул просившего его о помощи Христа. Который через любого человека, в любой момент, испытывая нас и для нашего же блага, может попросить о помощи!
Вечная строка
– А вот что было уже лично со мной, – как бы продолжая эту историю, тут же сказал отец Дамиан. – Иду я как-то по площади одного северного города. И вдруг слышу сзади детский голос:
«Дай копеечку!»
Оглянулся. Смотрю: а за мной семенит узбечка в национальной одежде. А вокруг неё – ну прямо целый выводок, не меньше десятка детей! Мал мала меньше.
«Вот понаехали!» – первым делом мелькнула мысль, или, как её правильней назвать, помысл.
Ушёл поскорей от них. А потом как хлестнуло: да что ж это я наделал? С тех пор хожу и ищу – кому бы подать. Однажды у рынка бабушку увидел. Нищая, сразу видно. Сил ладонь перед собой протягивать и то уже нет. Взял я да и выложил ей всё, что у меня только в карманах было. А было, надо сказать, немало.
И такая тут радость была! Причём неизвестно ещё – у кого больше! Сказал это, улыбаясь, отец Дамиан и вдруг вздохнул:
– Но только того случая на площади северного города ничем уже не вычеркнешь из своей жизни…
Живая совесть
Пришёл однажды один мой знакомый священник, курирующий школу, на родительское собрание.
И после того как все всё обсудили и слово было предоставлено ему, спросил:
«Кто верит в то, что есть Царство Небесное?»
Все родители как один, словно их ученики-дети, подняли руки.
«А кто хочет попасть туда?» – продолжал иерей.
Снова, как говорится, лес рук. Все опять подняли.
«Отлично, – словно учитель, одобрил священник и спросил: – А кто из вас туда попадёт?»
И тут… не поднялось ни одной руки. Все ожидали упрёков. Долгих слов назидания.
А священник вдруг с одобрением коротко сказал:
«Слава Богу! Совесть жива. А значит, для каждого из вас – жива и надежда!»
Наше зло
Ополчился на меня как-то в далёком южном монастыре один монах. Да не на один или два дня. А довольно-таки на долгое время. Причём, не столько напрямую, сколько делая это за моей спиной. То есть далеко не всегда правильными и праведными способами. Честно говоря, нет дыма без огня. Порой я и сам своим вспыльчивым характером этому подавал повод.
Но, с другой стороны, насколько мне хорошо известно, я был далеко не первым. И с некоторыми другими, особенно вновь прибывшими, если они делали что-то не то или не так, он поступал так же. А узнал я обо всём вот как. Подошёл ко мне в конце концов тот монах… Видать, совесть замучила. Всё-таки молится, кается!
И так виновато, не поднимая глаз, сказал:
«Прости меня, отец Дамиан! Я тебе столько гадостей сделал.»
Ну что я мог сказать на это в ответ?
«Бог простит, – говорю. – И я прощаю. А вот что касается гадостей… Прости, но это твои гадости. Тебе с ними и оставаться!»
Вздрогнул монах. Видать, всего ожидал, только не этого. Посмотрел на меня так, мол, лучше бы ты меня ударил, чем сказал такое. И, сгорбившись как-то весь, словно и правда под тяжестью неимоверного груза, ушёл.
Жалко мне его стало. Но… что я мог сказать иного? Во-первых, это действительно так. Зло, которое мы причиняем другим, так и остаётся с нами. И нужен немалый подвиг покаяния и искреннего сокрушения сердца, чтобы изгнать его из себя. А во-вторых, в монастырь ведь могли приехать и другие…
Долгий путь
Встретил я недавно отца Дамиана как никогда радостным. Даже – счастливым. В чём дело?
– Представляешь, – сказал он, – подошёл ко мне сейчас один человек. Спросил… Неважно о чём. Главное – вопрос был такой глупый и ненужный (ответ на него находился прямо перед его глазами!), что раньше я в гневе мог бы даже нагрубить ему. А тут без малейшей тени раздражения, даже не задумываясь, подробно всё объяснил, показал. И так хорошо на душе стало сразу! Ведь не обидел человека. То есть поступил с ним по христианской любви, а не по своим прежним греховным навыкам. Причём уже чисто машинально!
Отец Дамиан взглянул на меня своими выразительными глазами и мечтательно посмотрел куда-то, в одному ему ведомую даль:
– Дай Бог, чтобы не только сегодня, но и завтра так было!
И тогда мне стало ясно, какой нелёгкий долгий путь постоянной, с Божией помощью борьбы за спасение своей души, или, по-монашески говоря, духовной брани, пришлось ему пройти за эти годы.
И какой ещё предстоит пройти!
Часть вторая
Благая часть
Бабушка-красавица
Маленький Паша долго не мог понять, и почему это папа с мамой называют бабу Аню «бабушкой-красавицей». Она ведь была совсем старенькая. Седая. Всё лицо в тёмных глубоких морщинах. И даже ходить уже не могла. А только лежала. Почти всё время глядя на большую икону в углу её комнаты, перед которой день и ночь горела лампада.
К тому же она была не просто его бабушкой, а даже – прабабушкой! Так почему?! Наконец, когда он немного подрос, мама ответила на этот вопрос.
– Всё дело в том, – сказала она, – что баба Аня не всегда была такой, какой ты её знаешь.
– А какой? – удивился Паша.
Вместо ответа мама достала из стенки большой семейный фотоальбом. Раскрыла его. И показала на очень старый, пожелтевший от времени снимок, с которого лучезарно улыбалась удивительно милая, юная девушка.
– Смотри!
– Ах, какая красивая! – только и ахнул, увидев её, Паша. – Неужели это наша баба Аня?
– Да, только много-много лет назад, ещё до войны, – подтвердила мама.
– Теперь я понимаю, почему она бабушка-красавица… – прошептал Паша.
Он хотел тут же побежать к бабе Ане и сообщить, что знает, почему все называют её так.
Но мама остановила его.
– Погоди, не мешай ей молиться!
– Ну вот… – насупился Паша. – Как только захочу к ней – всегда нельзя. Она что, всю жизнь, что ли, молится? И на этой фотографии тоже?
– Нет, – вздохнув, покачала головой мама. – Тогда она жила, как все юноши и девушки, – без Бога. То есть не посещала церковь. Не молилась. Даже не носила нательный крест…
– Как это? – удивился Паша.
Насколько он помнил себя, они всегда ходили по воскресеньям с папой и мамой в храм.
И ещё каждый день дома молились – утром и вечером. А крестик у него на крепкой суровой нитке всегда висел на груди. Он даже в ванне его не снимал!
– Вот видишь, к счастью, ты этого даже не понимаешь, – улыбнулась ему мама. – А тогда всё было на так. Хотя баба Аня и была крещена в детстве и молитвам её научили родители, да только в школе она быстро ушла от веры. Словом, стала как все. Или как почти тогда все. То есть думающей только о земном. Но после одного страшного случая раз и навсегда поверила в Бога. Так поверила, что, хотя за это в то время могли очень сурово наказать, крестила, когда она родилась у неё, свою дочку. Папину маму. И воспитала её так, что та крестила папу. А папа – меня и тебя![3]
Всё это так заинтересовало Пашу, что он даже забыл, что хотел бежать к бабушке.
А мама продолжала:
– Однажды, уже во время войны, баба Аня, а тогда – ты сам видишь, какая это была красивая девушка, бежала через открытое поле.
– Зачем? – уточнил Паша.
– Чтобы спрятаться в лесу от фашистов. И надо же было такому случиться – их разведка на мотоцикле, два солдата и офицер, как раз в это время ехала через поле. Они остановились, начали разговаривать…
– И что же бабушка? Спряталась?
– Где? Там не то чтобы дерева – ни одного кустика не было!
– Тогда, значит, побежала обратно?
– Нет, это бы наверняка погубило её! – уверенно возразила мама. – Видя, что они, увлечённые разговором, ещё не заметили её, она что есть сил взмолилась Богу, Пресвятой Богородице и… продолжила свой путь. Пошла прямо на этих фашистов!
– И не побоялась?! – во все глаза глядя на фотографию, воскликнул Паша.
– Это ты как-нибудь спросишь у неё сам, – улыбнулась ему мама. – Она нам с папой только рассказывала, что тогда шла и молилась. Шла-шла… Молилась-молилась… И в конце концов – прошла как бы сквозь них…
– Как это?!
– А вот так – прямо посередине!
– Вот это да…
Паша восторженно покрутил головой. И с нетерпением стал ожидать: когда наконец можно будет войти к его, как это только что выяснилось, необыкновенной бабушке-красавице?
Нет, он не будет мешать ей! Просто посмотрит на неё, спросит – боялась она тогда или нет? А после этого – всегда вместе с ней будет молиться!
Своя рубашка
Всё готов был понять и даже принять (правда, как он сразу предупреждал, со временем!) в Православной вере Леонид Булатников, который в свои пятьдесят лет любил, чтобы его называли просто Лёнькой. Но только не это. То, что Бог прощает на исповеди даже убийц.
– И вообще, где справедливость? – с вызовом вопрошал он. – Согрешит человек. Сходит – покается. И Бог простит его. Это я понимаю. Это всё даже хорошо. Но ведь он опять идёт, и снова делает то же самое. Я знаю много таких!
– А сами вы, – спросил у него однажды приехавший в деревню на похороны близкого родственника, спокойный такой монах, – хотели бы, чтобы Бог простил лично и вас?
– Ой, только давай будем на «ты» и называй меня лучше Лёнькой! – сразу предупредил Леонид. – И, поразмыслив, признался: – Ещё бы! Конечно! Как не хотеть? – Он вообще всегда отличался честностью и справедливостью. А ещё быстрой сообразительностью. Почему с самодовольной усмешкой тут же и сказал: – Но для этого сначала нужно серьёзно согрешить!
– А ты, стало быть, Леонид, никогда не грешил? – согласившись на первое предложение и решительно отказавшись от второго, уточнил монах.
– Ну, по крайней мере, не убивал!
– Допустим, хотя мы ещё вернёмся к этому! – подчёркнуто временно согласился монах. – Ну, а как, скажем, насчёт того, чтобы ругаться матом? Случалось, хоть иногда?
– Почему это иногда? Постоянно! А что здесь такого? – изумился Булатников. – Все в нашем селе ругаются. Даже малые дети. Какой же в том грех?
– Ну, во-первых, у вас не село, а деревня, потому что в ней нет храма, – поправил его монах. – А во-вторых…
И, видя, сколько народу собралось вокруг него, уже не столько Леониду, сколько всем принялся объяснять, что это грех, и великий. И вот почему.
– Мало того что человек оскверняет себя – свою душу и тело, всё окружающее пространство грязными, непотребными словами. Так ведь самое страшное – он ещё и оскорбляет ими Саму Пресвятую Богородицу. Которая, как хорошо известно из давней и современной истории, держит над миром Покров, умоляя Своего Сына – Иисуса Христа смилостивиться, пощадить погрязший в грехах человеческий род. Дать ему ещё время – на покаяние! Страшно даже представить, что будет с нами, если Она хоть на миг опустит его… А ведь именно такое случается с теми, кто оскорбляет Её. Такой человек сразу лишается спасительного заступления Божией Матери и мгновенно становится игрушкой в руках бесов. Он жестоко мучается, невероятно страдает, сам даже не понимая почему. И в конце концов погибает уже здесь, на земле, и затем – навечно!
– Ты, Леонид, стало быть, хочешь этого?
– Бр-рр! – зябко передёрнул плечами Булатников. – Нет, мне такого не надо!
– То есть ты всё же пошёл бы на исповедь, чтобы Господь отпустил тебе этот (я уж не говорю о как минимум сотне других) грех? – глядя ему прямо в глаза, уточнил монах.
– Ну да…
– А если опять сорвёшься?
– Значит, снова пойду! – забыв про своё непримиримое несогласие с тем, что Бог множество раз прощает одни и те же грехи, воскликнул Леонид. Ко всему прочему, он был ещё и на редкость эмоциональным человеком. – Не погибать же, как ты говоришь, здесь и навечно!
– Вот тебе и ответ на твой давний вопрос. О якобы вопиющей несправедливости. А что же касается твоих слов про убийц… Ты что, и правда уверен в том, что сам никогда никого не убивал?
– Да ты что?! – снова взъерошился Леонид.
– Я ничего, – спокойно возразил монах. – А вот ты хорошенько подумай. И вспомни. Вот, к примеру, жена твоя аборты делала?
– Ну, допустим…
– И ты, стало быть, ни при чём?
– Почему это? Раз не возражал и даже порой настаивал – значит, очень даже при чём!
– Вот видишь! А ведь аборт – это самое настоящее убийство. Живого, в отличие от тебя, ещё не крещённого и ни в чём не повинного человека. А не какого-то там ничего не понимающего и не чувствующего зародыша, как говорят об этом сами преступные, то есть делающие аборты, врачи. Но даже допустим, что не было в вашей семье ни одного аборта. Где гарантия, что ты не толкнул однажды ненароком локтем, пробиваясь без очереди в автобус, какого-нибудь слабого, немощного человека? А у того развилась после этого злокачественная опухоль. Из-за чего его давно уже нет на свете.
Леонид подавленно молчал.
– Да что там автобус… – наконец вымолвил он. – И почему ненароком? Я ведь и драться всегда любил. А кулаки у меня, что чугунные гири. И многих уже нет, кого я ими как следует отходил. Откуда мне теперь знать, моя в том вина или нет?
– К счастью, и для таких случаев есть бесконечная Божия милость, – ответил ему монах. – На исповеди мы называем все отягощающие нашу совесть, а значит, и душу грехи. А есть такое таинство, называемое Елеосвящением или Соборованием, в котором отпускаются грехи, совершённые нами по незнанию или неведению!
– Слушай, – обрадовался Булатников, весь так и рванувшись к монаху. – Так отпусти ты мне их прямо сейчас, а?
Но тот остудил его пыл.
– Отпускает грехи Один только Бог! – сказал он. – И потом эти таинства – Исповеди и Соборования – может совершать только священник!
В первое же воскресенье после этой беседы Булатникова видели в храме на исповеди. Потом около его дома однажды около двух часов – на таинство Елеосвящения уходит никак не меньше времени – стояла машина священника. Так что не зря в народе говорят: своя рубашка ближе к телу.
А тут к тому же был, пожалуй, тот самый случай, когда она оказалась необычайно близкой и для души!
Церковная остановка
Зашла Мария Семёновна после получения своей более чем скромной пенсии в храм. Прислонила в иконной лавке к стене трость с подлокотником, на которую опиралась в последнее время из-за больных, а может, уже и слабых от старости ног. Положила на столик, чтобы не мешала, сумочку с паспортом и кошельком, в котором ни много ни мало, а месяц, отказывая себе едва ли не во всём, прожить хватит. Да ещё и родных помянуть. Свечки поставить.
Не спеша – много ведь накопилось за жизнь дорогих сердцу имён – написала записки. О здравии. Об упокоении. Попросила дать ей двенадцать – ровно по числу подсвечников, которое она хорошо знала, – свечек. И – не удержалась – купила себе самые дешёвые, какие только нашлись, бумажные складни.
Посередине Господь Вседержитель. Справа и слева – Пресвятая Богородица и Николай Чудотворец.
С благоговением поцеловала их. Затем вошла в храм. Помолилась. Приложилась к иконам. И, утирая слёзы платочком, вышла на улицу.
Автобусная остановка находилась прямо за воротами, отчего все называли ее Церковной, хотя на самом деле она была до сих пор почему-то Октябрьской. Судя по тому, что никого из людей на ней не было, автобус только что отошёл. Следующий, по расписанию, должен был быть минут через десять. А на самом деле, может, и через полчаса.
Мария Семёновна, сожалея не о своём опоздании, а о том, что не догадалась хоть немного подольше побыть в храме – но откуда она могла знать? – принялась терпеливо ожидать его.
И тут вдруг, выскочив из-за стоявшего рядом с остановкой киоска, к ней подлетел остроносый – только это она и успела запомнить – парень. Выхватил из рук сумочку. И – бежать!
«Господи!» – только и успела ахнуть опешившая старушка. И, приходя в себя, добавила: – Помоги! Мне же самой его не догнать…
То, что произошло дальше, Мария Семёновна рассказывала затем, каждый раз не скрывая счастливых слёз. Господь услышал её. Помог! Парень, уже почти домчавшийся до ближайшего поворота, вдруг стал бежать медленней… Медленней… Затем, словно против своего желания, развернулся. Направился обратно. С каждым шагом – быстрее! Быстрее!
И вернувшись к ничего не понимавшей Марии Семёновне, со словами:
– На! Держи! – Всунул ей в руки сумочку.
И уже не удерживаемый больше никем, быстро скрылся за поворотом. Хотя ему совершенно нечего было опасаться. На церковной остановке никого, кроме одиноко стоявшей старушки, по-прежнему не было. А до автобуса ещё больше пяти минут. Если, конечно, он, как всегда, не опаздывал…
Каюсь!
Светлой памяти известного композитора и певца Александра Барыкина
- Я на колени опускаюсь,
- За всё и вся себя кляня,
- И – каюсь,
- каюсь,
- каюсь,
- каюсь —
- Нет грешника грешней меня!
- Какое зло я не соделал,
- Который грех не совершил,
- Смертельный для души и тела?
- Сколько я жил, столько грешил!
- За часом час – одно и то же…
- И вдруг сегодня из груди
- Рванулся крик: «О Боже! Боже,
- Прости, помилуй, пощади!..»
- Я каюсь,
- каюсь,
- каюсь,
- каюсь —
- Того не зная, может, сам,
- Что, на колени опускаясь,
- Я поднимаюсь к Небесам!
Неизвестный певец
Каюсь!
Если от волнения скажу что-то не то или не так… Но постараюсь начать по порядку. Сегодня уже нет той давней традиции, которая существовала в первые века христианства. Когда кающийся выходил на амвон и громко перед всем народом в храме называл все свои грехи. В первую очередь – самые тяжкие. Теперь, наоборот, чтец в то время, когда священник исповедует кающихся, громко читает, чтобы не было слышно ни одного слова…
И вдруг на всю страну прозвучало – громко, звонко, с надрывом и болью, как умел это делать он:
«Каюсь!»
Это был Александр Барыкин. Исполнявший со сцены Кремлёвского дворца песню на стихи, которые, уж признаюсь читателю, я сам, после тяжкого греха, писал на коленях…
Каюсь…
Ровно десять лет назад протоиерей Олег Богданов, благодаря которому вышла самая первая книга моих «взрослых»[4] стихов «Плач по России», сообщил мне из Набережных Челнов, что подарил эту книгу Александру Барыкину, написавшему на них несколько песен. И дал номер его телефона. Я, разумеется, позвонил. В трубке, к моему удивлению, послышался неожиданно тихий, едва слышимый и хрипловатый (я ведь привык к звучным и громким песням Барыкина) голос. Так мы познакомились. И вскоре стали друзьями[5]
А тогда он пригласил меня на своё выступление в концертном зале Храма Христа Спасителя… И сказал, что там подарит мне свой новый диск «Молись, дитя!»[6], в который вошли три песни на мои стихи. Я сказал, что он может использовать также и другие мои стихотворения.
Но Александр умел быть вежливо-категоричным.
– Я не умею писать музыку на готовые тексты, – возразил он. – Исключения очень редкие. Если слова как бы сами становятся песней. Точнее, когда в этом помогает Сам Бог! Как вот и в нашем случае – кажется, получилось…
Получилось, да так, что я сам был свидетелем того, как, слушая одну из этих песен – «Каюсь», – плакали, да что плакали – рыдали люди. Православные… Мусульмане… И вообще далёкие от любой веры.
А сам Александр однажды признался, что это самая лучшая песня, которую он написал и исполнил в своей жизни.
– А как же «Букет» на стихи великого Николая Рубцова? – с недоумением уточнил я.
– Ну, то совсем другое… – задумчиво покачал головой он и уклонился от прямого ответа.
Каюсь…
Потом была наша первая встреча у него дома. Он тогда очень строго постился и подолгу молился. И я, привыкший видеть на телеэкране совсем другого Барыкина, был просто радостно поражён этим. Тем, что вижу перед собой совершенно незнакомого мне певца. А для него само собой разумеющимся было каждое воскресенье и на церковные праздники ходить в храм. Выстаивать все службы. Исповедоваться. Причащаться. Правда, порой старая волна рок-музыки относила его в сторону.
И на очередной мой звонок-поздравление с церковным праздником он с удивлением спрашивал:
– Да? А с каким?
И, помолчав, с огорчением признавался:
– Надо же… Опять ушёл на страну далече…
А потом опять возвращался на духовную родину. С каждым разом всё надольше, прочнее.
Каюсь…
Бывали между нами и размолвки. Точнее, только одна. Во время которой, чтобы, по его мудрому решению (зная мой, да и свой, вспыльчивый характер), нам не расстаться вконец, мы общались исключительно при помощи СМС-сообщений.
Это случилось после того, как он, пригласив известнейших рок-музыкантов страны, записал в студии песню на мои стихи:
- Русь моя, Россия,
- Испокон веков…
С припевом:
- Русь моя, Россия,
- Родина моя…
Это был тот случай, когда столкнулись две несовместимые вещи: стихи на духовную тему и рок-музыка. И разряда молнии было не миновать. Сам Александр спел свой куплет так, что и придумать нельзя лучше. А вот остальные…
Не в силах изменить манеру своего пения, они так исказили некоторые слова, что те стали близки к кощунству для уха православного человека. И в конце песни с полминуты, под рожок, вообще слышалось нечто похожее на языческое камлание…
Саша в этом пусть и не сразу, но был тоже согласен со мной. Но не мог, особенно поначалу, и не защищать интересов своих музыкальных коллег.
– Ведь они же старались изо всех сил и сделали всё, что смогли! Тоже радели о России! – с болью в голосе теперь уже не пел, а говорил он.
Каюсь…
После этого, к счастью, очень короткого перерыва наши дружеские отношения стали еще более крепкими. Он с присущей ему горячностью планировал переиздать диск «Молись, дитя» и дать мне много… Очень много экземпляров. Разумеется, так же, как это намечал сделать и он, для раздарки.
Но неожиданно позвонил протоиерей Олег и сказал:
– Александр Барыкин в реанимации. Что-то с сердцем. Молись…
Сколько же священников и монахов… Сколько православных мирян молилось о нём тогда! Я тут же, через всех знакомых и незнакомых мне людей, принялся разузнавать – где он и что с ним. И с облегчением узнал, что у него только микроинфаркт. То есть не совсем безнадёжное дело. Дал СМС-сообщение:
«Как только придёшь в себя – отзовись!»
И вскоре услышал его голос. Он ещё слабо говорил, что как только выпишется из больницы, сразу же и надолго поедет к себе домой. Приглашал, как всегда, к себе. А потом просто начал засыпать меня длинными эсэмэсками с сочинёнными прямо в больничной палате стихами. Почти в каждом из них он каялся, радовался вновь подаренной ему Господом жизни и говорил о Боге…
О том, что без Него всё – ничто! Это была самая настоящая поэзия. И – как жаль, что в спокойной уверенности, что потом всё это, при встрече, возьму у него в письменном виде, я стёр стихи из памяти телефона, загруженного уже так, что он мог не принять новых сообщений. И не переписал их перед этим сам…
Каюсь…
Потому что вскоре, позвонив ему, я услышал его голос не на фоне тишины его дачного дома, а под перестук вагонных колес.
– Как! Ты в дороге?! – только и ахнул я.
И услышал:
– А что же мне остаётся? Ведь для того, чтобы писать и выпускать главное, в том числе и диск «Молись, дитя», нужно давать концерты, выступать по телевизору и обслуживать корпоративные вечеринки. К тому же мне надо думать о тех, кто работает вместе со мной… И кто ждёт от меня помощи…
То есть до последнего он думал о Главном и о материально зависимых от него людях. А потом был звонок ещё от одного моего друга, который был тоже хорошо знаком с Александром Барыкиным.
Голосом, сразу не предвещавшим ничего хорошего, он трудно и долго произнёс:
– Только что в интернете сообщили: умер Александр Барыкин.
Царство тебе Небесное, Саша!
Каюсь!
От врачей, а также от близких родственников умерших людей я слышал, что, каким бы тяжёлым ни был больной, в последние часы или мгновения (кому уж как сподобит Господь) у него внезапно начинается облегчение и просветление. Даже глухие иногда начинают слышать. А немые говорить.
Конечно, такое случается не со всеми… А по особому Промыслу Божию. Но так или иначе каждому, кто ещё может (или даже уже не может!) покаяться перед смертью, Бог даёт этот последний спасительный шанс.
А также читал, что святые говорили: кто призовёт в самое последнее мгновение имя Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы, тот и будет с ними навечно. Как же бы я хотел, чтобы это было и с Александром Барыкиным. Чтобы в самое последнее мгновение жизни – говорить он тогда, конечно, уже не мог – он смог хотя бы мысленно произнести одно только слово из действительно самой лучшей его песни:
«Каюсь…»
Тропа Богородицы
Квартировал я одно время у одной русской – то есть истинно православной – женщины. В весьма преклонных годах, Марии Семёновны… По вечерам, после очередной всенощной службы, мы с ней нередко долго беседовали за чаем.
На самые разные духовные темы.
Затем, несмотря на то что уже простояла без малого три часа на своих больных ногах в храме, она удалялась в свою крошечную комнатку – большая была предоставлена мне, по давнему неуклонному русскому правилу: «Всё лучшее – гостю!» Где долго читала вечернее правило. Если на следующий день причащалась – Последование ко Святому Причащению со всеми положенными молитвами.
И чуть слышно Мария Семёновна пела акафисты.
Меня всегда поражало, где эта хрупкая старушка черпает для всего этого такие силы.
А главное – откуда в ней такая крепкая вера.
И на мой вопрос – так откуда, она не сразу, но всё же однажды ответила:
– С детства.
И вот что мне рассказала.
Бабушка Марии Семёновны – имя её, в отличие от каждой детали удивительного случая, происшедшего с ней ещё до начала войны, к сожалению, не удержалось в памяти – была верующим, несмотря на страшные гонения тех лет, человеком.
Как верующую её судили и, после отбывания срока наказания, отправили жить на поселение в строго определённое место. В маленькую деревню, затерянную в российских лесах и полях. Где она каждую неделю должна была ходить в город и отмечаться, что никуда не девалась. И вот как-то раз собралась она идти.
Старшие дети – а она не одна, ещё и с детьми жила – стали её отговаривать:
– Матушка, непогода, наверное, будет. Осталась бы дома!..
Дорога-то ведь через поле. Далеко ль до беды?
Но чтобы опять «не сиротить» детей, отдавая их на временное попечение родственникам, она перекрестилась на иконы, предала себя, как всегда и во всём, в волю Божию. И пошла[7]. До города добралась, как теперь говорят, «без проблем», то есть благополучно.
Хотя небо всё хмурилось, хмурилось, грозя близкой метелью, если не сильным бураном. Отметилась. Зашла к дальним родственникам, у которых и жили детки, пока она сидела в тюрьме, а после мытарилась в лагерях. Попила чайку. Отогрелась.
И от мороза, и от ещё более страшного холода, которым каждый раз обжигало её в кабинете управляющего по делам религии. Точней, по борьбе с религией…
Собралась в обратный путь. А родственники тоже стали её отговаривать.
– Куда ты? В такую погоду хозяин собаку из дома не выпустит! Да ещё и на ночь глядя…
Но как она могла оставить на ночь детей одних? Которые, она хорошо это знала, наверняка не уснут, пока не вернётся мать. К тому же гостинчиков в городе, как всегда, для них набрала.
Родственники – даром что дальние, а как на деле, так оказалось, ближе самых близких – добавили к ним что смогли. Она снова перекрестилась на святые иконы. Вручила себя – и тело, и душу – Богу. И пошла.
В городе ещё ничего было. Дома хоть от ветра заслоняли. Да было видно, куда идти. Но в поле… Метель словно дожидалась её здесь. Только тогда разыгралась. И словно сорвавшийся с цепи бешеный пёс, сразу же превратилась в настоящий буран!
Идёт она через поле. Дорога быстро исчезла, изгладилась, становясь единым целым со всем остальным пространством. Снег – целыми пригоршнями в лицо.
Залепляет глаза, слепит. Ветер упирается в грудь, так и норовит сбить с ног. А упадёшь – не встанешь. К тому же почти дочерна стемнело. Неужели и правда погибать придётся?..
Может, следовало прислушаться к советам детей и родственников?
Но как… как она могла не пойти…
И не вернуться сразу?
Нет, совесть её была чиста.
А с чистой совестью, как она хорошо знала от предков, молитва не может быть не услышана Богом.
Тем более от гонимого за веру и погибающего человека.
Взмолилась она что есть сил.
Призвала на помощь Пресвятую Богородицу.
И… что это?
Снежная стена перед ней вдруг расступилась.
Впереди образовалась узкая, но вполне проходимая дорожка.
Ступила она на неё.
А та – ко всему ещё и твёрдая!
Сделала по ней шаг…
Другой…
Вокруг с рёвом и свистом сшибаются огромные снежные клочья.
Слева и справа – белые в темноте стены.
И посередине – тропинка.
А она идёт по ней.
Всё понимает.
Только плачет.
И уже не просит помощи о спасении, а без устали благодарит и благодарит Пресвятую Богородицу.
Так шла она, шла и вышла к самой деревне.
А затем и вошла в свой дом.
Где действительно ждали её готовые не ложиться хоть до утра дети…
– Ну как после этого не поверить? – закончив рассказ, спросила Мария Семёновна. – Да и не только после этого рассказанного мне самой бабушкой чуда, а вообще, в самом детстве живя вместе с ней…
И действительно – как?
Первая учительница
Повела однажды бабушка Марии Семёновны своих внучат в храм, через поле да лес – в город.
Как раз праздник большой был. Не тот, что с красными флагами. И фальшивыми лозунгами на транспарантах. А настоящий – церковный. Школу, разумеется, пришлось пропустить. Потому что была суббота. А в понедельник…
Гневу учительницы, которая узнала обо всём от самой Маши, потому что та с детства была отучена лгать, не было границ.
– На улице – скоро середина двадцатого века, – не то что говорила – кричала она. – А они вздумали в церковь идти! И к кому? К Богу, Которого, как давно доказала наука, нет! А ну-ка, дети, повторяйте за мной: нет, нет, нет!
И всё тычет, тычет пальцем в то место на парте, откуда упрямо сцепившая губы, чтобы не повторять то, что требовала учительница, первоклассница Маша едва успела вынуть свою чернильницу.
Я уже думал, что это конец рассказа.
Но нет.
– Встретилась недавно она мне… – печально вздохнув, вдруг сказала Мария Семёновна. – Моя первая учительница. Разговорились. Из школы она тогда почти сразу ушла. Вскоре после того случая у неё сильно разболелась рука. Кстати, та самая, которой она тыкала тогда в отверстие для чернильницы… Так разболелась, что её у неё отняли. Дали инвалидность. Муж бросил. Дети, едва оперились, тоже отказались с ней жить. Даже в гости к себе не зовут. Как теперь жить, чем? Пыталась я ей объяснить. Но вот беда. Хоть уши есть – да не слышит. Всё кого-то и что-то обвинить в том, что её жизнь не сложилась, хочет. И пошла она дальше. Жалкая. Озлобленная. Одинокая. Без Бога-то каково жить?
Мария Семёновна зябко передёрнула плечами. И, как никогда надолго, ушла в свою комнатку. Наверняка молиться за неё. Пусть и учившую её совсем не тому и не так… Но всё же – свою первую, что там ни говори, учительницу.
Глоток небесной любви
Ехала Валентина в отпуск. К родителям – в Харьков. На работе её отпустили так быстро и неожиданно, что почти не осталось времени на подготовку.
Весь день прошёл в невероятной спешке и суете: покупка билетов, подарков, сбор сумок в дорогу… Она даже поесть не успела.
