Современное язычество. Люди, история, мифология
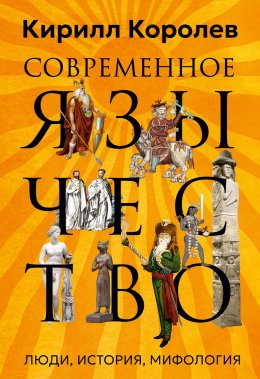
© К. М. Королев, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука ®
Предисловие
О чем эта книга?
Давайте вообразим, что мы познакомились с человеком, который называет себя язычником. Какой смысл он вкладывает в это слово?
Или посмотрим на ситуацию с другой стороны: о ком-то говорят, что он – язычник. Что при этом имеется в виду?
Или та же картина, но чуть под иным углом: пресса пишет о неоязычниках, возможно цитируя кого-то из представителей православной церкви. Правильно ли думать, что журналист, опубликовавший материал, и тот клирик, на которого он ссылается, подразумевают под язычеством одно и то же?
А о ком размышляют исследователи, выбирающие новое язычество предметом изучения? И насколько будут совпадать между собой точки зрения и оценки философов, религиоведов, культурологов, историков, социологов и социальных антропологов?
Все эти вопросы и сомнения неизбежно подстерегают всякого, кто проявляет интерес к современному язычеству, а уж тем более того, кто берется изучать его и описывать. Мнимая простота этого словосочетания на редкость обманчива, за ней скрывается разноликое, разнообразное, удивительно многогранное социальное явление, накопившее за годы своего становления чрезвычайно богатую мифологию.
Последняя фраза требует сразу двух уточнений. Во-первых, вместо «годы» следовало бы сказать «десятилетия», если не «столетия»: хотя это язычество принято именовать современным, свою историю оно ведет с эпохи Возрождения, но получило зримое воплощение и сделалось по-настоящему массовым, конечно, только в XX веке.
Во-вторых, «мифология» – вовсе не обидное определение. Наоборот, оно, как кажется, ставит современное язычество вровень с другими мифологическими мировоззренческими системами – древними и нынешними.
В самом деле, снисходительное отношение к мифам, или к «легендарному баснословию», как писал классик отечественной фольклористики Федор Буслаев, осталось в далеком прошлом: таким отношением могли грешить в ту пору, когда мифы считались детством человечества, благополучно преодоленным и «сданным в музей». Однако сегодня принято считать, что homo sapiens как таковой – существо мифологическое, что мифы и мифология – наш специфический способ познания мира и наш способ жизни, индивидуальной и коллективной. Так что под мифологией современного язычества понимается не набор «пустых выдумок и безудержных фантазий» – оставим эти и подобные им суждения на совести тех, кто их изрекает, – а особый взгляд на окружающий мир, особое мировоззрение, которого придерживается некоторая часть рода людского.
Эта книга рассказывает об истории современного язычества, о людях, которые эту историю творили и продолжают творить, и об языческих мифах, обладающих немалой притягательностью – и открывающих мир с неожиданной стороны.
Искренне благодарю коллег Екатерину Мельникову, Дарью Трынкину, Дмитрия Антонова, Константина Богданова, Алексея Гайдукова, Дмитрия Громова, Дмитрия Доронина, Александра Панченко и Романа Шиженского за обсуждения, споры, гипотезы, советы и подсказки. На многое мы смотрим по-разному, но идем в научном поиске к одной цели.
Моей жене Ольге, первому читателю книги, – отдельное спасибо за терпение и вообще за все; мы вместе, и это здорово.
Кирилл Королев,
март 2025 г.
Глава 1
Что такое современное язычество
«Битва на гороховом поле». – Понятие современного язычества. – Слово «язычник» и его значение. – Язычество древнее и нынешнее. – «Латинское» и «подлинное» язычество. – Народ, вера, национализм. – Язычество как религия. – Почитание природы. – Направления современного язычества. – Четыре языка язычества.
Тридцать первого мая 1985 года в лесу Сэйвернейк в британском графстве Уилтшир остановился на ночевку так называемый «Мирный отряд» (Peace Convoy) – 140 автобусов, фургонов и легковых автомобилей. В процессии участвовали, по разным сведениям, от 500 до 600 человек. Переночевав в лесу, рано утром 1 июня процессия двинулась к месту назначения в окрестностях города Солсбери – туда, где расположен знаменитый круг мегалитов Стоунхендж и где с 1974 года проводился в дни летнего солнцестояния Свободный фестиваль.
Приблизительно в 7 километрах от Стоунхенджа дорогу автоколонне преградил полицейский заслон, а шоссе вдобавок оказалось засыпанным грудой гравия. Попытки добраться до места по проселкам тоже не принесли успеха: наряды полиции стояли повсюду. Тогда, по утверждению полисменов, несколько машин из состава конвоя попробовали прорваться сквозь заслон, пешие же «паломники» начали закидывать полицейских комьями земли и палками; кто-то якобы бросил самодельный «коктейль Молотова». В ответ полиция пустила в ход дубинки, принялась бить лобовые стекла автомобилей и арестовывать всех подряд. Как писал со слов очевидцев корреспондент газеты «Обсервер» Ник Дэвис, полицейские «без стеснения лупили по головам даже беременных и матерей с маленькими детьми». Колонна рассыпалась, перепуганные люди кинулись в придорожные поля, однако за ними устроили погоню: тех, кого удавалось догнать, снова охаживали «для порядка» дубинками и брали под арест, а машины «отряда» полицейские громили и поджигали.
Итогом «битвы на гороховом поле» (Battle of the Beanfield), как впоследствии стали называть историческую стычку «паломников» к Стоунхенджу с полицией, оказались десятки пострадавших в больницах (из них 8 полисменов), 537 человек были арестованы – им предъявили обвинения в нарушении законодательства (Верховный суд запретил в том году проведение фестиваля – еще до «битвы»); это массовое задержание гражданских лиц считается крупнейшим в истории Великобритании со времен Второй мировой войны. Против полиции подали 24 иска, и почти все они были удовлетворены, но сумма денежной компенсации покрывала лишь, по сути, судебные издержки.
Фестиваль 1985 года в Стоунхендже, разумеется, не состоялся, а «безопасную зону» вокруг кольца мегалитов на дни солнцестояния полиция поддерживала еще добрый десяток лет (одного из тех, кто все равно рвался к древнему монументу, арестовывали и штрафовали каждый год – это был вожак британских новых друидов, принявший имя Артур Утер Пендрагон, «в миру» Джон Т. Ротвелл). Только в 1999 году Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии вновь открыла ограниченный доступ к Стоунхенджу в эти дни, однако вскоре разрешение отозвали. Понадобилось решение Европейского суда по правам человека, чтобы внести в местные законы те поправки, на которых настаивали желающие посетить монумент именно в дни солнцестояния.
С 2000 года действует «режим ограниченного доступа», и новые «солнечные» фестивали в Стоунхендже – вполне официальные и уже далеко не такие свободные, как в 1970-х, – собирают ежегодно от 10 000 до 30 000 человек.
Кем были те люди, которые так настойчиво пытались прорваться к Стоунхенджу в роковой для них день 1 июня 1985 года? Обобщая – и держа в уме то обстоятельство, что многие, по их словам, ехали в Стоунхендж, чтобы побывать в «прославленном месте силы», – этих людей можно смело причислить к современным язычникам. Сам местный фестиваль по духу был, скорее, ближе к идеологии хиппи, но вот конкретно эта группа, пострадавшая от полиции, – так называемые New Age travellers, или «нью-эйдж-путники» – принадлежала к искателям альтернативной духовности, желавшим «напитаться энергией» из места силы, то бишь к язычникам в широком смысле этого слова.
Нью-эйдж и современное язычество
Движение нью-эйдж (буквально: «новая эра») объединяет множество людей, ожидающих наступления «эпохи преобразований», которая будет лучше и совершеннее нынешней и в которую человек радикально изменится и «вырастет над собой». Чтобы подготовиться к наступлению этой эпохи, следует усиленно заниматься саморазвитием через всевозможные духовные и телесные практики.
Французский социолог Паскаль Буайе считает движение нью-эйдж утешительной религией. Британский религиовед Джордж Криссайдс видит в этом движении сеть духовных общин, объединенных рядом ключевых идей. Сторонники движения полагают, что ни одна традиционная религия не в состоянии ответить на все экзистенциальные вопросы, что себя нужно воспринимать оптимистически (вплоть до отождествления с Богом) и что человеку необходимо самосовершенствоваться.
Как мы увидим в главе, посвященной синкретическим направлениям современного язычества, у идеологии нью-эйдж действительно много общего с новой религией (прежде всего с виккой – популярнейшим синкретическим вероучением, о котором пойдет речь далее в тексте книги), поэтому неудивительно, что в некоторых научных работах, а тем более среди широкой публики нью-эйдж и новое язычество порой объединяются или что викку иногда причисляют к направлениям нью-эйдж.
Но в целом это два принципиально разных духовных пути – язычники смотрят, скорее, в прошлое, где лежит их «наследие», тогда как ожидания сторонников нью-эйдж связаны преимущественно с будущим; для последних чрезвычайно важно «метафизическое совершенство» человечества, а язычники обыкновенно говорят о полноте духовного и физического развития; наконец, практики нью-эйдж больше направлены на личное развитие и «просветление сознания», а язычники в своих обрядах славят богов. По выражению американского религиоведа Майкла Йорка, это «две соперничающих религии».
Уж тем более подпадают под определение современных язычников «новые друиды», которые, собственно, и добились от Европейского суда права посещать монумент в дни солнцестояния. В мотивировке судебного решения указывалось, что представители любой религии вправе совершать обряды в своих храмах, а Стоунхендж является святилищем для приверженцев «древних и новых религий».
Если коротко, вторая половина XX столетия ознаменовалась среди прочего всплеском «обновленной», по выражению социолога Хосе Казановы, религиозности, прежде всего в Европе и США, – причем значительную часть новых религиозных движений (НРД) составили именно движения языческого толка.
К истории становления и развития современного язычества мы обратимся в следующей главе, а в первую очередь необходимо разобраться с самим понятием и проследить, как оно складывалось.
Хотя современное язычество как общественное явление насчитывает минимум полвека, в научной литературе и в публицистике до сих пор нет согласия по поводу того, какого названия это явление более всего заслуживает и какое название точнее всего передает его особенности. Употребляются в качестве синонимов такие обозначения, как «новое язычество», «неоязычество», «младоязычество», «возрожденное», «реконструируемое» и «современное» язычество, «старая вера» и «древняя вера», а в совокупность новоязыческих практик включаются практически все религиозные, парарелигиозные, квазирелигиозные, общественно-политические и культурно-исторические (связанные с культурным наследием) практики: по словам одного из ведущих отечественных исследователей этой темы Алексея Гайдукова, от гаданий, колдовства и коммерческой магии до теософии, учений нью-эйдж и религиозного синкретизма. («Паломники» в Стоунхендж, столь ретиво рассеянные британской полицией, по своему вероисповеданию принадлежали как раз к последователям многочисленных духовных учений нью-эйдж.)
На страницах настоящей книги будет использоваться термин «современное язычество» (англ. modern paganism) – как наиболее нейтральный по своему содержанию и наименее оценочный или пристрастный.
Но даже такое нейтральное обозначение, нужно отметить, вызывает возражения у части современных язычников. Они заявляют, что, во-первых, такое определение не может считаться правильным: «у нас не религия, а вера» – вера в «исконных» или «родных» богов, а данное определение придумано «церковниками и учеными», которым «надо было как-то описывать нашу веру» (из интервью одного современного славянского язычника). Во-вторых, само представление о язычестве как таковом сложилось, по мнению сторонников «веры в родных богов», благодаря христианству и подразумевает, следовательно, мышление в христианской «системе координат», то есть ставит национальные верования в заведомо унизительное и подчиненное положение по сравнению с общепринятыми, традиционными мировыми религиями, хотя эти верования, не исключено, древнее того же христианства.
Словом, язычники не очень-то хотят именоваться язычниками – и предпочитают самоназвание по тому или иному этническому направлению современного язычества, по той или иной «национально-племенной» принадлежности: славянские родноверы, западноевропейские «новые друиды», германо-скандинавские асатруа (последователи асатру) и так далее. Поэтому нередко можно встретить применительно к современному язычеству обозначения «этническая религия», «нативистская религия» и даже «туземная, местная» (indigenous) религия.
Слово «язычник» и его значение
Согласно этимологическому словарю русского языка Макса Фасмера, слово «язычник» происходит от церковнославянского существительного «язык» со значением «народ». То есть определение «языческий» исходно означало «иноплеменной, нерусский, иной веры» (а раз понятие «русский», как закрепилось в общественном мнении с XV–XVI веков, равно понятию «христианин», то «языческий», соответственно, – это «нехристианский»). Это слово соответствует греческому ethnikos – народный.
В других славянских и иных европейских языках для обозначения поклонения идолам употребляется слово «поганый» (англ. pagan от лат. pagus – деревня, сельская община), которое в русском тоже бытовало, но довольно давно изменило свое значение на «отвратительный, мерзкий».
А слово «язычество», производное от «язычник», и вовсе является поздним по происхождению – оно появилось в русском языке только в XVIII веке; Владимир Даль в своем «Словаре живого великорусского языка» дает ему такое толкование, актуальное по сей день: «Идольство, кумирство, идолопоклонство, обожение природы или истуканов заместо (христианского. – К. К.) Бога».
Любопытно, кстати, что среди самих ученых, которым современные язычники ставят в вину произвольное и некорректное употребление слова «язычество», имеются серьезные разногласия по поводу того, что же скрывается за этим словом. Одни специалисты утверждают, что язычество – это целый комплекс религий, обособленных друг от друга, зато другие (их, правда, меньшинство) считают язычество единой и цельной религией, своего рода универсальной религией природы, которая дробится на несколько направлений.
Эти другие находят у всех языческих направлений общий элемент – по выражению религиоведа Майкла Стрмиски, «стремление возродить политеистические природные культы дохристианской Европы и адаптировать их к потребностям сегодняшнего дня». Историк Воутер Ханеграфф полагает, что все языческие направления опираются на два убеждения: будто «идолопоклонство», столь сурово осуждаемое христианством, некогда выступало в качестве полноценного религиозного мировоззрения и будто ритуалы и практики, связанные с этим мировоззрением, возможно и необходимо возрождать в современном мире.
Направления в язычестве признаются «отпрысками» или ветвями одного общего «ствола», и подчеркивается, что многие из них подверглись и продолжают подвергаться, если угодно, «перекрестному опылению»: испытывают сильное влияние других направлений и сами на них воздействуют (к вопросу взаимного влияния языческих вероучений мы будем неоднократно возвращаться в тексте книги на конкретных примерах). Эта точка зрения выглядит достаточно убедительной, особенно если совместить религиозную оптику с мифологической, то есть с представлением об общей «прамифологии» индоевропейских народов, из которой постепенно – воспринимая различные сторонние влияния и оказывая взаимное воздействие – «прорастали» многочисленные этнические варианты, как то: греческая, римская, кельтская, скандинавская, славянская и другие мифологии, одновременно близкие и далекие друг другу.
В настоящей книге под современным язычеством понимается совокупность (ре)конструируемых мировоззренческих и обрядовых практик, альтернативных и оппозиционных официальным (прежде всего авраамическим религиям), направленных на «возрождение» и распространение в обществе «исконной» этнической/национальной веры (культа асов и ванов в Скандинавии, почитания «Владимировых богов» на Руси и тому подобное). При таком определении из рассмотрения исключаются разнообразные оккультные и теософские учения, большинство духовных практик нью-эйдж и обновленческие религии, для которых, в соответствии с христианской заповедью, «нет ни эллина, ни иудея». Безусловно, современное язычество, как будет показано далее, многим обязано квазирелигиозному движению нью-эйдж и, как ни забавно, традиционным религиям, которые на словах решительно отвергаются, но в целом само это социальное явление можно охарактеризовать как одну из форм романтического национального духовного возрождения.
Главная, пожалуй, особенность современного язычества состоит именно в его современности. Конечно, многие его последователи часто утверждают, что они «поклоняются богам, как встарь», а сетевые языческие ресурсы пестрят заявлениями о древних знаниях, якобы унаследованных или каким-то образом обретенных нынешними «идолопоклонниками», но все же всерьез говорить о какой-либо преемственности культов и о непрерывности традиции с незапамятных времен до наших дней не приходится.
Наглядным примером здесь может служить язычество славянско-русское: о древнерусских языческих божествах не сохранилось никаких сведений, за исключением нескольких имен, а те немногочисленные подробности культа, которые известны сегодня, представляют собой лишь догадки разной степени произвольности и обоснованности. Традиция, очевидно, прерывалась, причем неоднократно – и благодаря распространению христианства, и под влиянием советского атеизма, – так что современное славянское язычество есть, по большому счету, лишь реконструкция, крайне слабо связанная с настоящим, дохристианским язычеством, о котором мы ничего не знаем.
То же самое справедливо даже для наиболее «исторического» среди направлений современного язычества – германо-скандинавского асатру. Приверженцы этого направления ссылаются, как правило, на старинные тексты о деяниях богов и героев – на «Старшую» и «Младшую Эдду», а также на скандинавские саги, где встречаются не только краткие, но и вполне развернутые описания языческих обрядов: мол, вот заветы предков, которые мы тщательно соблюдаем, и вот обряды, которые мы отправляем «как раньше». Однако дело в том, что все эти тексты были записаны уже значительно позже христианизации скандинавских земель; они неизбежно подвергались искажениям вследствие смены культуры (а еще вследствие человеческого фактора – ошибок переписчиков и так далее), а значит, прямую линию от язычества древнего к современному провести опять-таки невозможно.
Paganism, heathenry, gentilidad
В неславянской языковой среде восходящий к латыни термин pagan («язычник»; впервые использовано в этом значении в форме paganus в официальном документе 370 года) нередко предпочитают заменять германским по происхождению словом heathen с аналогичным значением, тем самым подчеркивая «исконность» и дохристианское («долатинское») бытование языческой веры.
Как считается, первым ввел в употребление слово «неоязычество» (neopaganism) в 1960-х годах американский язычник, сооснователь «Церкви всех миров» и «чародей» Тимоти Зелл (Timothy Zell; он же Оттер Г’Зелл, Оберон Зелл или Оберон Зелл Воронье Сердце). Со временем это определение, впрочем, стало признаваться в языческой среде неудовлетворительным – в первую очередь из-за греческой по происхождению приставки «нео-»; по той же причине стал отвергаться и латинский суффикс – ism в слове paganism – заявлялось, например, что этот «христианский» суффикс унижает истинных язычников.
Поэтому сегодня многие западноевропейские и американские язычники выбирают для общего обозначения своей веры английское слово (восходящее к прагерманскому) heathenry, а некоторые даже противопоставляют слова paganism и heathenry как указания на два принципиально разных явления: первое якобы подразумевает антихристианскую ересь либо синкретические культы наподобие викки, а вот второе, собственно, и является «подлинным именем» современного язычества.
В науке, вопреки возражениям языческого сообщества, чаще используется «уничижающий» термин paganism (и neopaganism) с пресловутым латинским суффиксом.
Еще можно встретить в значении «язычник» слово gentil и его производные – в частности, в переводах Библии на европейские языки, но это устаревшее и «книжное», а не повседневное обозначение.
Разумеется, одни направления современного язычества в чем-то более традиционны, чем другие. Скажем, марийское и мордовское язычество – почитание священных рощ, совместные молитвы под руководством жрецов-памов и тому подобное в сравнении с язычеством славянско-русским выглядит более аутентичным, ибо у марийцев, к примеру, традиция языческого культа не прерывалась, как кажется, со Средних веков.
Но если присмотреться, это впечатление окажется ошибочным, и быстро выяснится, что и тут имеются свои подводные камни: то марийское язычество, которое сегодня «изобретается», по метафоре историка Эрика Хобсбаума, то есть заново (вос)создается городскими энтузиастами с опорой на этнографические источники, сильно отличается от язычества «деревенского», существующего параллельно «городскому» и близкого к «крестьянской магии». Какое из этих двух язычеств нужно признать более правильным и «чистым»?
Оба направления на протяжении столетий испытывали воздействие внешних факторов, соприкасались с христианской, исламской и буддийской культурами, преображались народным просвещением в имперскую и всеобщим школьным образованием в советскую эпоху, поэтому «чистота» современного язычества и в этом случае видится довольно сомнительной, а непрерывность традиции вызывает вопросы.
В общем, современное язычество вряд ли может сколько-нибудь обоснованно притязать на право преемственности в отношении язычества древнего, и это обстоятельство нужно принимать во внимание всякий раз, когда из уст современных язычников звучат рассуждения о «древних знаниях» и «вере предков».
Как пишет исследовательница нового скандинавского язычества Штефани фон Шнурбайн, «приставка „нео-“, обычная среди ученых и широкой публики в применении к язычеству наших дней, не должна нас обманывать. Она предполагает существование древнего язычества, которое необходимо восстановить и возродить. На самом же деле все обстоит ровно наоборот: неоязычество – исключительно современное явление, оно конструирует идеализированное культурное и религиозное прошлое, представление о котором проецируется на настоящее исходя из тех скудных источников, что почти не содержат сведений о дохристианских культах».
Современное язычество воспроизводит в своих обрядах не подлинную «суть вещей», а представления человека наших дней об этой сути.
В принципе, это верно для любых утверждений о прошлом, в особенности отдаленном: мы приписываем предкам собственный образ мыслей, нам хочется думать, что они действовали из побуждений, понятных для нас, в том числе поклонялись богам и воспринимали мир так, как воспринимаем его мы, но это крайне смелое допущение, противоречащее законам человеческого развития и общежития. Наш современник при всем желании не способен «перевоплотиться» в предка – помешают и материальные (эволюция индивидуума и общества), и психологические (воспитание, базовое образование) причины. Следовательно, любая современная социальная практика, будто бы воспроизводящая ту или иную практику прошлого, является по своему содержанию новой, сколько бы она ни рядилась в старые одежды. И современное язычество ни в коей мере не является исключением из этого правила.
Прошлое – чрезвычайно полезный символический ресурс, к которому нередко обращаются для того, чтобы подкрепить – легитимировать – какие-либо действия в настоящем. Теоретики и практики современного язычества тоже охотно прибегают к такому способу подтверждения мнимой преемственности своих воззрений, но нужно помнить, что это язычество, несмотря на все заявления о древности и все упоминания об авторитете предков, создается здесь и сейчас, буквально на наших глазах.
Другая заметная особенность современного язычества – его преимущественно национальный и даже националистический характер: люди хотят чтить «своих» богов, а не «каких-то чужих и пришлых», как сказал один язычник-родновер в личной беседе. Такие представления о «своих» богах носят выраженную этническую окраску: либо речь идет о почитании богов конкретного народа («наши русские боги»), либо предполагается культ божеств целого этноса («славянские боги», «германские боги», «балтийские боги» и так далее). «Свои» боги признаются частью культурного наследия того или иного народа/этноса, а почитание этих богов приравнивается к доказательству принадлежности человека к кругу радетелей «подлинно национальной» культуры. Все перечисленное дает повод отдельным исследователям характеризовать современное язычество целиком как националистическое и экстремистское духовно-религиозное общественное движение, представленное разнообразными локальными вариантами.
Отчасти с этим утверждением можно согласиться, – действительно, от вероучений некоторых радикальных языческих общин рукой подать до рассуждений о расовом превосходстве и «чистоте крови»: например, известны скандинавские общины, допускающие в свои ряды только тех, в чьих жилах течет «северная кровь», – кто может доказать, что среди их предков были германцы. Однако безоговорочное отождествление всех современных язычников с националистами (и уж тем более с экстремистами) вряд ли правомерно.
Во-первых, на таком основании в националисты можно записывать вообще всех, кто интересуется, скажем, дохристианскими древностями на территории Европы, хотя людей привлекает всего-навсего сам факт наличия древних памятников, которыми можно гордиться как достоянием и наследием своего народа или этноса. А во-вторых, среди направлений современного язычества достаточно и тех, которые вправе именоваться универсалистскими и которые не предполагают внимания к национальной составляющей, – та же викка, к примеру, совершенно безразлична к вопросам «почвы и крови». Так что обобщать здесь не слишком-то уместно, пусть национальные направления в современном язычестве все же и преобладают.
Попробуем разобраться с тем, насколько справедливы упреки в национализме и экстремизме в сторону современных язычников на примере такого национального направления язычества, как славянское родноверие.
В 1990-х и начале 2000-х годов в прессе появлялось множество публикаций, посвященных русским националистам-язычникам, к которым относили всевозможных правых радикалов и скинхедов; отзвуки этих рассуждений слышны по сей день. Быть может, отдельные язычники в самом деле примыкали к той, по словам социолога Владимира Прибыловского, «квазирелигии национализма и ксенофобии», которая на короткий срок утвердилась на постсоветском социальном пространстве, но большинство родноверов не проявляло ни малейшего интереса к политике (а национализм есть, конечно же, форма политического участия масс). Более того, в 2002 году полтора десятка славянских языческих общин приняли Битцевское обращение (своего рода «декларацию» родноверия), в котором прямым текстом сообщалось, что родноверы осуждают «любые проявления национал-шовинизма»; это обращение было реакцией языческого сообщества на кампанию в прессе и на нараставшую в обществе моральную панику в отношении язычников.
Под моральной паникой в науке принято понимать волну общественной тревоги, связанную с той или иной группой, якобы угрожающей моральным устоям или безопасности общества; обусловленная различными фобиями и стереотипами восприятия, такая паника раздувается падкими до сенсаций СМИ и нередко приводит к социальным изменениям, в том числе к принятию соответствующих репрессивных законов. Опасаясь подобной моральной паники, родноверы не ограничились лишь одним декларативным обращением; многие руководители славянских языческих общин выступали против так называемых «Русских маршей» и прочих политических акций, а также призывали общинников избегать публичной демонстрации языческой символики и вообще воздерживаться от действий, которые могут быть сочтены радикальными.
В результате сегодня, два десятилетия спустя, славянское родноверие сделалось почти полностью аполитичным, – но пресса и отдельные ученые время от времени все равно извлекают (видимо, по инерции) из «чулана памяти» жупел русского языческого национализма, давным-давно устаревший и не соответствующий текущему положению дел в языческой среде.
Сходная картина наблюдается и в других национальных «секторах» современного язычества, будь то герма-но-скандинавское асатру, балтийское «родоверство» или та же марийская вера предков. При всей своей несомненной этнической составляющей современное язычество старательно отгораживается от политического участия и едва ли заслуживает тех обвинений в радикализме, которые обычно выдвигаются против так называемых проблемных социальных групп (вроде футбольных фанатов).
По классическому определению социального антрополога Эрнста Геллнера, национализм – признак «большой культуры обезличенного общества». Современные язычники в процентном отношении составляют очень и очень малую долю населения тех стран, где это явление отмечается; то есть усматривать в современном этническом язычестве, маргинальном по своему общественному статусу, националистическую угрозу – явное преувеличение.
Но даже если допустить, что такая угроза существует, нельзя забывать о том, что современное язычество как социальное явление многомерно, что у него существуют не только политическое, но прежде всего религиозное, а также культурное, историческое, психологическое и даже экономическое измерения, причем политика здесь как минимум второстепенна. Сводить почитание «родных богов» исключительно к политике – значит целенаправленно или неосознанно закрывать глаза на важнейшую из сторон язычества, а именно на его религиозную основу.
Исторически язычество в религиозном смысле представляло собой протест – своего рода контррелигию, духовное и обрядовое возражение против той формы религиозности, которая тогда господствовала в обществе. При таком понимании, сформулированном египтологом Яном Ассманом, первым практическим воплощением язычества можно признать государственный культ единого бога Атона, введенный египетским фараоном и религиозным реформатором Эхнатоном (1300-е годы до н. э.) вместо привычного древним египтянам многобожия.
Да и христианство, в культуре которого и сложилось, собственно, понятие язычества, тоже поначалу выступало как контррелигия. Но по мере христианизации Европы и других континентов это вероучение неумолимо становилось главенствующим, а представления о язычестве как об особом типе архаической религиозности, альтернативной и оппозиционной христианству, стали приобретать то значение, которым они во многом обладают по сей день.
Романтические воззрения на язычество соотносят эту религиозность с древнейшими человеческими культурами, «языческие пережитки» которых европейские интеллектуалы старательно искали в народных и «высоких» культурах собственных обществ на протяжении XVIII и XIX столетий. Только к середине XX века исследователи религии осознали, что эти воззрения ошибочны, что нельзя трактовать христианство и другие мировые религии как неизбежный поступательный шаг на пути религиозного развития – от «неразумного политеизма», цитируя священника Александра Меня, к заведомо более упорядоченной и стройной системе верований. Язычество, при всей своей разнородности, равноправно с «большими» религиями и сосуществует с ними; оно принадлежит не прошлому, а настоящему, и нужно поэтому не искать его «пережитки», а попытаться понять, каковы признаки языческой религиозности и чем она может быть предпочтительнее для человека при выборе веры.
Конечно, может показаться, что этот подход перебрасывает мостик от язычества прошлых веков к язычеству нынешнему и подразумевает непрерывность традиции, за которую так ратуют многие современные язычники. Но прямой преемственности между язычеством историческим и современным, как уже говорилось, нет и быть не может: в конце концов, каждое явление свойственно конкретной эпохе с конкретными социально-экономическими условиями, определяющими среди прочего и типы религиозности. Тем не менее у язычества прежнего и сегодняшнего имеется общая черта – то самое качество контррелигии, которое характерно для всякого духовного учения, явно или неявно соперничающего с общепринятыми вероисповеданиями.
Если христианство помещает Божество за пределы мироздания, то в язычестве бог или боги находятся внутри мира, воспринимаются и «проживаются» человеком вместе с миром, и в этом отношении язычество одновременно религиозно и – применительно к христианскому вероучению – контррелигиозно.
Любая религия есть, упрощая, усвоенное мировоззрение, подкрепленное (или отягощенное) моралью, и по этому признаку язычество, прежнее и нынешнее, целиком и полностью соответствует определению религии. Любая же контррелигия опирается на осознанный выбор человека, разочаровавшегося по какой-либо причине в том вероисповедании, которое главенствует в современном ему обществе (тут можно вспомнить, к примеру, европейских протестантов, русских старообрядцев XVII столетия или «моду» на буддизм в христианских Европе, Америке и России/СССР в XX веке), и здесь язычество выступает наглядным образцом духовного нонконформизма для двухтысячелетней христианской эпохи.
Словом, язычество – в первую очередь тип и форма человеческой религиозности, в чем-то, разумеется, наивные и не такие утонченные, быть может, как «большие» религии, но вполне самоценные и самодостаточные.
Еще нужно выделить такую особенность современного язычества, как его, выражаясь научным языком, природоориентированность: почитание и даже обожествление природы составляют одну из главных его нравственных ценностей. Причем это почитание практически одинаково свойственно всем новым языческим направлениям, на какую бы национальную/этническую или культурную мифологическую традицию они ни опирались. Поклонение природе неразрывно связано со смутными представлениями о «золотом веке» далекого прошлого, когда человек жил в истинной гармонии с одушевленной природой; он приспосабливался к природе, а не приспосабливал ее к своим потребностям, поэтому современным людям, сберегающим «веру предков», необходимо возрождать «первобытный экоанархизм» (Роман Шиженский), ту самую первоначальную гармонию.
Даже если почитание природы не декларируется напрямую, как в культах земли-Гайи (earth-based cults, Gaia religion), то в манифестах и в сочинениях теоретиков различных языческих движений обыкновенно указывается, что мир вокруг погряз в «индустриальной скверне», губительной для природы, и язычникам предстоит переломить эту ситуацию, чтобы вернуть древнее блаженное единство с природой. В отдельных случаях «индустриальная скверна» переименовывается, как у одного из основоположников славянского родноверия волхва Велимира (Николая Сперанского), в глобальную потребительскую культуру, но и здесь спасением признается возвращение к природе, ведь, как писал Велимир в «Книге природной веры», человек – не хозяин природы, а ее составная часть и должен относиться к ней соответственно, потребляя ровно столько, сколько нужно для «достойного бытия».
Тут можно вспомнить знаменитую метафору классика социологии Макса Вебера, который рассуждал о «расколдовывании» мира в рационалистическую эпоху. Поклоняясь природе, язычники, по сути, стремятся «заколдовать» мир обратно, желая восстановить прежний естественный порядок. Этот порядок, конечно, не столько восстанавливается, сколько воображается – вполне в духе характерных для философии Просвещения представлений о «благородном дикаре». Как бы то ни было, единение с природой – несомненный языческий идеал, и поэтому, кстати, современные язычники нередко участвуют в различных экологических движениях и инициативах.
Производным, если можно так выразиться, от поклонения природе («родящей Земле») является языческий культ Великой Матери, или Богини, – самостоятельное направление в современном язычестве и часть идеологии многих других направлений. Шведская феминистка Моника Шьо (или Сьо, как транскрибируют ее фамилию в некоторых российских изданиях), активистка «движения Богини», утверждала, что, вопреки Зигмунду Фрейду, главным преступлением человеческого рода выступает не убийство отца, а изнасилование матери, шиллеровское «обезбожение Земли»: под матерью она понимала «вечную женственность, подвергаемую поруганию» в патриархальном, капиталистическом и христианском мире. Славя Богиню, язычники тем самым прославляют любовь, природу и саму жизнь.
Вообще, природа в разнообразии своих ипостасей может служить олицетворением современного язычества. Близость к природе, понимаемая очень широко, оказывается, если присмотреться, краеугольным камнем большинства языческих вероучений: «дух природы», «служение природе», «места силы» (преимущественно природные объекты) – все это значимые составляющие языческой экологии сознания.
Выше не раз упоминалось о том, что язычество, прежнее и современное, чрезвычайно разнообразно, что в нем имеется множество направлений. При беглом взгляде может показаться, что это обилие направлений из-за своего содержательного разнообразия едва ли поддается какой-либо классификации. Однако попытки внести порядок в мнимый хаос многочисленных языческих движений все-таки предпринимаются, причем как религиоведами, так и самими язычниками.
Например, американский язычник Айзек Боневиц, бывший друид и приверженец викки, предложил делить историю язычества на три этапа и распределять языческие направления по этим трем этапам. Первый этап – палеоязычество, или политеистические природные культы древних племен, причем сюда же относятся, по Боневицу, некоторые «большие» религии – классический индуизм, даосизм и синтоизм. (Занятно наблюдать такую трактовку этих религий в духе культурного империализма и гегелевской религиозной иерархии, по которой вероучения и вероисповедания Востока и Юга просто обязаны, в представлениях «белого человека», выглядеть архаическими и даже маргинальными.) Второй этап – мезоязычество, оно предполагает реконструкцию лучших вероучений и практик из палеоязыческого наследия и мировых религий; тут находится место таким общественным движениям, как масонство и розенкрейцерство, теософия и спиритизм, а также африканским в своей основе культам вуду, сантерии и кандомбле наряду с оккультным вероучением Алистера Кроули и ранними формами викки. Наконец, третий этап – неоязычество (neopaganism), или духовные движения 1960-х годов и более поздние, «очищенные» от налета монотеистических религий и «подверженные влиянию современного плюрализма»: Церковь всех миров Тимоти Зелла, друидизм, асатру и «либеральная викка».
Схема Боневица подчеркивает идею преемственности языческих вероучений (что ничуть не удивительно для современного язычника, которому для подтверждения собственных верований необходим авторитет прошлого) и оказывается крайне широкой: по сути, в эту схему не составит труда включить фактически любое эзотерическое учение, от древнегреческого культа Элевсинских мистерий до сегодняшних «сенсационных открытий» вроде славянской рунической тайнописи или «надиктованных инопланетянами» откровений. Однако несомненное достоинство этой схемы заключается во «взгляде изнутри»: это взгляд деятельного участника современного языческого сообщества, отражающий, насколько можно судить, представления современных язычников – во всяком случае, американских и западноевропейских – на развитие языческой религии и состав языческого движения.
Наука идет другим путем. Религиовед Майкл Стрмиска разделил все многообразие современного язычества на две крупные категории – язычество синкретическое (эклектичное) и язычество реконструкционистское.
Под синкретическим язычеством подразумеваются направления, которые заимствуют элементы вероучения и культа из разных источников. Таковы прежде всего викка и ряд учений нью-эйдж; кроме того, к этой же категории относятся, пусть и с оговорками, такие направления, как российское движение «анастасийцев», к примеру учение «Живой этики», американский «христопаганизм», псевдовосточный тенгризм и так далее.
Что касается язычества реконструкционистского, то здесь декларируется «возрождение» веры предков на основании этнографических, исторических и иных (нередко придуманных) источников. Таковы национальные по своему содержанию языческие вероучения – славянское родноверие, германо-скандинавское асатру, кельтский друидизм, армянский гетанизм, прибалтийские ромува и диевтуриба и пр.
Эта классификация тоже не лишена недостатков – скажем, она не учитывает возможность перетекания того или иного направления из одной категории в другую, как произошло с друидизмом, который из исходно национального британско-французского все больше становится синкретическим, – но все же она позволяет сориентироваться в пространстве языческих вероучений и составить первоначальное впечатление о «символах веры» современного язычества.
Другая схема, принятая в науке, исключает из современного язычества все учения нью-эйдж и прочие духовно-оккультные направления; в ней находится место только для трех собственно языческих категорий, довольно широких, впрочем, по своему охвату. Первая категория – это викка, или опыт личного развития и самосовершенствования через взаимодействие с иными, «потусторонними» планами бытия. Вторая категория – друидизм, под которым понимаются все религиозно-обрядовые практики, так или иначе связанные с воображаемой кельтской традицией («воображаемая» она в том смысле, что в этих практиках подлинная традиция, как правило, не столько восстанавливается, сколько придумывается – на основании современных представлений о ней). Третья же категория – это «исконное язычество» (heathenry), то есть реконструируемое язычество Северной и Восточной Европы: германо-скандинавские одинизм и асатру, славянское родноверие, финно-угорский шаманизм и тому подобное.
В таком обособлении «настоящего» язычества от всего того, что может казаться языческим прессе и широкой публике, но на самом деле таковым не является, имеется рациональное зерно – по крайней мере, с точки зрения современных язычников. Для них очень важно обозначить границы «своей» территории, обосновать религиозную истинность язычества и отделить свою веру от коммерческой эзотерики, популярной в современной массовой культуре, и от квазинаучных дилетантских фантазий.
Британский религиовед Колин Партридж предложил называть все обилие эзотерических представлений, бытующих в обществе, оккультурой (неологизм из двух английских слов, понятных без перевода: occult и culture). Это удачное определение распространяется на различные «девиантные идеи и практики» новой религиозности. Пусть язычество занимает в современном социуме маргинальное положение, оно все-таки вправе считаться коллективным мировоззрением, а сами язычники, разумеется, не согласны признавать свои убеждения «девиантными» и потому прилагают немало усилий к очищению языческих вероучений и обрядов от сомнительного содержания.
Недаром, например, современные русские язычники столь усердно открещиваются от любых связей с «псевдородноверием», к которому они относят расхожие домыслы по поводу «славянских рун», «славянских вед» и «новой хронологии». Все эти теории, как заявляется, ни в какой степени не близки «подлинному» славянскому язычеству и лишь дискредитируют родноверие.
В 2009 году общины «Круг языческой традиции» и «Союз славянских общин Славянской Родной Веры» даже выступили с совместным заявлением «О подменах понятий в языке и истории славян и псевдоязычестве»: из заявления следовало, что язычники категорически против того, чтобы в их ряды записывали последователей и сторонников «славянского руноведения» Валерия Чудинова, радикально-экстремистских «арийского космизма» Николая Левашова, «праславянской древности» Геннадия Гриневича или «славянского мироздания» Алексея Трехлебова (отдельные сочинения Левашова и Трехлебова включены Минюстом РФ в федеральный список экстремистских материалов). Правда, это заявление прошло фактически незамеченным, и сегодня в журналистских материалах и сетевых публикациях между настоящими родноверами и всей остальной отечественной оккультурой нередко ставится знак равенства, что продолжает беспокоить язычников. Отчасти именно поэтому родноверие вызывает порой достаточно острую негативную реакцию общества, чреватую новой моральной паникой с непредсказуемыми для движения последствиями.
На страницах этой книги совмещаются обе научные схемы описания язычества, вследствие чего к кругу рассматриваемых языческих направлений, вероучения и обряды которых составили материал для изложения, относятся следующие:
– асатру и одинизм, или германо-скандинавское язычество;
– ведовство и викка, или общеевропейское и американское «магическое» язычество с обилием условно кельтского наследия;
– друидизм, или кельтское язычество;
– культ Богини, включая сюда также поклонение Исиде и Гекате как проявлениям Великой Матери;
– «южные» направления язычества: кеметизм, условное древнеегипетское язычество; элленизм (именно так, в отличие от эллинизма как культурного явления) и римская вера (греческое и итальянское язычество); армянский гетанизм и семитское язычество;
– нативистские (этнические) религии и шаманизм;
– политеизм, европейско-американское почитание «всех богов»;
– родноверие, или язычество славянских и балтийских народов;
– уфология и прочие «религии человека наших дней» (по Карлу Густаву Юнгу).
Разумеется, задача дать сколько-нибудь полное описание всех без исключения языческих направлений в их историческом развитии и текущем состоянии нами не ставилась. Для решения такой задачи, во-первых, потребуется не одна книга, а во-вторых, современное язычество, как и всякое другое живое социальное явление, крайне динамично, и описание, верное, казалось бы, еще вчера, нередко оказывается ошибочным в наши дни, а уж завтра и подавно станет историей. Те же родноверы на раннем этапе развития движения и вправду склонялись к ультраправым воззрениям, но сегодня они в большинстве своем вообще аполитичны. Поэтому задаваться целью исчерпывающего описания попросту бессмысленно.
Также не рассматриваются многочисленные «околоязыческие» гипотезы и сенсационные «открытия», в изобилии представленные в сегодняшней массовой культуре, но лишь использующие «бренд» язычества для собственной популяризации.
Современное язычество и без того чрезвычайно разнообразно, так что любая попытка объять необъятное обречена на провал.
Даже беглый обзор новоязыческого вероучения позволяет осознать, насколько неоднозначно, противоречиво и разнородно это явление. Неудивительно поэтому, что любая попытка описать его более или менее последовательно сопряжена со значительными трудностями. Иногда складывается впечатление, будто между отдельными направлениями современного язычества нет ничего общего, что каждое из них возникает и развивается локально, без взаимодействия – хотя бы опосредованного – с другими. Однако это впечатление ошибочно, и сегодня в науке крепнет мнение, что разные новоязыческие религии составляют все же аморфный, но единый религиозно-культурный «текст», в котором вполне возможно проследить общие черты.
Британский историк Рональд Хаттон, автор нескольких книг о друидизме и викке, предложил для анализа современного язычества модель описания, которую он назвал «четырьмя языками»: это четыре способа «говорить о язычестве как явлении человеческой культуры» и, можно добавить, как режиме человеческой религиозности.
Первый язык, по Хаттону, «язык великого искусства, литературы и поэзии», то есть возведенная в статус непререкаемых шедевров античная классика. Это древнее язычество, которым следует гордиться, по заветам европейских классицистов-филэллинов XVIII столетия. Пример такого язычества – бесчисленные отсылки к античным мифологическим образам в литературных произведениях, восторг перед греческими и римскими статуями в музеях, восхищение сохранившейся античной архитектурой. Сегодня на таком языке говорят порой не только об античности, но и о народных дохристианских культурах, которые почти автоматически причисляются к «языческим».
Второй язык можно назвать негативным: «Язычники – люди, которые поклоняются идолам, приносят кровавые жертвы, их религия отражает первобытную степень дикости и невежества». На этом языке обычно рассуждает о современном язычестве духовенство мировых религий, и на нем же обыкновенно предпочитает изъясняться массовая пресса, подкрепляя такие материалы обвинениями в антиобщественном поведении в адрес язычников.
Третий язык сопоставляет современное язычество с интересом к древней мудрости и древности как таковой. Еще в эпоху Ренессанса в Европе среди интеллектуалов велись беседы об «изначальном богословии» (prisca theologia) и «вечной мудрости» (philosophia perennis), якобы существовавших в дохристианскую эпоху и впоследствии «растоптанных» и «забытых». Поиски древних народных «корней», свойственные многим нынешним культурам Европы, Азии и Америки, нередко приводят к тому, что ищущие начинают изучать языческие верования (в их историческом и современном воплощении, если не «пересказе»), чтобы лучше узнать ту или иную национальную/этническую культуру. По замечанию Хаттона, этот язык крайне важен для становления европейского нового язычества; если присмотреться к славянскому родноверию, нетрудно убедиться, что и на славянской почве язык древности вполне востребован.
Наконец, четвертый язык описания язычества – язык романтический: это язык поклонения природе и антицерковных (в том числе и антихристианских вообще) высказываний, язык прославления «благородных дикарей», проживавших в органической среде, которую не успели опорочить индустриальное развитие и «мракобесная теология».
Первые два языка в модели Хаттона – языки внешние, или этные, если воспользоваться рабочим термином современной социальной антропологии (англ. etic), то есть способы описания явления снаружи, при стороннем взгляде. Тогда как два остальных языка – языки внутренние, или эмные (англ. emic) по той же терминологии, характерные для самих участников явления, взгляд изнутри. (Термины etic и emic как производные от слов phonetic и phonemic предложил в 1950-х годах американский лингвист Кеннет Пайк; по-русски иногда говорят также об «этическом» и «эмическом», но тогда возникает неизбежная путаница, ибо термин «этический» начинают связывать с этикой.)
В целом эту модель можно признать достаточно удобной и подходящей в первом приближении для обсуждения современного язычества. В настоящей книге этные и эмные точки зрения будут регулярно сравниваться, дабы нагляднее проявлялись их сходства и несовпадения; таким образом получится, хочется надеяться, развеять некоторое количество мифов, окружающих современное язычество, и сорвать, перефразируя Дмитрия Мережковского, «завесу немоты» с «молчанья страшного языческого бога».
Глава 2
Становление современного язычества: краткая история до середины XX века
Язычник Ницше. – Предыстория: от Возрождения до романтизма. – Кельтомания и «тевтонская старина». – Друидизм. – Балтийское язычество. – Фёлькиш и «тевтонский дух». – Арманические руны. – Ранний одинизм. – Язычество в германском нацизме.
Кажется, стоило Фридриху Ницше провозгласить, что Бог умер, как по всей Европе стали появляться разнообразные новые религиозные культы, притязавшие на право потеснить и даже искоренить «опорочившее» себя христианство. Конечно, антихристианские выпады Ницше, при всем неоспоримом влиянии этого философа на просвещенную европейскую публику, не являлись побудительной причиной для такого развития событий. Уже с эпохи Реформации среди образованных людей вызревало мнение, что христианство нуждается если не в замене, то хотя бы в обновлении, и чем крепче становилось это чувство, тем охотнее люди брались за поиски альтернатив.
При этом для самого Ницше язычество – будь то религия Диониса или Заратустры, нападки на «помышления рабов» или прославление «белокурой бестии» – было скорее метафорой, нежели осознанным отказом от привычной религиозности. В конце концов, недаром он называл своего «Заратустру» пятым евангелием и рассуждал о новом пришествии благой вести. Однако так уж совпало, что эти философские упреки в сторону «религии угасания и смерти» дополнительно удобрили европейскую религиозную почву и дали многим мыслителям-традиционалистам, от Германа Вирта до Алена де Бенуа, лишний повод призывать к восстановлению язычества как религии, не затронутой «христианской пагубой».
Ниже мы увидим, что возврат к язычеству – разумеется, возврат условный, скорее вымышленный, чем реальный, – начался в Европе задолго до знаменитых слов Ницше. В каждом отдельном случае за стремлением вернуть «веру предков» стояли совершенно конкретные обстоятельства и убеждения, но все-таки возможно выделить в этой пестрой картине социальных взаимодействий некоторые общие черты, которые позволят понять, почему Европа после полутора тысяч лет господства христианской веры не просто взялась перенимать чужую религию, а вспомнила о давно как будто забытой вере собственной.
Предыстория: от Возрождения до романтизма
Древнее язычество, некогда процветавшее в античной Ойкумене, окончательно пало приблизительно в VI веке нашей эры, когда византийский император Юстиниан объявил жесточайшие гонения на все вероисповедания империи, за исключением христианства.
Этому событию предшествовал, если ограничиться лишь рамками нашей эры, краткий миг торжества двумя столетиями ранее, когда при императоре Юлиане Отступнике язычество стало равноправным с прочими религиями, но до образования полноценной языческой «церкви» дело все же не дошло.
Впрочем, и после гонений Юстиниана христианские священники в проповедях не переставали громить языческие обряды и суеверия, вкладывая в слово «языческий» самое разное содержание, – вплоть до того, что объявляли язычеством те варианты христианства, которые в чем-либо отличались от принятых в конкретном государстве (христианский канон еще сложился не до конца). Европейские хронисты сообщали о походах против «язычников», имея в виду то народы Северной Европы, то балтов и славян, а то и мусульман. Более того, в Великом княжестве Литовском язычество считалось допустимым до принятия христианства правителем Ягайло в конце XIV века.
Конечно, это были принципиально разные язычества, и уравнивать средиземноморские культы, испытавшие вдобавок сильное ближневосточное влияние, с языческими культами севера и востока Европы вряд ли правомерно. Однако такое «подспудное» и почти всеобщее бытование язычества даже после утверждения христианства, пусть в совершенно различных социальных условиях, подталкивает некоторых исследователей к рассуждениям о длительном существовании языческой Европы. Многие теоретики современного язычества охотно подхватывают эти рассуждения, подкрепляя ими собственные взгляды на непрерывность традиции. Вот только непрерывность при внимательном рассмотрении оказывается мнимой – на рубеже XIV–XV столетий «старое» язычество исчезло по всей Европе и превратилось из живой религии в наследие древних народов, в культурный и символический ресурс.
Осознание этого факта состоялось в эпоху Возрождения. Демонизированные было христианством античные языческие боги вернулись – уже как возвышенные аллегории Любви, Красоты, Порядка и прочих добродетелей. Византийский философ Гемист Плифон в своем трактате «О законах» и вовсе предложил принять новую государственную религию, отличную от христианства и ислама, – религию олимпийских богов, избавленную от кровавых жертвоприношений. Другие мыслители приступили к поискам «изначального богословия», будто бы свойственного древним народам; по замечанию историка Воутера Ханеграффа, «язычество словно достали из закромов».
Кроме того, в ту эпоху европейцы активно осваивали территории за пределами привычного круга земель, устанавливали новые торговые отношения и рассылали христианские миссии в отдаленные края; эти контакты с новооткрытыми культурами заставляли задумываться о том, насколько универсально европейское мировоззрение, в том числе в религиозном выражении, и справедливо ли отвергать все нехристианские верования как языческие и подлежащие искоренению. Да и в самой Европе все отчетливее ощущался интерес к национальному прошлому, благодаря чему языческое наследие, причем не только античное, постепенно становилось предметом изучения – и даже модным увлечением.
Именно это произошло, к примеру, с культурным наследием кельтов. В XVII–XVIII столетиях Западную (и отчасти Восточную) Европу охватила так называемая кельтомания: просвещенная публика отказалась от уничижительных насмешек в сторону «диких кельтов» и принялась наперебой восхищаться доблестью «славных галлов», сражавшихся некогда с римлянами, скупать и коллекционировать старинные рукописи и предметы кельтского – ирландского, шотландского, валлийского и бретонского – быта, искать «стародавние камни», интересоваться кельтской музыкой и кельтскими языками. Причина была проста: в кельтах вдруг увидели своих предков, наследие которых стало осознаваться как значимое для складывания современных наций.
Дополнительно «кельтоманию» подстегнула публикация в 1761 году «Поэм Оссиана» шотландского поэта Джеймса Макферсона – одной из наиболее известных в истории литературы мистификаций. Довольно долго читатели пребывали в уверенности, что Макферсон в самом деле отыскал и просто перевел на современный английский язык сочинения легендарного ирландского барда III века Оссиана, сына Фингала.
«Оссианизм» стремительно распространился по Европе; Гёте вложил в уста своего героя Вертера такие слова: «Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера», и с Вертером наверняка бы согласился любой европейский интеллектуал той поры; поветрие достигло и России, под чарами «Поэм Оссиана» побывали едва ли не все русские стихотворцы того времени, от Державина до Пушкина.
О кельтах в России
Один из пионеров отечественной любительской фольклористики Григорий Глинка (1776–1818) утверждал, будто скандинавские «Эдды» «повествуют о чине, порядке и происхождении цельтийских (кельтских. – К. К.) богов». Вальхалла была для Глинки «цельтийским раем», а Одину служили «цельтийские жрецы». Эти представления, отчасти обусловленные политическими соображениями, разделяли не только в России, но и в Европе, где среди германских народов – точнее, среди германоязычной элиты – кельтская древность довольно долго трактовалась как общее языческое наследие и лишь позднее уступила место древности «тевтонской».
Забавно, кстати, что в сочинении Глинки «Древняя религия славян» (1804) мимоходом упоминался историософский миф, популярный сегодня среди некоторых российских язычников и сторонников теории «русского приоритета»: «Славяне жили в соседстве с теми и другими (с греками и кельтами. – К. К.), и станется, в своих мечтаниях подражали и тем и другим, а может быть, и подлинниками в оном (в поклонении богам. – К. К.) обоим были».
А поскольку эти якобы древние тексты рассказывали о деяниях богов и подвигах героев, «кельтомания» затронула и религию: языческие культы кельтских богов старательно описывались по обрывочным сведениям в античных и средневековых хрониках – или и вовсе придумывались и выдавались за подлинные, как было с «Поэмами Оссиана» или с «монотеистической религией друидов» (см. ниже).
С тех самых пор «кельтомания», то ослабевая, то вновь усиливаясь, сделалась одной из составляющих общеевропейской культуры; в этом качестве она проникла и в новую религиозность современной эпохи, о чем свидетельствуют, в частности, такие новоязыческие направления, как друидизм и викка.
На севере Европы в XVII веке разворачивались иные процессы: в Швеции, например, усиленно конструировался готский миф – провозглашалось, что древние готы, покорители Рима, были выходцами из Скандинавии, следовательно, «варварское» северное наследие, вообще-то, древнее христианства, и этим наследием нужно гордиться. Натуралист Олав Рюдбек ничтоже сумняшеся заявлял, что Скандия (нынешняя Скандинавия) – прародина большей части человечества, колыбель культуры и веры: дескать, именно от «древних северян» греки и римляне заимствовали свою поэзию и мифологию, а египетские языческие культы были основаны «странниками из Маннхейма» («людского дома», то есть Скандинавского полуострова). Когда были опубликованы «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» и некоторые северные саги, где действовало племя геатов, эти тексты в Швеции признали лишним доказательством готской древности и исконности «готской веры».
