Сага белых ворон 1. Родное гнездо
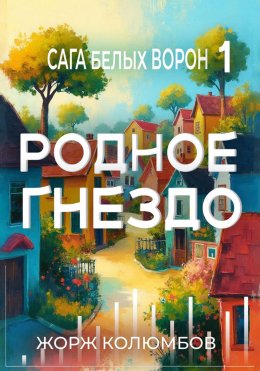
Пролог
…я начал вспоминать все с самого начала, перебирая слова и события так и эдак, выкладывая один за одним кирпичики своей жизни. И вот ведь какая штука: лишних не было! Каждый кирпичик был зачем-то нужен, без него общая картинка казалась неполной.
История моя получилась долгой и извилистой, совсем как дорога в песне «Битлз». Интересно, хватит ли у кого-нибудь сил и терпения пройти по ней вместе со мной?
А началось все с самого детства, с кирпичиков…
Глава 1. Торик
Март 1971 года, Город, ул. Перелетная, 5 лет
Анатолий Михайлович Васильев, пяти лет от роду, сидел на полу и играл в свои любимые кирпичики – одинаковые по размерам, но разных цветов: желтые, оранжевые и бледно-голубые. Иногда он обращал внимание на цвета и выстраивал из них пестрые ряды. Но чаще его интересовали формы. Ему нравилось, что из одинаковых и очень простых штучек можно сложить столько всего разного. Кирпичики притворялись то человечками, то машинками, то домами. А могли честно оставаться кирпичами, из которых можно сделать стену, воротца, домик, стол на ножках, да мало ли еще что.
Из приоткрытой форточки слегка тянуло прохладой, но очень не хотелось куда-то пересаживаться, пока шла такая интересная игра. Родители изо всех сил старались устроить все так, чтобы он всегда чем-то занимался сам, а не дергал их каждую минуту. И это у них получалось отлично.
У него были мама, папа и три бабушки – так уж вышло. Зато деда – ни одного. Правда, были два пожилых мужчины. Одного все называли дядей Мишей, хотя вообще-то он был братом бабушки. А с другим – совсем непонятно: его никак не звали! Хотя бабушки между собой говорили о нем странное и смешное слово – Жинтель.
Что Толе совсем не нравилось, так это его имя! Какую форму ни возьми, и все получается плохо и некрасиво: Анато-о-олий (будто сказочный персонаж), Толька (похоже на слово «только», ничего хорошего). Даже когда просто позовут «Толь!» и то звучит так, словно говорят о крышах – толь, шифер… Мама рассказывала, что могла бы назвать его Виктором или Романом. И главное, даже повод был! Он же родился точно в День Победы, когда вся страна устраивает парады. Виктор – это было бы здорово, а то какой-то «То-оля», тьфу! Но что поделаешь – имя есть имя, придется его носить.
Буквально в трех шагах сидел папа и монотонно повторял в большой серый микрофон одни и те же странные слова:
– Ульяна Анна три, Сергей Анна Павел! Прием?
Затем ненадолго замирал, слушая, что ему ответит «эфир». Папа сидел в наушниках, но Толя все равно слышал негромкие звуки: обычно папе отвечало шипение, и лишь изредка в нем, как рыбы из глубин, всплывали чьи-то искаженные голоса. Иногда папа оживлялся и начинал быстро говорить совсем другие слова. Но чаще всего просто медленно крутил ручку, осторожно обшаривая весь диапазон.
Радиостанцию папа себе сделал сам. Хотя слово «сделал» тут не подходит, поскольку процесс «делания» никогда не заканчивался. Папа все время что-то дорабатывал, менял одни блоки на другие, читал журнал «Радио» и черпал оттуда новые идеи. Особым предметом гордости папы служили две длинные антенны, развернутые по всей крыше дома.
В комнате уютно гудел мощный трансформатор, приятно пахло разогретыми радиолампами и ароматным сосновым дымком канифоли от горячего паяльника.
Мама готовила ужин. Своей кухни у них не было. За дверью начинался длиннющий коридор, где стояли пять газовых плит, на каждой по две конфорки. Вроде логично: как раз на десять комнат этого дома. Но часто получалось, что какая-то из женщин затевала стирку и занимала ведрами и тазиками сразу четыре конфорки. А все остальные – как повезет.
Бывало, что ретивых хозяек оказывалось сразу две. Тогда коридор наполнялся душным паром, едким от хозяйственного мыла, а оставшиеся женщины принимались громко кричать и ругаться. В такие моменты Толику казалось, что он живет в джунглях, а вокруг ходят дикие звери.
Но сегодня все было тихо. Конфорок хватало, мама дожаривала мясо, а разомлевшая картошка, укутанная в большое полотенце, пряталась под подушкой, чтоб не остыть.
Мама работала зубным врачом, и это было очень удобно. Во-первых, всего шесть часов в день, а остальное время – свободна. Во-вторых, ей нравилось общаться и помогать людям, а в медицине за это еще и платили.
На минутку заглянув в комнату, мама жестом попросила папу снять наушники.
– Что такое?
– Все уже, закругляйся со своим эфиром. Сейчас ужинать будем.
– Но я еще…
– Нет-нет, все. Вынеси ведро, заодно воды принесешь из колонки, там осталось всего на две чашки.
Папа вздохнул, смирился с неизбежным, положил наушники на стол и стал собираться. Эфир манил неясными звуками далеких стран.
* * *
В тот год, когда родители с маленьким Толиком приехали в Город, работу по профилю сразу найти не удалось. Папа устроился на завод, а мама – в скорую, ездила медсестрой на вызовы. Первое время снимали комнату у какой-то бабульки. Но семье хотелось иметь свой дом.
И тут на заводе возникла оказия. Совсем рядом располагалась целая улица многосемейных домов. Обитатели окрестили их «бараками», хотя они даже на настоящие бараки не тянули: электричество, отопление и газ в них были, а вот воду и канализацию подводить не стали. Жили там в основном семьи рабочих.
В одном из таких вот «бараков» был магазин. Но в управлении завода решили, что он больше не нужен. Освободилась одна комната, ее-то и предложили папе. Поначалу место ему не понравилось, но он все-таки сходил все посмотреть сам. И обнаружил сокровище!
Да, комната одна и маленькая. Зато под ней располагался не скромный погребок на два мешка картошки, как у всех, а огромный подвал размером чуть ли не больше самой комнаты! И это решило дело. Папа согласился временно пожить среди рабочих и даже гордился, что смог раздобыть жилье для своей семьи. Тем более что перспектива в ближайшие годы получить новую квартиру выглядела вполне реальной.
* * *
Когда папа с ведрами вернулся, мама уже почти накрыла на стол. Теперь можно и поужинать. В дверь осторожно постучали.
– Миша, вы дома? – послышался знакомый женский голос.
Папа открыл дверь, за которой обнаружилась его сестра, Азалия. Пестрое платье, округлая прическа, растрепанная ветром, и беззащитный взгляд сквозь очки с невероятным минусом.
– Здравствуйте. Решила посмотреть, как вы тут, на новом месте.
– Заходи, Лиечка! – мама всегда радовалась гостям. – Мой руки, мы как раз ужинать собираемся. Картошки с мясом положить тебе?
– Ой, мяса-то не надо. А вот если картошечки или, еще лучше, капХуски, будет отлично!
Азалия преподавала в университете английский и свободно разговаривала на нем. Иностранные языки порой сказывались у нее даже на русских словах. Свою любимую «капустку» она произносила с характерным британским придыханием, так получалась «капХуска».
– Капусты не обещаю, но огурчиков к картошке положу.
Тетя Аза привычно протерла очки платочком и огляделась:
– А вы тут неплохо устроились!
– Эти два шкафа и тумбочку Миша сам сделал! – похвалилась мама.
– Молодец какой, прямо как фабричные!
– Садитесь, все готово, – мама выкладывала на блюдце пупырчатые, остро пахнущие огурчики.
– А мне мяса положи, – задумчиво произнес папа и нажал клавишу.
Телерадиола «Лира» неспешно прогрелась, минут через пять мягко зазвучала музыка. Некоторое время слышались только стук вилок о тарелки и песня, что-то о смелых комсомольцах и великих перспективах. Папа поморщился:
– Опять бодряческое поют.
– А ты как живешь, Толя? – спросила тетя.
– Дык ему-то что. Даже в школу пока не ходит, – припечатал папа.
– Мам, ну почему меня так назвали? – грустно спросил Толик.
– Тебе разве не нравится? – удивилась тетя. – Имя как имя. Вот мне всегда непросто новому человеку объяснить, почему я Азалия.
– И почему?
– Ну как же! Бабушка твоя – цветовод. И дочерей назвала цветочными именами – Азалия и Резеда. Красиво, необычно, но нам теперь всю жизнь объясняй. Люди изумляются, спрашивают…
– А тетя Таня?
– Татьяна у нас – старшая. Видимо, тогда еще мама не осмеливалась назвать ее непривычно.
– Папу тоже не стали цветком называть!
– Хм… Интересно, а бывают мужские цветочные имена? – хихикнула тетя. – Его назвали в честь дяди Миши, ты ведь уже видел его в Кедринске, когда был у нас?
Толик кивнул, вспомнив согбенную фигуру с большим горбом, а тетя посмотрела на папу.
– Дядя Миша у нас – легендарная личность, да, Миш?
– Ну, еще бы! – поддержала мама. – Спину сломать в детстве – это ведь очень тяжелая травма, сынок, он вообще умереть мог! Но все пережил и каких больших успехов потом добился – стал инженером, преподавал в московском вузе. И даже женился на актрисе театра.
– Дело не в этом, – папа доел мясо и теперь был готов к обсуждениям. – Дядя Миша во многом был первопроходцем. Первым в Кедринске завел фотоаппарат, научился отлично фотографировать. Первым освоил радиосвязь и цветные диапозитивы.
– И тебя приобщил, – добавила мама.
– Чем же тебе имя твое не угодило, бедный Йорик, бедный Торик? – вернулась тетя к истокам беседы.
– То-орик? – Толя даже печеньем поперхнулся, до того пронзило его это новое обращение. Мысль мигом переросла в действие: – Ма-ам!
– Даже не мечтай! – нахмурилась мама. – Какую-то собачью кличку выдумали! У тебя нормальное человеческое имя. Как у Анатоля Франса!
– А мне противно быть Толей! Мне так не нравится. Пап, можно я буду Торик? Хотя бы дома, а?
– Лия, ну смотри, что ты наделала, – упрекнула мама. – Теперь у нас собачье имя… Шарик-Бобик какой-то!
– Ну ма-ам, ну пожалуйста!
– Да пусть, может, поиграется? – предложил папа. – Через недельку надоест, и мы со спокойной душой вернемся к нормальной жизни. А ты, Аза, иногда все-таки думай, что говоришь!
– Да я же пошутила!
– Пап, мам, можно я пока побуду Ториком?
– Миша, я против!
– Вер, да ладно тебе. Хорошо, побудь Ториком. Наиграешься – все равно забудешь.
Он не забыл. Этот придуманный вариант имени понравился ему гораздо больше настоящего. Мама с папой постепенно привыкнут. А там – кто знает – может, привыкнут и другие?
Они еще немного поговорили, и тетя засобиралась домой.
– Ладно, пойду я. Спасибо за угощение. Торик! До свидания!
– Ох… – тяжко вздохнула мама.
– Пойду почитаю, – сказал… теперь уже Торик, вылезая из-за стола.
Мама нагрела тазик воды и возилась с посудой. Папа радостно надел наушники, вновь ускользая в свой призрачно-эфирный мир. А Торик забрался с ногами на диванчик у стены с теплым красным ковром, раскрыл рыжую книгу и погрузился в приключения Винни-Пуха. Оказывается, этот жизнерадостный медведь по ночам страдал от кошмаров, где ему являлись то страшный слонопотам, то неведомый топослонам. Но Пух все-таки победил…
– О, пять-аш, Танзания! – вдруг воскликнул папа. – Надо же! Какой-то радиолюбитель даже там есть! Ни разу такие не попадались!
– Это где-то в Азии? – неуверенно уточнила мама.
– Нет, Восточная Африка, там рядом Занзибар.
– «…Занзибара и Сахары»! – радостно подхватил Торик, услышав знакомое слово. – Так написано в книжке про Айболита!
– Да-да, тот самый. Только Занзибар – это остров, вернее, архипелаг, а Сахара – большая пустыня.
Географию папа знал отлично. Запросто мог по памяти нарисовать от руки любой уголок любого континента. Папа всегда мечтал о путешествиях, но пока странствовал только по «эфиру». Зато уж этому хобби отдавал себя без остатка. Эфир давал ему возможность пусть не увидеть, но почувствовать мимолетную связь с людьми, находящимися в тысячах километров.
Папа торжественно достал карандаш и поставил новую яркую точку на карте мира, что висела на задней стороне его шкафа.
Уже засыпая, Торик уловил первые признаки, что ухо опять разболится. За пять лет уши у него болели раз тридцать. С этим ничего не поделать, только собрать волю и ждать, пока пройдет.
Вот так Торик и жил. Но это «внутри», дома. А было еще и «снаружи».
Глава 2. Друзья
Октябрь 1972 года, Город, ул. Перелетная, 7 лет
Торик понемногу привыкал к школе. Ему казалось непривычным, что так много ребят собрали в одной комнате, где надо сидеть и не только слушать, но и отвечать на внезапные вопросы учительницы.
Но сегодня воскресенье, в школу идти не нужно. На улице еще тепло, можно погулять. За дверью вяло переругивались, потом закричали и хлопнули дверью. Вчера к кому-то из соседей приехали родственники из деревни, потом еще пришли друзья, всю ночь играли в карты под водочку, выкрикивая нестрашные проклятья и припоминая старые обиды. Потом то ли били кого-то, то ли гнали, Торик не понял, он уже крепко спал.
* * *
Здесь иллюзорный Торик, вспоминающий свое детство, мысленно усмехнулся. Забавно: дети любую реальность воспринимают как норму. Для них это не странно, не прекрасно и не жутко, а «как всегда». Им не с чем сравнивать, поэтому они считают, что вот так все и должно быть. Зато при этом каждую минуту готовы встретить чудо. А вот взрослые теряют оба этих качества. Они забывают даже свои собственные ощущения из детства. Хотя не все: сам Торик почему-то не забыл. Ладно, что там было дальше?
* * *
Папа сидел за радиостанцией, сосредоточенно вслушиваясь в россыпи морзянки.
– Пойду гулять, – на всякий случай сказал Торик.
Папа лишь отрицательно мотнул головой: не мешай!
Торик наконец вышел из душного коридора на улицу и огляделся. Его дом располагался в самом центре улицы из точно таких же «бараков» цвета бледной охры, и центром всего этого была площадь, одна на всю улицу Перелетную.
Слева был сквер, а справа – клуб, где показывали кино. А вот если обогнуть клуб, там будет неприметная дверка. И пусть взрослые называли ее призаводской библиотекой, Торик знал: это место просто ломится от сокровищ. Библиотекарша поначалу отнеслась к нему настороженно: дети редко заходили сюда, в основном брали книжки с картинками. Но постепенно Торик заслужил ее доверие и теперь мог брать любые книги, какие захочет. Вот это было интересно! А бегать шумной ватагой, скакать через заборы или мериться силами на кулаках – ну уж нет. И почему только все ребята считают как раз наоборот?
Хотя прямо сейчас ему не хотелось читать. Он бы с удовольствием поиграл с кем-нибудь, но друзей было мало. Знакомиться Торик не научился, поэтому привычно бродил один. Заглянул в сквер, где на ярко-голубой деревянной эстраде девчонки показывали друг другу «сценки». Две девочки неумело пели:
Подружка моя, как тебе не стыдно?
Дома маме не поможешь, думаешь, не видно?
Торик поморщился. Ну кто так поет? Что за песня? Что за голоса? Музыка на пластинках звучала совсем не так. Мама или бабушка Саша тоже пели чисто, уверенно и красиво. Их было приятно слушать. А эти… Он не понимал, что девчонкам просто хотелось попробовать себя, преодолеть застенчивость. Сам бы он, например, ни за что не вышел на сцену, хотя дома, с мамой, они пели часто.
Торик уныло прошелся по краю маленького стадиона, где ребята постарше гоняли консервную банку, изображающую футбольный мяч. Зачем?!
Послышался радостный лай, и черно-белый мохнатый вихрь закружился вокруг Торика, попутно умудрившись подпрыгнуть и лизнуть его прямо в нос.
– Пират! Ты куда? – донеслось сзади.
– Пашка! – обрадовался Торик. – Тебя отпустили гулять?
– Мамка опять лежит, – смачно сплюнул под ноги Паша Бычков. – Сказала, чтоб я до ужина не возвращался, а то к нам вчера дядя Валера пришел, так они с тех пор и…
– У вас же дядя Игорь… вроде? – смутился Торик.
– Да фиг поймешь их, взрослых, – сердито процедил Пашка. – Мало ли кто приходит, а потом… «…Вот она была – и нету…» – внезапно запел он.
Пел Паша здорово, еще в первом классе его взяли в детский хор.
Торик знал Пашку с детского сада. К тому же Бычковы жили в соседнем доме. Хозяйственная тетя Галя, Пашина мама, раскопала в палисаднике пару грядок, посадила картошку, завела даже небольшую собачью будку, куда вскоре приспособили жить дворняжку по кличке Пират. Но вот незадача: нрав у Пирата оказался дружелюбный, поэтому сторожить собственность он так и не научился. Зато охотно носился с Пашкой, куда бы тот ни направился.
– Пошли на завод! – весело предложил Пашка.
– А пошли, – радостно согласился Торик.
На заводе всегда найдется что-нибудь интересное. То техника движется, то маневровый тепловозик тащит вагоны. Ребята постарше знали, где на заводе можно раздобыть карбид, ловко утаскивали его и устраивали шумные взрывы. Но друзьям такое развлечение казалось слишком опасным.
Пират деловито описывал большие круги, успевая обнюхать все встреченные столбики и деревца. Друзья прошли мимо длинного ряда сараев и оказались на горке. Точнее, это зимой здесь устраивали горку и катались с нее на чем придется. А сейчас «горка» превратилась в то, чем она и была на самом деле – пологой крышей закопанного в землю бомбоубежища.
С Пашкой было легко и понятно – у них находилось множество общих занятий и интересов. Хотя сам Паша предпочитал бегать, а не сидеть. Ну… должны же у человека быть недостатки!
* * *
Вот с Семеном все вышло иначе – сложнее и проще.
Поначалу Торик на этого Семена и вовсе внимания не обратил. В классе учились почти два десятка новых мальчишек и почти столько же девчонок – поди упомни всех. Но школа располагалась довольно далеко, и домой Торик шел пешком минут сорок.
Как-то раз по пути он услышал голос:
– Погодь, а ты тоже на Перелетной живешь? Че-то я тебя ни разу там не видел.
– И я тебя. Ты в каком бараке живешь?
– В каком еще бараке? Я в доме живу, в двухэтажном!
Внезапно Торик понял. Да, на Перелетной стояли не только бараки. Около магазина была еще пара кварталов желтых домов. Обитателям бараков они казались чуть ли не элитными: там целых два этажа, и даже туалет прямо в доме – немыслимая роскошь, никуда ходить не надо. Рассказывали, что некоторые еще и душ себе сделали. Бывает же! Самого Торика мыться водили к бабушке или в душевые завода.
– Ты ведь Семен? Ну, пойдем вместе, – сказал Торик, будто дорога была его собственной, куда можно пускать или не пускать других.
И они пошли. В этот раз, да еще много-много раз… У них обнаружилось много общего. Дядя Сережа, папа Семена, тоже любил паять схемы, хотя и не был радиолюбителем. Он был скорее радиопрофессионалом – работал на Радиозаводе, а дома собирал всякие интересные штуки, от автоматики открывания штор до обновлений для старенького магнитофона.
Тетя Зина, мама Семена, работала бетонщицей на заводе. На этой должности люди хорошо зарабатывают, но долго не выдерживают: работа трудная и вредная – со временем начинают трястись руки, а то и все тело. Но пока она была молода, задорна, полна решимости и не боялась никаких трудностей.
Семен, как и Торик, оказался рассудительным. Но если Торик любил порассуждать абстрактно, попробовать идею на вкус, обсудить ее тонкости и мысленно положить на нужную полочку, то Семен мог поговорить, узнать новое, а дальше ему хотелось сделать что-то конкретное руками. Иначе зачем было говорить? Он был практиком. А еще с ним было интересно.
Но потом все внезапно закончилось.
* * *
Пришла зима. Дети радовались каникулам, взрослые залили каток, кто мог – катался на коньках, кто не мог – просто носился по улице. Бомбоубежище снова превратилось в отличную горку. Даже Торик, такой далекий от спорта, пару раз тоже покатался с горки на картонке. Но вообще… суета, толкотня, визги – нет, это не для него.
Каникулы закончились, дети снова потянулись в школу. Но Семен так и не пришел. Однажды Торик увидел в школе тетю Зину. Очень грустную, щеки ввалились. Когда она увидела Торика, глаза ее недобро сверкнули, а потом она отвернулась, будто не узнала его. Странно!
На втором уроке учительница объявила, что Семен пока не будет ходить в школу, он сейчас в больнице. Позже его можно будет навестить. Вот тебе раз… Только найдешь себе друга – и нет его!
Но это оказалось лишь верхушкой айсберга.
* * *
Вечер начался как обычно. Папа перепаивал схему, чтобы радиостанция стала еще чувствительней и могла ловить передачи из самых дальних стран. Мама приготовила котлеты с макаронами и теперь заправляла маслом салат из квашеной капусты. Запах от салата шел просто восхитительный. Торик отложил книгу и предвкушал, как через пару минут они сядут за стол. Поесть он любил.
Внезапно в дверь постучали. Родители тревожно переглянулись. Сегодня они никого не ждали.
– Кто там? – мамин голос звучал напряженно.
– Васильевы здесь живут? – послышался мужской голос. – Нам нужно поговорить.
Открыли дверь, и в комнату вошел дядя Сережа, папа Семена, оглядел комнату, поздоровался и неуверенно засопел. За ним прошла и тетя Зина. Она старалась выглядеть спокойной, вот только взгляд метался, а одна рука нервно тискала другую.
Мама растерянно сказала:
– А мы как раз ужинать собрались. Чаю налить вам?
– Нет, мы на минутку.
– Семик-то наш в больнице лежит, – жалобно протянула тетя Зина и снова сверкнула глазами на Торика.
– А что с ним такое? Заболел? – в маме явно проснулся медик.
– Он упал и сильно ушибся, – сдавленно прогудел дядя Сережа. – Они на улице играли, тут, говорят, горка есть, куда все ходят.
– Да, есть горка у завода, – растерянно подтвердил Торик.
– А еще там сараи, да? – резко спросила тетя Зина. – Ребята на них залезают и прыгают с крыш в снег. Ты тоже там прыгаешь?
– Не-ет, – удивленно протянул Торик.
– Не «нет», а «да»! – сурово припечатал дядя Сережа. – Нам все рассказали.
– Да вы что! – возмутилась мама. – Толя никогда…
– Три человека! Трое! – дядя Сережа поднял вверх три пальца и почти кричал. – И все сказали, что ваш Толя залезал на крышу и прыгал.
– И Семика туда черти понесли! – тетя Зина чуть не плакала. – А Толя ваш его толкнул, и Сема упал с крыши, и не в снег, а на бревно! Весь расшибся. Доктор сказал, что удар был очень сильный, так что селезенку спасти не удалось. Ваш Толя изувечил моего ребенка!
Родители потрясенно смотрели то на Торика, то на эту странную пару. Не может быть. Кто угодно, только не он!
– Ты там был? Прыгал с крыши? – мама пыталась сохранять спокойствие, но голос ее сорвался.
– Нет, мам, ты что!
Торик испугался не на шутку.
– Тебя видели ребята, они сказали, именно ты толкнул Семена, – заявил дядя Сережа.
– Неправда! – искренне возмущался Торик. – Я туда даже не залезу!
На миг повисла напряженно звенящая пауза.
– В общем, так, – голос дяди Сережи звучал теперь уверенно, словно он принял решение. – Я понял: правды нам не найти. В милицию на вас мы заявлять не будем.
– Как? – вскинулась тетя Зина. – У нас же…
– Не бу-дем, – заключил дядя Сережа. – Не надо, Зин. Но вам скажу так. Мы больше не хотим, чтобы Толя приходил в наш дом. Семену скажем, чтобы к вам не ходил. И в школе не разговаривайте. Понял?
– Понял, – уныло буркнул Торик.
– Знаете что… – начала кипятиться мама, но тут словно проснулся папа.
– Вера, не надо. Так будет лучше.
– Миш, но они же…
– Не надо. Насильно мил не будешь. Еще что-нибудь скажете? – обратился он к родителям Семена.
– Нет, это все. Пойдем, Зин.
И дверь за ними закрылась.
– Кошмар! – не унималась мама. – Приходят, обвиняют ребенка черт-те в чем!
– Они думают, что Толя виноват, – рассудительно заметил папа. – Нас там не было, а люди наговорят всякого, сама знаешь.
Ужин прошел в молчании.
Торик ворочался на своем диване и пытался понять, как так получается: находишь друга, и вдруг его так нелепо отбирают. Первая потеря, нелепая и несправедливая, огорчала и душила слезами. Он всхлипнул. Но потом затих и задумался: интересно, такое случается само собой, нечаянно? Или… жизнью людей кто-то управляет, подталкивая их в нужную сторону? Какая странная мысль, еще успел подумать он и уснул.
Но в зыбкий момент перед самым его засыпанием где-то в коконе своих неведомых глубин легонько пошевелилась Судьба. Она-то уж точно знала, что с кем произойдет, когда и – самое главное – зачем.
Глава 3. Кедринск
Август 1973 года, Кедринск, 8 лет
А потом было лето… Хорошо, когда у тебя есть бабушка. Еще лучше, когда две: можно жить то у одной, то у другой. И бабушкам не обидно, и Торику разнообразие, ведь это два очень разных мира, каждый со своим укладом и людьми.
Сегодня Торик проснулся у бабушки Саши. Когда-то в этом крестьянском доме под соломенной крышей родилась мама, но с тех пор многое изменилось. Крыша теперь настоящая и покрыта шифером. Недавно провели электричество, подключили радиоточку. Правда, готовила бабушка по-прежнему на печке да на керосинке, а вместо холодильника молоко и масло ставили в тазиках прямо на землю в «прихожей», которая здесь называлась «сенцы» – маленькие сени.
Громко цыкали маятником часы, тяжелая гирька медленно опускалась все ближе к полу. На часах – кошачья мордочка, а в прорезях с каждым качанием маятника лукаво бегали зрачки зеленых глаз.
– Доброе утро! – раздался вдруг задорный девичий голос. – Вы слушаете «Пионерскую зорьку»!
– В эфире «Пионерская зорька», – бодро подхватил парень.
Зазвучала музыка, начались репортажи с мест, но это мало интересовало Торика. Он неуклюже сполз с печки-лежанки, где была устроена постель, натянул шорты и рубашку, убавил громкость радио и уселся на сундук за стол.
– Проснулси никак? Оладушки буишь?
Скрипучая дверь, обитая толстым слоем дерюги, впустила в дом бабушку Сашу.
Торик без труда понимал ее выговор, хотя отвечал на привычном, городском, не пытаясь ее передразнивать. Вот бабушка Маша, ее сестра, прожила лет на двадцать больше, так ее понимать сложнее. Поначалу в их семье было девять братьев и сестер, а потом… Не все мужчины вернулись с войны, женщины выходили замуж и уезжали, родители умерли.
На стене висели пожелтевшие фото – без рамок, просто так, почти весь семейный архив. Там, в застывшем мире прошлого, все еще были живы и жили вместе, здесь. А теперь в доме остались только две сестры.
– Буду, конечно!
Когда бы он отказался малость подкрепиться? В этом Торик очень поддерживал Винни-Пуха. Бабушка довольно улыбнулась: какое счастье, когда не надо внука уговаривать!
– А на обед, тадазначица, у мине запланирван кулешик грибной, помнишь, вчарася говорушки-то собирали с тобой?
– Помню, много нашли за Гневней.
Торика позабавило внезапно всплывшее у бабушки официальное словцо «запланирован». Говорушками местные жители называли луговые опята. Бабушка – большая мастерица по части приготовить что-нибудь вкусное буквально из ничего. «Жись каво хошь научит», – невесело усмехалась она каждый раз, когда Торик узнавал от нее что-то новое. Как вместо мыла можно стирать травой мыльнянкой, а стебельки «баранчиков» (первоцвета) не просто можно жевать, они еще и больное горло лечат.
– На вот, пойишь, оно и голова враз просветлеется, и в руках силы прибавится, – приговаривала бабушка, ловко расставляя на столе оладьи, творог, печеное яйцо, хлеб и чашку чая.
– Я тож тады ща-аю попию, – неожиданно присоединилась бабушка Маша, старшая сестра бабушки, живущая вместе с ней. – Я хучь яво и не люблю, но штойто яблыщка хотца.
Дрожащей рукой она взяла маленький нож с кривым лезвием, неспешно покрошила еще зеленое яблоко, высыпала в чашку с чаем и накрыла сверху блюдцем.
– Зуб нету, – донеслось сквозь череду пыхтения, – а йись-то хотца. Няхай варятся, они-то, они-то.
Торик мысленно перевел для себя: «Зубов нет, но есть хочется. Пусть заварятся, полежат так, оставлю». Бабушку при желании вполне можно понять.
– Спасибо, – сказал Торик, вылезая из-за стола, – я пойду?
– Уходишь уже? – огорчилась бабушка.
– К вечеру вернусь, – пообещал Торик. – К ним сегодня дядя Миша приезжает, будут разговоры…
– Разговоры-д-разговоры, слово к слову тянется… – вдруг звонко запела бабушка. Она легко переходила к песням, словно песни жили рядом, только потянись. – Ладно тада, ступай с богом. Время не дремя!
«Время не спит»? Торик улыбнулся. Сколько же у бабушки крестьянских поговорок и пословиц! На каждый случай из жизни – не менее дюжины. Вот тебе и неграмотная крестьянка!
Скрипнула и притопнула толстой дерюгой дверь. Через сенцы, через терраску, оклеенную смешными картинками из журналов, Торик выбрался на улицу и огляделся. Старенький, замазанный глиной дом Жинтель покрыл тонкими досочками и покрасил. Прямо перед окнами росли высоченные, с человека, золотые шары. Вокруг раскинули свои огромные ветви клены, а за домом виднелась вершина холма, который местные жители с почтением называли гора Гневня.
Почему – уже никто не помнил. Кедринск – поселение древнее, старше самой Москвы будет. Но рассказывали так. Некий то ли князь, то ли царь, приехав сюда, очень рассердился на свою супругу, разгневался да и скинул ее, неугодную, с той горы вниз. Будто бы в память об этом и назвали холм. Дальше будет Покровский бугор, за ним – Почтовая гора. Но это уже далеко, у дома бабушки Софии, куда предстояло сейчас идти.
Внизу шумел широкий ручей, который когда-то называли речкой Пральей. Мама рассказывала, что в детстве в этой речке купалась. Как же все изменилось, кто бы мог подумать! Сейчас даже нескладный Торик, разбежавшись, мог перепрыгнуть эту «неодолимую преграду».
Чуть в стороне от дома, у старой антоновки, торчал, скособочившись, лилово-коричневый картофельный погреб. Как хорошо бывало забираться на его нагретую солнцем плоскую крышу и лежать, в небеса глядючи и обо всем на свете размышляючи. Или сидеть, свесив ноги и радуясь разнообразию зеленого вокруг, не забывая грызть очередное яблочко. Антоновка, снова зовешь к себе? Нет, только не сегодня!
Приезд дяди Миши всегда означал новости, вкусности и всяческие интересности. Пропустить такое – все равно что отказаться от торта, когда тебе его уже дали. Торик с чувством вдохнул запах луговых трав, спустился с пригорка, где остался грустить бабушкин дом, и отправился в путь.
«Дорога туда. Дорога сюда. Дорога ВЖК» – вспомнился указатель из Волшебной страны, так ярко описанной Волковым. Дорога, вымощенная желтым кирпичом, манила и тут. Хорошо, пусть не вымощенная, пусть без кирпичей, зато целая дорога чистого желтого песка.
Идти было легко и приятно. Лето пахло то нагретым песком, то терпкой крапивой, то водорослями с реки, а жизнь казалась нескончаемой. Вот справа остался новый колодец. Ворот, узкое общее ведро на длиннющей цепи…
Дальше слева стоял «Зюзин дом», покосившийся, по окна вросший в землю. В его тени притулился замшелый пенек, где неизменно сидела и сама старушка Зюзина. Сейчас она щурилась на солнце и неутомимо щипала, перебирала и расправляла морщинистыми руками невнятные клочья свалявшейся овечьей шерсти. В этом было что-то неправильное. Казалось, шерсть сама по себе движется и живет своей иллюзорной жизнью, а бабуля, наоборот, настолько неподвижна, что напоминает лишь тень некогда живой и настоящей женщины. «Ее насмешливый призрáк и днем и ночью дух тревожит…» – всплывшая откуда-то в памяти строка вдруг вызвала озноб. Или это просто подул ветерок с реки?
Здесь дорога резко сворачивала вправо, открывая речку Кедринку, в честь которой и назвали Кедринск. Торик помнил, какой маленькой она была два-три года назад: взрослые легко переходили ее вброд. Но потом неподалеку начали строить электростанцию, реку запрудили, отгородили водохранилище, и вода с каждым годом поднималась.
Дорога теперь круто вела в гору, теряла свою желтую песочность, превращаясь в сухую глину. Один за другим дома оставались позади. Вот высокая сетчатая калитка Зайцевых. Дядя Витя Зайцев, бабушкин племянник, в школе был лучшим другом папы. Сколько же они тут вдвоем чудили!
– Здравствуй, Толь! – внезапно прозвучал скрипучий, но доброжелательный голос от калитки. – К своим идешь?
– Здравствуйте, дядь Вить, – всех родственников отца полагалось звать на «вы», это правило Торик усвоил. – Да, сегодня дядя Миша должен приехать.
– Зайди на минутку, я хоть тебе свои ёлеки покажу. Ёлеки у меня знатные вымахали, – как обычно, заскрипел-затараторил дядя Витя, пока его не перебили. Буква «л» у него получалась своеобразной – не твердой и не мягкой, а какой-то средней.
Дядю Витю часто посещали необычные идеи, а потом он их самоотверженно воплощал. Однажды они всей семьей съездили в Ленинград, откуда попали на экскурсию в Петергоф. Золотые фонтаны, дворцы, незнакомые деревья – все это дяде Вите очень нравилось. Но самое большое впечатление произвел летний домик Петра – Монплезир, «мое удовольствие», или «моя радость». Не сходя с места, дядя Витя решил, что обязательно сделает себе такой же! Ну, такой или не такой – дело десятое. Но уже следующим летом в саду у Зайцевых красовалась новая беседка, которую дядя Витя гордо называл своим Монплезиром.
Так что папа, хоть иногда и посмеивался над причудами дяди Вити, уважал его за мастерство (он был отличным сварщиком) и за то, что слова у него не расходились с делом. А еще оба они были безудержными романтиками.
– Вон они какие, ёлеки-то! – суетился дядя Витя. – А сначала как все плёхо былё! Сажал ёлеки и тут, и там – сохнут, и все, ни в какую! А эти вот две выжили. Я смеюсь: они как гвардейцы по обе стороны крыльца стоят в почетном карауле. И знаешь что, Толь? Потом-то, уже после, меня не будет, а ёлеки мои останутся!
Елки и правда выросли почти до крыши дома, ровные и статные, и даже летом нарядные, новогодние. Торик вежливо покивал, попрощался и продолжил свой путь. Отсюда до бабушкиного дома совсем недалеко – подняться на горку да спуститься почти до реки.
Вот знакомый ряд столбов, каждый в виде буквы «А», словно кто-то написал их в огромных прописях. Вот «Запасный лес» – с полдюжины вязов, которые сажал еще прадед. Уф, пришли, вот он, дом бабушки Софии, который в шутку иногда называли «дворянское гнездо». В шутку – потому что никаких дворян здесь отродясь не водилось.
Столетние липы расступились, пропуская Торика к ступеням крыльца.
Глава 4. Дворянское гнездо
Дом этот – двухэтажный, с мощным старинным подвалом из красного кирпича – мало напоминал «домик над Пральей», где недавно проснулся Торик.
Открыла тетя Таня в переднике поверх цветастого сарафана и улыбнулась – доброжелательная, деловая и конкретная, как обычно.
– Пришел? Здравствуй. Дядя Миша уже приехал, смотрит сад. Проходи туда, а то у меня блины в самом разгаре.
– Здравствуйте, – только и успел ответить Торик спине тети.
Официально тетя работала окулистом. А неофициально… Все окрестное Подгорье десятилетиями ходило к «доктору Тане» по самым разным поводам – от кашляющих детей до коровы, подвернувшей ногу.
Торик прошел коридор насквозь и вышел в сад, царство бабушки Софии.
Прямо у дома примостилась небольшая сакура, подальше – два пышных грушевых дерева. А все остальное пространство занимали цветы – самые разные: простые и изысканные, экзотические и привычные, любых цветов, размеров и форм.
Торик шел мимо многоцветного моря, едва обращая внимание на тот или иной цветок: этот привычный мир окружал его с детства. Вот, правда, попалась странная аквилегия: свернутые в трубочки лепестки – розовые, а по краям вьется широкая и волнистая ярко-сиреневая бахрома. Видимо, бабушка вывела новый сорт.
Сад располагался на двух уровнях, и сейчас Торик был на нижнем. Дальше тропинка раздваивалась, левая вела к лесенке из замшелых каменных ступеней, а правая – мимо сиреней – в верхний сад, туда и направился Торик. Но где же гости?
* * *
– Молодой человек, ты не нас ищешь? – раздался из-за куста барбариса голос дяди Миши.
Тот поднялся на пригорок посреди сада и обозревал окрестности. Неизменная светло-серая форменная рубаха инженера-железнодорожника свободно облегала крупный горб. На плечо накинут ремешок фотоаппарата. Держался с достоинством, без суеты. Бабушка стояла рядом и разглядывала в небольшой бинокль что-то далекое за рекой.
– Здравствуйте!
– Ну здравствуй-здравствуй, – почти пропел дядя Миша и тут же вернулся к прежней теме. – Соня, так что ты говорила про георгины?
– Второй год вывожу новый сорт. Но пока получается не совсем так, как мне хотелось. Цветки должны быть с острыми лепестками, длинными и красно-оранжевыми, с переходом в более желтые оттенки. Если все-таки получится, назову сорт «Закат над Кедринкой».
– Романтично, – оценил дядя Миша. – Толя, мы с Соней видимся теперь редко. А ты возьми-ка мою технику да сними нас на память. Кадр я сейчас настрою. Прицелься и нажми вот сюда. Сможешь?
– Попробую, – смутился Торик. Фотографировать ему еще не приходилось.
Дядя Миша снимал не фотографии, а цветные слайды. Щелчок – и яркая картинка этой летней встречи сохранилась навсегда. На фоне пронзительно-рыжих гроздьев рябины стоят брат и сестра, обоим под семьдесят. Он держит в руках очки и испытующе глядит на Торика: справится ли? Рядом бабушка в коричневом сарафане и белой кофте рассеянно держит пушистый белоснежный георгин.
– А пойдемте, я вам клематис покажу! – вдруг оживилась бабушка и направилась к дому.
– В этом она вся, – усмехнулся дядя Миша.
Он осторожно забрал фотоаппарат, неспешно оглядел сад и зашагал следом за бабушкой. А Торик не торопился: у него тут осталось одно приятное дело.
На самом краешке верхнего сада стоял высоченный раздвоенный тополь. А рядом – Двудомик. Снаружи он выглядел как желтый деревянный куб с ребром в два метра. Одну из стен целиком занимало окно, а на противоположной стороне, как раз у тополей, примостилась дверь. Крыша плоская, так что получался настоящий жилой кубик для небольшой семьи. Отец сам спроектировал и построил его, когда появился маленький Торик.
Когда домик начали обживать, мама повесила тюль, поклеила на стены симпатичные мягко-зеленые обои и приколола у кровати Торика смешную открытку. Изнутри Двудомик напоминал плацкартное купе поезда: две полки-кровати, они же сиденья, одна поуже – для Торика, другая пошире – для родителей. У окна – широкий стол, за которым так удобно сидеть. А сверху, над кроватями – полки. Узкие, зато полные сокровищ.
По утрам Торик обычно вставал на свою «кровать» и оказывался лицом у нижней полки, куда папа и тетя Таня заботливо выкладывали подписку журналов «Наука и жизнь» за несколько последних лет, целую серию развивающих брошюр 1950-х годов и еще много всякой интересной всячины. Все эти сокровища Торик мог читать, перебирать и листать часами.
Недавно его увлекла идея флексагонов. Эти необычные штуки из бумаги могли сложить даже его неуклюжие руки. Всего-то надо было расчертить нужную фигуру на клетчатом листе, вырезать ленту, согнуть ее в нужных местах, перевернуть и в одной точке склеить. Флексагон похож на ленту Мебиуса, только он плоский. Сворачивая и разворачивая этот бумажный кулечек разными хитрыми способами, можно было открывать не две и даже не три стороны бумаги, а гораздо больше. В последнем номере «Науки и жизни» описали флексагон на сорок восемь поверхностей, и Торик решил обязательно такой себе сделать, но попозже.
Довольный, он забрал нужный журнал, спустился по ступеням из песчаника и направился к дому.
* * *
В доме царила радостная суета. Родственники и знакомые любили сюда приезжать, некоторые гостили по две-три недели. За долгую историю семьи Васильевых времена случались разные. Бывало, что Васильевы сами были вынуждены уезжать куда-то и жить у дальних и ближних родственников месяцы, а то и годы. Поэтому их радушие не было показным, они на самом деле радовались гостям и старались принять их как можно лучше.
Интеллигенция обустраивала свои дома иначе, чем крестьяне. В отличие от типичных деревенских домов пространство этого дома было поделено на несколько разных комнаток. Вы сначала входили на кухню, затем через нее – в столовую с большим столом, за который обычно усаживались гости. Оттуда можно было пройти в крохотную комнатку бабушки или такую же комнатку Андрея, тетиного сына. А можно обогнуть печку и пройти дальше, в так называемый зал, довольно просторную комнату с большим зеркалом и диванчиком, где спала тетя. Настоящих дверей тут не было, но в каждой комнатке имелись дверные проемы, занавешенные шторами. В шутку здесь их называли «входными шторами», чтобы не путать с оконными. Поскольку гости приезжали часто и надолго, к дому пристроили еще и большое летнее крыло, так что места хватало всем.
Застолье было по теперешним временам нетипичным. При том, что вокруг стола усаживалось человек десять, а то и больше, открывали одну бутылку вина, да и та часто оставалась недопитой. Но уж тогда совсем немного наливали и Торику, просто чтобы он знал вкус хороших напитков. Нехитрые блюда сменяли друг друга, но главным делом считались нескончаемые разговоры. Торик не очень вникал в их темы, но они были спокойными, степенными и интересными для всех участников.
Сам Торик по обыкновению пробрался в бабушкину комнату. Это место он называл «Зашкафье», и тут главным сокровищем выступал высокий, почти до потолка, шкаф, набитый книгами в два ряда. Каждый раз здесь находилось что-то новое: книги по искусству, цветоводству и минералогии, там фантастика, а тут – книги о путешествиях. В разговоры взрослых за столом он старался не вмешиваться, но вполуха прислушивался.
Возможно, именно эта привычка со временем привела к тому, что он и жизнь стал воспринимать точно так же: отстраненно, не как участник событий, а лишь как сторонний наблюдатель. Листая журнал, Торик подвинулся поближе ко входной шторе.
Тетя Катя, жена дяди Миши, рассказывала о жизни в Москве, об общих знакомых и родственниках. Дядя Миша иногда что-нибудь добавлял о выставках и премьерах. В паузе тетя Таня уточнила:
– Как там Нинмихална? К нам собирается?
– Может, на недельку выберется в сентябре.
– А как Марина, – поинтересовалась бабушка, – сдала экзамены?
Кажется, дядя Миша смутился:
– Марина-то у нее теперь… вторая.
На минуту все перестали жевать. Над столом пролетела муха и уселась на цветущий кактус.
– Как… вторая? – не поняла бабушка. – А первая куда же делась?
– Отучилась, прошла распределение и теперь в Томске. Плакала и благодарила, сказала, что за эти годы Нинмихална стала ей как родная.
– Конечно, – поддержала тетя Катя. – Где в Москве найдешь человека, который возьмет к себе жить чужого?
– Так откуда вторая-то? – не сдавалась бабушка.
– Марина когда уехала, – вновь вступила тетя Катя, – Нинмихалне так одиноко стало. Она опять пошла в тот институт. Там приемная комиссия, ну и… История повторяется. Все носятся ошалелые, а одна девушка сидит и плачет. Подошла, разговорила. Как узнала, что тоже Марина, не удержалась, к себе позвала.
– Я уж с ней говорил, – сказал дядя Миша с досадой. – Люди-то всякие бывают. Нинмихална одна, детей нет, муж умер… А она: «Ну и пусть. Живой человек в доме. Пока могу, буду помогать».
– Человек взрослый – сама решит, – подытожила тетя Таня. – Чай будете?
Смекнув, что приближается время сладкого, Торик неуклюже выполз из Зашкафья и сел за стол поближе к гостям. Лицо дяди Миши при этом на миг озарилось улыбкой, но затем он посерьезнел и степенно заявил:
– Толя, а ты знаешь, был тут один пеликан… Катя, где у нас…
Торик понял, что его ожидает очередной подвох. Дядя Миша знал тысячи вещей из самых разных областей культуры, науки и техники. Но при этом безумно любил мистификации. Он умел с серьезнейшим видом рассказывать полную чушь про слонов, живущих в метре под землей, или про ложку, внезапно стекшую внутрь стакана с горячим чаем (а это оказалось правдой – только ложка нужна специальная, из сплава Вуда). Он наслаждался замешательством собеседника, лишь в конце истории одаряя его доброй улыбкой.
Из сумки достали довольно крупную фигурку розового пеликана, и дядя Миша невозмутимо продолжил:
– Мы выяснили, что пеликаны питаются конфетами. Но иногда съедают не все. Посмотри внимательно: вдруг у него в клюве что-нибудь осталось?
Разумеется, конфета там была. А сколько их нашлось у пеликана в животе! Торик вроде и вырос из таких штучек, но ему было приятно. Дядя Миша думал о нем, когда собирался сюда. Детский розыгрыш… но с того раза пеликан, внезапно являвшийся среди обыденности жизни, стал для Торика символом доброго абсурда.
– Таня, а как там твой Андрей, служит? – начала новую тему тетя Катя.
– Он сейчас в ГДР, еще больше года ему осталось.
Удивленный новым поворотом мысли, Торик поднял взгляд. Спокойный, привычный, ничего не значащий разговор. Они просто разговаривают – учительница, врач, профессор и актриса, а школьник их слушает.
Неспешной беседой они словно подпитывали друг друга. Кругом мягко плескалась синергия, хотя Торик пока не знал, что это называется именно так. Ощущение было очень знакомым, теплым и приятным. Он улыбнулся.
Словно мысленно отвечая ему, оживился дядя Миша. В глазах его сверкнул озорной огонек.
– Сонь, а помнишь, как тебе воздыхатель стихи написал? Где-то году в двадцатом, что ли? Про шумливые берега, помнишь?
– Да ну тебя, скажешь тоже! – смутилась бабушка. – Какой там воздыхатель! Это некий Аверьянов в 1922-м в газету написал.
– Как там начиналось? Не припомню.
Бабушка откинулась на стуле, прикрыла глаза и начала:
Я люблю вас, потемневшие бугры,
Тонким кружевом просевшие снега,
Что чернеют там, на взлобочке горы,
И шумливой Пральи берега…
– Пральи? – встрепенулся Торик. – Так это про наши места?
– Про наши, не сомневайся, – уверил дядя Миша, – потому что дальше четверостишие я как раз помню.
Я люблю смотреть с высокой Гневни в даль,
Где леса чернеют полосой,
Где реки колышется эмаль
И высоко реет коршун надо мной.
– Там еще что-то про церковь и про город.
– Я плохо помню, – пожаловалась бабушка. – Только город… Нет. Ах, вот же:
Ну а город? Ах, красив, красив,
Он весной – как талые снега…
Тут подключился и дядя Миша, и теперь они нараспев читали вместе:
…Как законченный и радостный мотив,
Как шумливой Пральи берега!
Все замолчали. Эхо слов, написанных полвека назад, таяло в воздухе.
Резко зазвонил телефон.
– Алло, – сказала тетя Таня совсем другим – деловым и серьезным – тоном.
Телефон здесь был один на все Подгорье. Линию специально протянули вне очереди в дом единственного в округе сельского врача.
– Хорошо, – согласилась тетя, – минут через тридцать буду у вас. Нет, раньше никак не получится. Укройте простыней, но не перекладывайте. И пока не давайте пить. Ждите.
– Мне нужно до Козыревых дойти, – сообщила она гостям. – Приберетесь?
– Конечно, Тань, не волнуйся, я все сделаю, – заверила тетя Катя.
Торик помог перетаскать посуду на кухню. А дядя Миша все сидел, глубоко задумавшись, и смотрел в одну точку – на кольцо на полу.
Взявшись за это кольцо, можно было открыть люк, ведущий в подвал. Тот самый злосчастный подвал, куда упал семилетний Миша. Крики, суета, кровь, срочно телега, врачи, больница, долгая-долгая неизвестность и лишь робкая надежда на чудо. И чудо случилось. Он выжил и даже не потерял способности двигаться, но позвоночник пострадал необратимо. Всего один промах так драматично изменил всю его жизнь, сделав горбуном.
– Я… наверное, пойду, – неуверенно сказал Торик в пространство.
Бабушка с тетей Катей уже нагрели тазик воды и теперь вместе мыли посуду.
Сунув под мышку журнал с флексагонами и поудобней перехватив пеликана, нафаршированного конфетами, Торик вышел из «Гнезда» на улицу. Мысли в голове носились как бешеные. А сам Торик возвращался к бабушке Саше, в домик над шумливой Пральей.
Лето на этом не закончилось. От него еще остался приличный кусок. Целых три недели!
Глава 5. Ихтиандр
Ноябрь 1974 года, Город, ул. Перелетная, 9 лет
Хорошо, когда дома есть телерадиола. В большом рыжем корпусе из лакированного дерева уместились и телевизор, и радиоприемник. Мало того, сверху еще открывалась крышка, а под ней пристроился проигрыватель. Колонки не нужны – звук шел из самого ящика.
Торик обожал слушать пластинки! Не обязательно музыкальные. Родители припасли для него множество сказок и занимательных историй. Сейчас он дослушивал четвертую сторону «Искателей необычайных автографов» о путешествии к Фибоначчи Пизанскому. Недавно папа сделал наушники, и теперь слушать стало еще удобней: и сам все слышишь, и никому не мешаешь. «Главное – не мешать».
Путешественники как раз вернулись со средневекового карнавала и угодили в яму с кроликами, количество которых соответствовало числам Фибоначчи, когда Торик почувствовал: дома что-то не так. Обстановка, похоже, накалялась, и дело было не в соседях. Он тихонько сдвинул наушники назад и прислушался.
– Миша, так нельзя!
– Подожди, сейчас как раз прохождение. Потом поговорим, ладно?
– Не ладно! – не унималась мама. – Давай снимай свои наушники.
– А что, проблема какая-то?
– Да, проблема! Ты совсем не занимаешься ребенком! Сделал ему наушники, и все? Почему я его чему-то учу, а ты – нет?
– Чему?
– Всему, что знаю. Позавчера пекли с ним печенье. Он же умный мальчик. Смотри, какие книжки читает. Спроси, что у него получается, что нет. Ты знаешь, что он никак не мог освоить письмо?
– Да ладно! Он с детского сада читает и пишет…
– Печатными буквами, как ты! А в школе…
– Вера! – папа явно терял терпение. – Он же ма…
– Покажи ему что-нибудь. Дай отпилить ненужное. Пусть гвоздь забьет, розетку починит…
– Еще бы он в розетки полез! Я сам все сделаю.
– Ты-то сделаешь… – теперь уже мама теряла терпение, а заодно и новые аргументы.
– Ладно, – вдруг успокоился папа. – Доля истины в этом есть. Я подумаю, что можно сделать. А пока – дай поработаю. Тихо! Кажется, Мексика проклюнулась.
– Ты только говоришь…
Вера понимала: не время. Прохождение – это святое. В такие дни Михаил был неумолим, и отогнать его от радиостанции могли только пожар или землетрясение. Весь смысл радиолюбительства – ловить самые редкие и далекие станции на грани досягаемости. Обычно их не слышно. Но иногда из космоса прилетал солнечный ветер, приносил космические частицы, зажигал в небе северные сияния, а на Земле случалось это чертово прохождение. Радиосвязь сходила с ума. Ближайшие станции из соседних городов пропадали. Зато в невиданном количестве выползали маленькие и слабые – но такие ценные! – дальние корреспонденты.
Все это он объяснял ей много раз, и что? Ничего он делать не будет, как всегда. Вера тяжело вздохнула.
Торик подвинул наушники обратно. История на пластинке почти закончилась.
* * *
Расклад в их семье установился своеобразный.
Торик был крайне неспортивным ребенком. Папа считал, что спорт – для тех, кому заняться нечем и у кого в жизни нет других интересов. Поэтому Торик даже утреннюю гимнастику не делал. И толстел. Драться папа не умел. Соответственно, в семье не было культа «мы им покажем!» и «защити слабого». Показывать и защищать было некому.
Ну ладно, не всем суждено быть задирами. Но Торик совершенно не умел ни отстаивать свое мнение, ни бороться за место под солнцем. Куда там! Он не научился даже просто заговаривать с людьми, не знал, как поддержать разговор.
Папа считал, что общаться ненужно, ни к чему это. Зачем тебе другие? Человек должен быть самодостаточным! А мама от природы превосходно умела сходиться с людьми в любых ситуациях. Но она делала это инстинктивно, ей и в голову не приходило, что кто-нибудь может такое не уметь и его нужно специально этому учить.
Зато мама надеялась пробудить в сыне тягу к прекрасному. Она раскладывала цветные карандаши и приговаривала: «Смотри, цвета не с любыми цветами сочетаются. Вот эти ладят друг с другом. А эти – нет. Видишь?» Он видел. Сами цвета привлекали его куда больше, чем нарисованные ими картины. Он охотно разглядывал тончайшие различия в оттенках, но с рисованием не заладилось.
Внезапно в окно постучали. Пашка был очень взволнован, его прямо распирали новости:
– Афишу видал? В клубе покажут новое кино. Фантастику! «Человек-амфибия»!
Новость обрадовала всю семью. Папа сказал, что читал такую книгу Беляева, там про особенное существо – наполовину рыбу, наполовину человека, но не русалку. Мама тоже решила посмотреть фильм. Торику срочно выдали рубль, и он помчался в клуб купить билетов на всех – два взрослых, по двадцать копеек, и два по десять – себе и Пашке.
* * *
Фильм показали через два дня. Зал был полон! Торик не ожидал, что так много людей захотят смотреть фантастику. А они пришли.
Сам фильм просто покорил всю семью: такой яркий, музыкальный, живой и необычный! А какая музыка, песни! Мама сказала, что ей нравятся главные актеры – Ихтиандр и красотка Гуттиэрэ. Пашка был в восторге от разудалых сцен в таверне, а еще от песни «Эй моряк, ты слишком долго плавал!» Папа перечислял детали, которые в книге описаны иначе. А Торик улыбался и молчал. Он и сам не сразу прочувствовал, насколько фильм его зацепил.
Об этом надо было подумать как следует. Переварить. Осознать.
Выйдя из клуба, Торик по-новому посмотрел на свой дом. Приземистое одноэтажное здание манило и отталкивало одновременно. Общую входную дверь неизменно держали открытой, отчего дом оставлял ощущение ничейности, отчасти даже бездушности. Но сейчас, осенним вечером, ярко-желтая полоса света, падающая из дверей на площадь, словно приглашала поскорее вернуться домой.
Вот он, привычный темный коридор с зелеными стенами… Первая же дверь открылась, выпуская незнакомую девочку.
– Мам, я на минутку! – мелькнули аккуратные темные косички с лентами и любопытные карие глаза.
– Зара, вернись! Район неблагополучный!
Мать втянула дочку за руку, дверь захлопнулась.
У третьей плиты возился Боря Карасиков.
– Теть Вер, здравствуйте!
– Здравствуй. Готовишь?
– Да. Папка сегодня придет поздно, а мамка в ночную.
Они вошли в свою комнату.
– Бедный мальчик, – сочувственно вздохнула мама. – Эта Клава вообще готовить перестала. Зато скандалит громче всех. И почему «ночная»?
– Она работает крановщицей, – пояснил папа. – Производство у нас круглосуточное: стране нужен бетон, а краны – штука дорогая, они не должны простаивать.
– Ясно. Но семьей-то надо заниматься!
– Надо, – согласился папа и включил радиостанцию.
Торик вдруг вспомнил девочку:
– Пап, а кто у нас теперь в первой квартире живет?
– Это Хаустовы, только заселились. Но, скорее всего, долго не задержатся.
– Почему? – удивилась мама.
– Его сразу взяли замом главного инженера. А она где-то в управлении торговли.
Дома все самодостаточно разбрелись по углам. Папа слушал вечерние станции. Мама тихонько включила радиолу и подшивала наволочку. А Торик сидел, уставившись в одну точку. Нет, он не грустил и не спал, просто иногда некоторые вещи волновали его глубоко-глубоко, до самого нутра. Сегодня это оказался Ихтиандр.
«Я хотел сделать тебя самым счастливым, а сделал самым несчастным», – сказал Ихтиандру отец. Так и вышло. Пересаженные жабры обещали полную свободу в море! Возможности безграничные: любые страны, подводные сокровища, тайны морей и океанов – все твое.
Но ситуация сложилась иначе. Свобода превратилась в темницу, возможности – в жесткие ограничения. А самое совершенное в мире существо – в раба чуждой человеку биомеханической конструкции. Ихтиандр мог бы жить и в море, и на суше, а в итоге оказался не способен жить ни там, ни там. Рыбы считали его человеком, а люди – неправильной рыбой. Везде он – чужак. Грустно… Торик вздохнул, все больше ощущая себя таким же Ихтиандром: для всех чужой, непонятный, неправильный.
Даже песня в фильме ему понравилась совсем другая, не та, что Пашке, потише и поглуше:
Лучше лежать на дне
В синей холодной мгле…
Было в ней что-то притягательное. Не в самих словах, а в настрое. Нет, Торику не хотелось умереть. Но удалиться от всех, забиться в самую глубину, а там…
Он сам не заметил, как уснул, а мама заботливо укрыла его одеялом.
* * *
Близился Новый год. До елки пока не дошло, но мама постелила на подоконник ваты, собрала ее, чтобы получились сугробы, а в самую гущу поставила фигурку Деда Мороза. Ярко-красный тулуп, румяные щеки и мешок подарков за плечами неуловимо изменили привычную комнату, наполнив ее ожиданием чего-то нового и приятного.
* * *
Как-то после ужина папа подошел к Торику.
– Посмотри, я сделал тебе щит.
– Чтобы играть в рыцарей?
– Нет, чтобы разобраться с электричеством. Это – в розетку. Вот сюда можно подключаться. Видишь? Здесь много контактов. Подключайся к любым, но вообще они разные, потом сам поймешь. Если устроишь замыкание – ничего страшного, просто загорится эта большая лампочка. Хотя привыкай сразу: по-хорошему замыканий быть не должно. Все понятно?
– А… что подключать-то?
– Ах, да… – папа на миг отошел к своему столу и вернулся с мешочком… нет, не новогодних подарков, лучше!
У Торика глаза разбежались! Провода, лампочки, разноцветные патроны для них, маленький моторчик, детальки с двумя усиками – красные и зеленые. А сам «щит» оказался толстой доской, покрытой ярко-оранжевым лаком.
– Экспериментируй! – торжественно изрек папа и направился в свое эфирное зашкафье.
Оброненное слово оказалось животворным. Оглядываясь позже назад в поисках первопричины всех своих экспериментов, Торик вспомнил именно этот день.
Так в его жизнь пришло электричество.
* * *
Как-то вечером в гости пришел Кузин, пожилой знакомый с папиной работы. Мама загодя приготовила плов и холодный блинный торт. И теперь Кузин смущенно покашливал в дверях и снимал ботинки.
Торик волновался о своем. Скоро по телевизору покажут фильм «Тайна железной двери». Пашка его уже посмотрел, и Торику тоже хотелось, а тут гости!
Сели за стол, поговорили. Плов был вкусным, но Торику не сиделось:
– Мам, а можно кино посмотреть?
– Ну ты что! Посиди, дядя Федя интересную историю расскажет.
– Вера, да пусть, – внезапно смутился Кузин. – Может, и не надо ему про это…
– Не знаю, Миш, пусть свое кино посмотрит?
– Смотри-смотри, – ответил не папа, а Кузин. – Как же у вас уютно!
Торик подождал, пока прогреется телевизор, надвинул наушники и устроился поудобней. На экране суетились голуби, милиционеры, ломались спички… Но сюжет затягивал, и Торик проникался волшебной историей, приглядывая, что происходит за столом.
Кузин сидел к нему спиной и что-то рассказывал. Папу толком не видно, зато маму – очень хорошо. Поначалу она улыбалась и кивала. Потом улыбаться перестала. Торик целиком погрузился в фильм – тот унес его на затерянный в океане остров.
Когда мальчик на экране вернулся в свою реальность, Торик взглянул на маму. Ой! Что с ней? Кузин продолжал рассказывать, а мама поднесла руку ко рту и прикусила палец. В глазах стояли слезы. На щеках проступили красные пятна.
– Мам, что случилось?
– Ничего, – а голос странный. – Смотри кино.
Сюжет завершался. Жулик превратился в человека, волшебные спички исчезли вместе с волшебником, роботом и таинственным островом. Началась программа «Время», и Торик снял наушники.
За столом висело гнетущее молчание. Затем Кузин кашлянул и сказал:
– Вот так. И никому не докажешь…
– Да-а, – похоже, и на папу история произвела впечатление.
Немного посидели молча. А потом Торик неожиданно вспомнил о пеликане, потому что Кузин как-то очень знакомо протянул:
– Ладно, пора и честь знать. Спасибо хозяйке за вкусный ужин. А к тебе, молодой человек, у меня дело: подай-ка мне сумку с вешалки.
Тяжелая угловатая сумка глухо громыхнула, когда Торик передал ее хозяину. Кузин неторопливо достал большую коробку шахмат.
– Играешь?
– Нет.
– Напрасно. Игра интересная, а ты вроде малый неглупый, попробуй? Пусть останутся у тебя. На память от дяди Феди.
– Спасибо!
Кузин с трудом поднялся и стал одеваться. У порога он обернулся:
– Не знаю, Миш, может, не надо было…
– Да вы что! – вступилась мама. – Такой груз в себе носить! Хорошо, что есть кому рассказать.
– Так не каждый поймет, вот в чем штука.
– Да! – словно очнулся папа. – Надумаешь пересчитать трансформатор – заходи, у меня справочник есть.
– Спасибо, – с чувством пожимая ему руку, сказал Кузин и обвел комнату взглядом. – Братья по разуму…
Больше Торик никогда его не видел. А шахматы остались.
* * *
Позже Торик пытался вспомнить: с чего именно началось его увлечение химией? Он и тут шел своим путем, не так, как другие дети. Его не водили к какой-нибудь знакомой химичке, не отправляли в кружок и не покупали красочных энциклопедий или наборов «Юный химик». В свое время все это тоже было, но, как ни крути, началось все опять-таки с фантастического фильма.
Уж очень его впечатлила киношная лаборатория Шурика из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»! В колбах загадочно переливались разноцветные жидкости. Аппаратура вытворяла что-то непонятное, меняя реальность, пространство и время. А Шурик не просто во всем этом разбирался, он сам ставил какие-то эксперименты, делал невероятные открытия и получал фантастические результаты!
Это оставило такой мощный след в голове нашего маленького философа, что несколько дней подряд он – тот, кто и бумажный самолетик-то складывал с трудом – чертил, резал и клеил. Он вырезал что-то из бумаги и раскрашивал, пропускал нитки в специально проделанные в бумаге дырочки. Он делал и переделывал, пока не получилась плоская бумажная модель, в которой нарисованные колбы наливались разноцветными жидкостями, когда двигаешь нужные ниточки, торчащие на краю листа.
Ему очень хотелось рукотворной магии – чтобы чудеса происходили на научной основе, причем именно так, как задумано. И лучше всего для этого подходила химия. Он начал с простого: вода, мамина пипетка, чернила разных цветов и промокательная бумага привели его к опытам по хроматографии, о которых писали в журнале «Юный техник». Колб и пробирок у него не было, зато по дороге из школы он частенько находил старые лампочки. Немного ловкости рук, и такая лампочка лишается цоколя и превращается в колбу с очень тонкими стенками. Уже можно ставить опыты.
В своем драгоценном подвале (размером во всю комнату!) папа выделил на стеллаже часть полки. Теперь у Торика там была как бы своя лаборатория. Для нагревания растворов он зажигал свечу. Она нещадно коптила, поэтому часть лампочек-колбочек щеголяла черными боками. Мама, видя его интерес, иногда приносила с работы освободившиеся стеклянные пузырьки, и они тоже шли в дело. Так началась «игра в науку».
Мощным катализатором оказалась статья все из того же «Юного техника», где рассказали, что многие вещества для опытов можно достать на кухне, в аптеке и даже в фотомагазине. Причем назвали их поименно и с формулами! Лаборатория пополнялась. А слова «гексацианоферрат калия» звучали как заклинание, где ни в коем случае нельзя ничего перепутать. Тетя Таня, узнав о новом интересе племянника, прислала подарок – несколько настоящих пробирок и штатив для них. А потом сработал принцип «подобное притягивает подобное».
Примерно в километре от дома проходила железная дорога, по которой шли вагоны. В том числе товарные. В том числе везущие разные интересные вещества. Кристаллическая сера, известь, селитры и другие соли порой просыпались прямо на колею. Торик устраивал туда регулярные мини-экспедиции, собирал вещества и пополнял свою лабораторию. Заодно практиковался в аналитической химии, стараясь определить, что за вещество нашел на этот раз.
Аналитические реакции очень хорошо вписывались в его интерес «увидеть невидимое»: ты сливаешь две прозрачные жидкости и – если в одно из них было искомое – получаешь внезапную перемену. Возник цвет, выпал осадок, побежали пузырьки газа, окрасилось пламя. Так тайное становилось явным. Если не становилось, он не расстраивался. Просто отбрасывал непонятное или искал другие реакции.
А еще позже мама все-таки отвела Торика в химический кружок во Дворце пионеров. Руководитель кружка поначалу очень удивился – обычно его контингент состоял из семиклассников и старше, а тут какой-то третьеклашка – но потом проникся и разрешил. И уж там-то химическая лаборатория была почти настоящая – с вытяжными шкафами, горелками, запасами кислот и щелочей. А главное – широчайшим выбором всевозможных химикатов.
Однако со своими «коллегами» по кружку Торик так и не смог подружиться. Во-первых, он для них был совсем маленьким. А во-вторых, и это главное, у них были очень разные интересы. Типичного кружковца больше всего интересовали взрывы, ракеты, эффектные опыты вроде «фараоновой змеи» или «вулкана». А Торика в основном привлекали превращения (лучше, если при этом менялся цвет), аналитика, чтобы узнать, из чего сделано то или другое.
Из эффектных опытов ему нравился «силикатный сад». Схема очень простая: берем обыкновенный силикатный клей, выливаем в пузырек, с которым можно проститься. А потом досыпаем в этот пузырек немного разноцветных солей. Правильно «посеянный» сад тут же начинает медленно «расти», образуя самые разные формы, очень похожие то на деревья, то на траву, то на подводные ветки. Особенно красиво получается, если «посеять» сразу несколько разных солей. Тогда вырастает настоящий подводный сад, разноцветный и разнообразный. Вот только встряхивать его нельзя – вся красота тут же обломится и рассыплется.
Так что химии в детстве Торика было много, гораздо больше, чем у нормальных людей за всю жизнь случается. Где-то в глубине души он тайно мечтал однажды открыть что-то новое в науке. И подарить людям.
Занятия эти имели настолько странное действие на людей, что Торик все больше чувствовал себя Ихтиандром. Людям, далеким от химии (а таких вокруг большинство), он казался вундеркиндом. В залпе ярко-зеленого салюта он узнавал соли бария, а эффектные темно-красные вспышки безошибочно выдавали стронций. Но если он говорил об этом вслух, окружающие начинали как-то подозрительно на него коситься.
Те же, кто химию знал, воспринимали его как выскочку или как какой-то генетический дефект вроде пятой ноги у теленка или лишнего уха у кошки. При этом «своим» его не считал никто. Ни рыбы, ни люди.
Самое смешное, что и те, и другие были частично правы. Да, он многое знал, но при этом знания были поверхностные. Поскольку давалось все легко, он не умел и не привык учиться. Вместо этого он больше всего любил «нахвататься по верхам», особенно когда нет никакого спроса. Не умел ставить себе цели и достигать их. Да, он вроде бы энергично что-то делал. Ставил опыты, что-то изучал, смотрел, даже делал выводы.
Но все это в рамках идеалов отца – найти для сына такое занятие, которым можно заниматься всю жизнь, но так и не прийти к результатам. Через четверть века такого, как Торик, окружающие называли бы «ботаном», а сейчас он просто странный мальчик. Он стремительно вырастал в одних направлениях, как правило, весьма далеких от жизни, и столь же стремительно деградировал в других, нужных для жизни и взаимодействия с людьми. И пока перекос только усиливался.
* * *
Иногда Васильевы всей семьей смотрели диафильмы. Папа разворачивал экран, заботливо свернутый до этого в трубочку (папа никому не доверял доставать и сворачивать его), а мама привычно задергивала штору. Рассаживались, запускали проектор и смотрели, причем не только сказки, но и фантастику. Так Торик впервые узнал про Изумрудный город и Мальчика из спичечной коробки.
Диафильмы рассказывали истории пусть прекрасные, но чужие. А у них были и свои. Вслед за дядей Мишей папа освоил слайды. Непривычно цветные – ведь фотографии и телевизор пока оставались черно-белыми. На экране слайды давали очень крупные изображения: человек получался размером почти в натуральную величину. Можно разглядеть каждую черту, каждую ветку на дереве. Это создавало ощущение сопричастности. В темноте стены барака словно отступали, в воздухе витали яркие и словно объемные образы знакомых людей и мест.
Вот маленький Торик стоит у Двудомика и с удивлением разглядывает шкуру волка, добытого еще прадедом. Вот папа строит летний дом, а мама ему помогает. Вот они плывут на байдарке по одной из уральских рек. Над лодкой гордо реет сшитый мамой флаг. А тут что такое? Папа с мамой на берегу реки еле держат треугольную конструкцию из жердей и огромных черных колес.
– Это что? – спросил Торик.
Родители переглянулись. Папа покачал было головой, но мама гордо ответила:
– Это наш «Кон-Тики»!
В итоге выяснилось вот что.
В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал собрал команду из пяти путешественников. Они отправились в Перу, где построили плот «Кон-Тики» и проплыли на нем восемь тысяч километров. Позже Хейердал написал об этом книгу и обрел всемирную известность. О нем говорили, его путешествия обсуждали, о его планах строили догадки.
Для папы, восемнадцатилетнего студента, любителя географии и большого романтика, Хейердал стал настоящим кумиром. Папа в деталях вычерчивал карту его путешествия, а позже затеял собственную маленькую экспедицию по Кедринке на плоту, который тоже назвал «Кон-Тики». Причем плот решили собрать на месте, как это сделала команда Хейердала.
Папа начертил план экспедиции и разработал конструкцию плота. Они с мамой раздобыли три камеры от грузовой машины, взяли инструменты и отправились к стартовой точке. Там папа нарубил веток и из них собрал хитроумный плот. Течение у Кедринки слабое, и домой доплыли только к вечеру. Но родители гордились: они чувствовали причастность к делу великого путешественника Хейердала.
Этот момент, запечатленный на слайде, мог остаться лишь причудой, как у мальчишки, который оседлал старую трубу и представлял себя космонавтом. Но Судьба распорядилась иначе. И в жизни родителей эта тема получила самое неожиданное продолжение. Да еще какое!
* * *
Сегодня Торик чувствовал себя чернокнижником! Библиотекарша отыскала для него сокровище – здоровенную книгу с черной-пречерной обложкой. Название никак не запоминалось: «Путешествие по Карликании и Аль-Джебре». Зато в самой книге открывался целый математический мир. Автор – Владимир Левшин – ярко показывал много интересного, совершенно не ограничиваясь школьной программой.
Вот герои стоят в самом начале странной улицы, а на домах висят номера. На одной стороне это 10, 100, 1000, а на другой – в зыбком отражении – 0,1, 0,01, 0,001… И мы вместе с героями понимаем, что начало у этой улицы есть, а вот конца точно не будет, можно всю жизнь идти по ней – и так никуда и не дойти. Это будоражило воображение.
А вот семейка веселых ноликов. Чем-то они напомнили Торику Чиполлино и его братьев – такие же шумные, верткие, все в разноцветных беретах, чтобы маме легче их различать. Нолики вечно бегали, путались, менялись местами. Их мама сидела и пыталась сообразить, сколькими способами могут встать рядом три нолика. А четыре? А десять ноликов? Так незаметно мама ноликов, а заодно и читатели приходили к понятиям факториала и перестановок.
Но больше всего Торику запомнились мнимые единицы. Понять, что они такое, было сложновато. Однако он сочувствовал этим существам, которые то ли есть, то ли нет. Которых немногие видят, а большинство отрицает само их существование. А еще был у них свой секрет.
В городском парке стояла карусель, и местные жители обожали на ней кататься. Карусель не просто крутила посетителей, она возводила их в степень. Обычные числа смеялись, когда становились все больше, а потом возвращались к привычным размерам. Совсем как люди в комнате смеха: вот тут мы – карлики, а здесь – гиганты. А вот с мнимыми единицами на карусели творились истинные чудеса.
Садились на карусель они призрачно-мнимыми существами. На первом же обороте становились настоящими числами – единицами, пусть и с минусом. К отрицательным числам жители относились с подозрением и опаской, но хотя бы никто не отрицал их существования. Дальше становилось еще хуже, чем было в начале – единицы становились отрицательными мнимыми единицами! Зловещие призраки! Просто ужас!
Зато потом – ого, потом! – они превращались в единицы, ненадолго становясь полноценными гражданами. Они радовались своей непривычной вещественности, возбужденно мутузили друг друга кулачками и хлопали по спине. Они были живыми и настоящими! Но недолго. Уже на следующем обороте они опять становились просто мнимыми единицами – призраками в стране чисел. Зато они только что побывали живыми! Им удавалось прорваться в невозможное.
Ну разве такая книга могла не понравиться Торику? Он прочитал ее от корки до корки, а через полгода взял в библиотеке еще раз.
Время шло, и Торик становился «все страньше и страньше», уходил в страну своих увлечений, отдаляясь от других ребят. Родители радовались его самостоятельности и способности всегда найти себе занятие. Вот только они не замечали, что он все дальше уходит из реального мира, оставаясь к нему совершенно неподготовленным.
Он тоже не понимал этого, лишь ощущал иногда сосущее одиночество. Порой ему казалось, что он – тоже мнимая единица. Или почти Ихтиандр.
Глава 6. Уходящее поколение
Март 1975 года, Город, 9 лет
В начале весны папа пришел с работы грустный и сказал, что Кузин умер. После ужина мама подсела с шитьем к Торику.
– Дядя Федя был на войне, – начала она. – Сначала ефрейтором, потом окончил срочные курсы и стал офицером.
– И воевал с немцами?
– Да. Он был хорошим командиром.
– И дошел до Берлина?
– Нет. Не получилось. В середине войны его сильно контузило. Все его подразделение погибло. Думали, что и Кузин погиб, но нет, он выжил, вот только… – она горько усмехнулась. – Пока лежал без сознания, немцы взяли его в плен.
– Ох!
– Его отправили в концлагерь. И там он пробыл до самого конца войны. Как рассказал, что там было… Ужас! Девяносто процентов людей в их лагере погибли. А когда война закончилась, пришли наши и освободили пленников. И дядю Федю выпустили.
– И он вернулся?
– Вернулся, но… Тогда ведь знаешь, как было? Офицер? Побывал в плену? Значит, шпион, предатель Родины.
– Как же так? Он же…
– Да, он был без сознания. Но закон есть закон. Посадили его уже наши. Отправили в лагеря как предателя и изменника.
– Так не бывает!
– Бывает. Именно так и случилось. С ним и еще со многими. Рядовым проще – живой, и слава богу. А вот офицерам, да еще военнопленным…
– Как жалко его!
– Еще бы. Хорошим человеком в этой жизни быть нелегко. Им почему-то всегда достается…
– Мам, ну почему так?
– Даже не знаю. Так уж все устроено.
* * *
Июль 1975 года, Кедринск, 10 лет
Закончилась начальная школа. Первая учительница попрощалась с классом чуть ли не плача, но сказала, что теперь у них будет много учителей. Зачем? Непонятно.
А потом пришло новое лето. Пару недель Торик гонял по Перелетной на велосипеде, затем они с родителями отправились в поход на байдарках, а в самую жару, в июле, его ждал гостеприимный Кедринск.
Жизнь в домике над Пральей почти не изменилась. Вот только бабушка Маша теперь всегда мерзла и даже в самую жару выходила на улицу в овечьем полушубке. Бабушка Саша, грустная и усталая, бывала в Кедринске редко. Однажды она призналась, что Жинтель тяжело болен и, судя по всему, осталось ему недолго.
А в «Гнезде» сменились акценты: наконец-то вернулся из армии Андрей, сын тети Тани. Сама тетя сияла. Только теперь стало видно, как она беспокоилась за сына: мало ли что могло случиться в армии, да еще в другой стране, в Германии. Но он вернулся – с отличными значками, в новенькой форме – чем не повод для искренней материнской гордости?
Бабушка София, тонкий ценитель Бальмонта, Ахматовой и прочих высокоштильных авторов, теперь все чаще уходила подальше в сад, потому что отныне в доме витал сигаретный дым и звучала громкая музыка. Внук старательно обживался в гражданской жизни и «метил жизненное пространство».
* * *
Легкий приятный дух бензина. На земле аккуратно лежит черный мотоцикл. Андрей опять делает с ним что-то непостижимое. Мотоцикл был для него лихим конем, другом, инструментом и мерой престижа.
Торик привык, что в «Гнезде» со всеми нужно говорить на «вы». Подсел рядом с братом на бревнышко, дипломатично посидел пару минут молча, а потом робко начал:
– Андрей, а вы можете…
– Так, стоп! Давай сразу договоримся – со мной на «ты», ладно? Терпеть не могу эти старорежимные штучки! Усек?
– Усек, а вы… ой… ты возьмешь меня прокатиться на мотоцикле?
– Возьму. Только не сегодня.
И взял! Шлем Торику оказался великоват. Ветер свистел в ушах, дышать было нечем: воздух убегал вбок, зато в рот и в нос никак не попадал. Но как же это было здорово! Стремительный полет по горным тропинкам изобиловал неожиданными поворотами и разветвлениями. Порой мотоцикл опасно кренился, и они ехали чуть ли не лежа. Андрей ловко отталкивался ногой, а в некоторых местах выруливал только чудом, но скорости не снижал. Это была его стихия!
* * *
День выдался жаркий. Торик снова шел по дороге ВЖК, но теперь обратно – из «Гнезда» в домик над Пральей. Он обогнул холм и увидел блеск Кедринки. По всему берегу галдели отдыхающие – кто стоя загорал, кто шумно лез в воду.
«Э-эй!» – вдруг раздалось сзади, и Торик еле успел посторониться, пропуская ватагу смуглых мальчишек. Они с воплями катили с пригорка огромное колесо, но что-то пошло наперекосяк, и вот уже колесо бежит само, а мальчишки с трудом хоть немного направляют эту громаду. Колесо мощно пропахало чей-то огород насквозь, подскочило на обрывистой кромке берега и с шумом плюхнулось в воду, едва не задев купающихся. Плеск, переполох, крики…
«Дикари!» – вздохнул Торик и важно пошел дальше. Заниматься подобными глупостями он не собирался. Он едва замечал жару, лето, реку… Сегодня его посетила необычная мысль.
Его всегда интересовали цвета и оттенки. Он различал их, радовался найденным закономерностям. А недавно тетя достала из старых запасов огромный каталог ниток для вышивания мулине – тысячи цветовых оттенков! Причем не картинки, а образцы настоящих ниток. Странички красных – отдельно светлых, темных, средних и смешанных. За ними – красно-оранжевые и так далее. Особенно многочисленными оказались оттенки коричневого.
Двести оттенков коричневого, и все разные! Чем же этот цвет такой особенный? Коричневый будто создавал основу и звал в гости другие цвета. Бывают нейтрально-коричневые, красно-коричневые, желто-коричневые, серо-коричневые и еще десятки оттенков.
И теперь, неспешно шлепая по песку дороги ВЖК мимо шумной возни на речке, Торик думал вот о чем. В книгах есть жанр, чем-то похожий на коричневый цвет – фантастика. Она тоже многолика – бывает очень разных оттенков-поджанров: научная, космическая, авантюрная, лирическая, мистическая, даже детективная, и все это – фантастика. Удивительный жанр и удивительный цвет чем-то похожи.
Торик размышлял о многом. Лишь одна мысль никогда не приходила ему в голову. Он смутно догадывался, что мальчишки его возраста живут совсем другой жизнью. Так, может быть, все-таки правильно жить так, как они, а не как он?
* * *
Сочная желтая груша закатилась в куст махрового шиповника и никак не хотела оттуда вылезать. Дядя Миша, выгонявший ее тростью, терял терпение, а массивный горб и больные суставы не давали ему нагнуться.
– А ты вот, молодой человек, чем разглядывать сцену, взял бы да и помог раздобыть искомое, а?
Торик неловко залез в куст, обломив несколько веток.
– Ну, эдак-то и я бы, наверное, смог! – не удержался от сарказма дядя Миша, но грушу взял.
Они прогуливались по нижнему саду, разглядывая новые бабушкины цветы. Дядя Миша аккуратно доел грушу, вынул сложенный клетчатый платок, тщательно вытер руки и медленно уложил платок в карман.
Прошли мимо небольшой ровной площадки: по центру вкопан наискось металлический стержень, а по кругу от него – каменные метки, одни ближе, другие дальше.
– Всегда хотел узнать: что здесь такое? – спросил Торик.
– Не догадываешься?
– Похоже на… солнечные часы?
– Правильно, это они и есть. И ведь работают!
– Их папа сделал?
– Нет, это не папа твой сделал. Я когда маленький был, эти часы уже были старыми. Подозреваю, что они здесь чуть ли не с семнадцатого века.
Торик с недоверием посмотрел на дядю Мишу. Нет, сейчас тот не шутил. Перед мысленным взором тут же протянулась длинная вереница людей: вот его дед, а за ним уже его дед и прадед. У всех жены, дети, братья, сестры. И тянется этот ряд далеко-далеко в прошлое. Их сейчас уже нет никого, но след остался, причем видимый, не воображаемый – вот эти странные часы. Теплое ощущение сопричастности охватило Торика, и он растроганно глянул на собеседника. Тот усмехнулся:
– Похоже, тебя накрыли тени предков?
Торик не знал, что и сказать. Тогда дядя Миша вздохнул:
– Ну что ж, мил человек, пойдем-ка в дом?
В летнем доме они уселись на кроватях: стульев здесь не держали. Над головой дяди Миши висела небольшая композиция в круглой раме. Под стеклом на черном бархате в причудливом узоре изящно переплетались бабочки, засушенные цветы, листья и пушистые веточки ковыля, что рос позади Гневни. Все-таки бабушка София умела создавать удивительные творения, тонко чувствуя гармонию живого и неживого.
Дядя Миша отдышался и неспешно произнес, словно отвечая внутреннему монологу:
– …у всех дела. А ведь не это главное в жизни.
– А что? – осторожно уточнил Торик.
– Оставаться собой. Но это непросто, знаешь?
– Знаю… – невольно прошептал Торик.
Дядя Миша усмехнулся, но тут же посерьезнел:
– Конечно, уже знаешь. Мы не похожи на других. Мы же – белые вороны, слыхал такое выражение? Вроде похожи на других, но отличаемся, внутри – не такие. А люди, как и птицы, не любят «не таких», относятся к ним враждебно. Могут накинуться стаей и заклевать.
– Значит, надо быть как все?
– Неверно! – Дядя Миша даже приподнялся от волнения. – Станешь как все – предашь себя. Обязательно оставайся самим собой, иначе и жить не стоит.
На миг Торик перестал дышать, а дядя Миша продолжил:
– Люди очень разные. Неправильно считать, что есть только «мы» и «они». На самом деле «они» – тоже разные. И среди чужих попадаются свои. Они могут точно так же прятаться. Но если внимательно смотреть и слушать, их можно отыскать. А если очень повезет, даже собрать свою небольшую стаю. – Он тихонько то ли кашлянул, то ли усмехнулся. – И будет у тебя своя стайка белых ворон… Понимаешь?
– Эм-м… – замялся Торик.
– Очень важно находить «своих», тех, кто думает и воспринимает мир, как мы.
– Но… как их узнать?
– Узнаешь. Глаза часто обманывают, а душа – нет. Слушай свою душу.
* * *
Ужин был в разгаре. Настоящая семейная традиция, которую все так любили – собираться, и не столько есть или пить, сколько обсуждать все на свете.
– Миш, ты хотел про художника рассказать. Что там за история? – полюбопытствовала бабушка.
– Ой, Сонечка, и смех и грех! – махнула рукой тетя Катя.
– Я просто шел мимо мусорки и нашел там… гения.
– Прямо-таки гения? – усмехнулась бабушка.
– Вот ты ехидничаешь, а потомки будут о нем говорить только хорошее!
– Так вы нашли картину или человека? – уточнила тетя Таня.
– Человека по имени Анатолий Зверев. Он был совершенно потерян и не хотел жить.
– Танечка, это еще что, – вновь подключилась тетя Катя. – Миша привел его домой, и теперь Анатолий живет с нами, уже больше года. Мы его отмыли, угол отвели под мастерскую. Миша ему купил приличные краски и кисти.
– И теперь он пишет картины. Недавно вот Катю нарисовал.
– Только картина получилась абстрактная.
– Лучше один раз увидеть. Кать, принесешь?
Торик подвинулся поближе. Он еще не видел абстрактных картин.
– Вот, – гордо развернула свиток тетя Катя. – Или надо перевернуть, Миш?
– Дай подумаю… Поверни по часовой стрелке. Да, вот так. Вот тут – волосы.
Торик ничего не понимал. Это что? Очередная шутка дяди Миши? Белый лист заполняли тускло-красные точки, красные линии, красно-коричневые зигзаги и рыжевато-красные всполохи. И вот это – портрет?!
– Понимаю, – терпеливо сказал дядя Миша. – Он открывается не сразу. Нужно подождать.
Торик продолжал смотреть на картину. Линии… точки…
– Видимо, это выше моих сил, – скептически заметила тетя Таня.
– Ой! – вдруг вскрикнул Торик.
– Увидел? – заинтересованно подался вперед дядя Миша.
– А она была в очках?
– Да! – обрадовался он.
– Ее взгляд! И волосы! – понимание охватывало Торика, как пожар. – А вот это длинное…
– Это я держала книгу, – подсказала тетя Катя.
– Похожа? – серьезно спросил дядя Миша.
– Да-а… – удивленно протянул Торик.
– В этом его гениальность. Вроде бессмысленный набор пятен и точек, но при этом – похоже. Таня, смотри: это очки, вот глаза. Это волосы в пышной прическе.
– Теперь вижу! Ничего себе! И много он такого нарисовал?
– Танечка, он рисует постоянно, – пояснила тетя Катя. – Миша только успевает ему краски покупать.
– И долго он будет у вас жить? – практично поинтересовалась тетя.
Дядя Миша помрачнел, но ответил:
– Сколько потребуется. Надеюсь, долго. Люди еще узнают о Звереве. И я рад, что именно мне выпала честь оказать ему помощь, когда он нуждался.
И этот человек когда-то предостерегал Нинмихалну, приютившую студентку?!
* * *
«На сон грядущий» дядя Миша читал по памяти стихи, а остальные слушали. Бабушка откинулась на стуле, прикрыв глаза. Скорее всего, она знала автора, да и сами стихи. Это был ее мир.
Мрачная поэма отзвучала, и в комнате повисла тишина – слушатели продолжали жить в жутковатом мире, созданном зловещим гением прошлого. Затем тишина перестала быть приятным послевкусием и теперь давила. Хотелось противостоять ей, но не находилось слов. И вдруг бабушка прошептала: «Ананасы в шампанском…» Потом громче:
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
– В чем-то норвежском? – с улыбкой переспросил дядя Миша. – Это чьи стихи-то, Соня, напомни?
– Северянин такой был.
– Надо же так перевернуть обычные слова, чтобы они заиграли! Сказал бы «искрúсто и óстро», никто бы и внимания не обратил, а тут именно «úскристо и острó»!
– И какие богатые ассоциации, словно пузырьки на языке шипят.
– Да… Серебряный век… Сколько же мы потеряли.
– Мы помним, – твердо возразила бабушка.
– Мы-то помним. Но мы – уходящее поколение…
* * *
Утром стихов не читали. Тетя Таня ушла на работу, гости отправились прогуляться по окрестностям, а бабушка занималась цветами.
Ближе к полудню Торик с бабушкой присели отдохнуть на заднем крыльце. Торик умиротворенно смотрел на нижний сад, затем взгляд неизбежно поднялся к Двудомику, рядом с которым стояло раздвоенное дерево.
Нет. Неправильно. Это только городские говорят «то дерево», «этот куст». Папа и особенно бабушка всегда называли деревья конкретно – «рядом с той ольхой» или «у этих ясеней». Так было правильней. Иначе можно и про кота Кешу сказать «серое животное».
Бабушка словно прочитала его мысли.
– Вон там, видишь? Тополя стоят, осокоря. Они – братья: постарше и помладше, как мы с Мишей.
– Вижу.
– Тот, что слева – мой тополь, мы с ним в родстве. Уйдет он – с ним уйду и я.
Слышать такое было жутковато. Но спорить и переубеждать бабушку Торик не решился. Не спросил, откуда она могла знать такие вещи. Если уж сегодня завела этот разговор, значит, точно хотела поделиться с Ториком своим секретом.
Больше они никогда об этом не говорили. Торик не знал, верить сказанному или лучше скорее забыть. Но с тех пор к тополям возле Двудомика он стал относиться по-особому. Похоже, у бабушки Софии, помимо чудесного чутья всего живого и неживого, была и своя магия.
* * *
Или магия вокруг была всегда, просто раньше Торик был слишком мал, чтобы замечать ее? Вот буквально пару дней назад бабушка Саша позвала его сходить с ней в город, донести сумку. Дело нехитрое – взобраться на Покровский Бугор, дойти до улицы, где расположились магазинчики, набрать всего нужного да домой вернуться.
Но на обратном пути на песчаной дороге им повстречалась собака. Не особо большая, зато голодная и без хозяина, а потому опасная. Вроде и нападать не нападала, даже не лаяла, но ощерилась и не давала пройти, косо поглядывая на голые ноги Торика, торчащие из-под шорт.
Бабушка, которая только что мирно рассказывала какую-то бесконечную историю из местной жизни, вдруг вся подобралась, плавным движением переместила Торика подальше, приговаривая:
– А ты вот тута пока побудь, позади мине, штоба…
И сразу после этого ровным и мягким голосом обратилась к собаке, точно сказку рассказывала:
– Собака, шла бы ты своёй дорогой, собака. Мы тибе не боимси, собака, и ты нас не бойси. У нас своя дорога, у тибе – своя. Шла бы своим лесом да людей бы не трогала, собака. Ступай!
Она не замахнулась. Не крикнула. Ничего не бросила. Но собака почему-то послушалась ее. Отрывисто тявкнула и сразу ушла.
Выходит… у бабушки Саши тоже была своя магия?
Глава 7. Ручеек жизни
Октябрь 1975 года, Город, ул. Перелетная, 10 лет
Закружился лист багряный невпопад. Осень, холодно, по ветру листья летят… В знакомой школе все вдруг стало по-новому. Занятия теперь проводили не на первом этаже, а на втором, да еще и в разных кабинетах.
На первый же урок к ним пришла внушительных объемов тетенька с ярко-рыжими волосами и сказала, что учить их в этом году пока не будет, но зовут ее Маргарита Васильевна, и теперь она будет «каждому из вас точно мать родная, только в школе». А официально она называется классный руководитель. Двигалась она быстро и уверенно, часто широко улыбалась и все время вставляла непонятные словечки вроде «зэц райт». Позже ребята узнали, что в следующем году она будет учить класс английскому языку.
* * *
Учителей и правда оказалось много, и Торик никак не мог запомнить их в лицо. Хорошо, что можно было просто ходить вместе с классом, зная, что попадешь в нужное время в нужный кабинет. Хотя нет, одну учительницу он запомнил сразу, с первого урока.
Она была молода, худощава и подвижна. Откинула короткую челку со лба, поправила очки, съезжавшие на острый нос, представилась и сказала, что преподавать она будет математику.
Обычно учителя либо сидели за столом, либо выходили к доске и что-то писали. Эта же вышла к первым партам, подняла руки, совсем как дирижер перед оркестром, и начала объяснять:
– Сегодня вы познакомитесь с новым предметом, куда пока не ступала нога человека. Ваша нога.
Драматическая пауза.
– Мы будем изучать геометрию. Эта наука описывает самые разные события, и все они происходят на плоскости.
Руки ее взметнулись вверх и двинулись, словно очерчивая воображаемый стол.
– Плоскости – это абстракции, их не существует! Но в то же время они – везде, буквально всюду вокруг нас.
Теперь она широким жестом указала на пол, на стены, на потолок, легкими волнами пальцев изобразила парты.
– Но плоскости – не пустыни. Там есть обитатели! Везде и всюду на плоскостях располагаются эти…
Не может быть. Она забыла слово? Указательный палец одной руки непроизвольно потянулся ко рту, в то время как указательный палец другой руки отчаянно дергался, словно нажимая клавиши невидимой пишущей машинки.
– …там повсюду эти… м-м… как их? А! Точки!
Глаза под очками задорно блеснули. Торик решил, что новая математика ему понравится, и запомнил эту сцену навсегда.
* * *
Иногда Маргарита Васильевна устраивала им «классный час» и говорила о чем-то мало похожем на уроки. Эмоции в ней били через край. «Эх, черти полосатые, ведь люблю я вас!» – говорила она, по-матерински обнимая сразу человек пять.
А еще был у нее коронный номер, почти театральный. Посреди обычного собрания класса она вдруг почти на минуту замолкала, глядела куда-то далеко, в необозримое будущее, и говорила, словно рассказывая сказку:
– …И вот однажды ты, Саша, или ты, Володя, окончишь школу, станешь хорошо зарабатывать, будешь директором большой стройки, зайдешь однажды в свою старую школу и скажешь: Маргарита Васильевна, сколько вы еще будете ютиться в своей тесной комнатенке на четверых? Я вам квартиру построил. Давайте переезжать, прямо хоть завтра! И я пущу скупую слезу умиления.
Класс замирал, впитывая услышанное, а потом смеялся. И она тоже смеялась вместе со всеми, но как-то не слишком весело. Скорее горько. Прошли годы, а она так и не дождалась своего героя-строителя-освободителя.
* * *
Апрель 1976 года, Город, ул. Перелетная, 10 лет
В апрельскую субботу весь барак обуяла настоящая лихорадка. Вечные распри и разборки на время забылись. У всех появилось одно большое и важное дело – приготовления к Пасхе. Хозяйки загодя выходили на общую кухню варить яйца. Луковой шелухой никого не удивишь, поэтому яйца окрашивали самыми причудливыми способами – у кого на что хватало фантазии и опыта.
Вечно пришибленная Смирнова окрашивала яйца чем-то темно-зеленым, прикладывая в нужные моменты листики укропа и сельдерея, так что на зеленой поверхности яйца проступали призрачные растительные тени, получалось красиво. Горластая Карасикова подмешала в луковый отвар желтую акварельную краску, а когда яйца почти сварились, вытащила их и облепила размякшим рисом – часть краски впиталась в него, а рисинки потом отвалились. Яйца стали желто-бурые и все в бородавках, как спина старой жабы. Гадко, но необычно.
Самыми красивыми яйца оказались у Хаустовой: она где-то раздобыла импортных наклеек и устроила всем на зависть чуть ли не яйца Фаберже. Такое вот случилось всеобщее безумие и праздник творческого самовыражения.
Впрочем, к вечеру праздник повыветрился, а на его месте осталась лишь заурядная пьянка. Нервные крики женщин перемежались зычной руганью мужчин. Кто-то пару раз пнул дверь Васильевых, но стучать не стал: не нашлось повода.
* * *
Жинтель, муж бабушки Саши, все-таки умер. Болезнь одержала над ним верх. Бабушка вся извелась, стараясь сделать его последние дни и месяцы хоть немного легче.
Торика на похороны не взяли. Да и с дедом он почти не встречался, хотя, как ни странно, даже одним своим молчаливым существованием Жинтель успел повлиять на него. Да, Жинтель умер, но в квартире бабушки осталось множество вещей, напоминавших о нем. И главное – его книги.
* * *
Соседям не нравились радиолюбители. Пользы от них никакой, зато вред надумывал каждый: Мишка считает себя умнее других, а сам помехи выдает да излучение вредное. Но обычно все это оставалось на уровне злобного шипения за спиной. Сегодня же соседи нетерпеливо стучали в дверь:
– Васильев, выходи!
– Не боись, Миха, сильно бить не будем.
– Не вздумай! – увещевала мама.
– А как? – вздохнул папа. – Они же дверь разнесут.
– Открывай, хуже будет! – не унимались разгоряченные соседи.
– Пойду, – решился папа. – Все равно не отступятся.
Отношения обострил несчастный случай. Позавчера папа вылез на крышу, чтобы развернуть поперечную антенну. Получилось хорошо, но, подключая фидер, папа оступился и чуть не свалился, каблуком проломив кусочек шифера. Он подложил в пролом кусок кровельного железа, но это не помогло – теперь в дождь в комнату соседа капала вода, и капля эта стала последней.
Папа открыл дверь и робко вышел. Раздался победный рев, и папа тут же ввалился обратно в комнату, держась за щеку.
– Миша! – вскинулась мама.
– Верка, не дрейфь, он малый крепкий! – раздался дружный гогот из-за двери.
– Слушай меня сюда, – зазвучал уверенный мужской голос. – Хренотенью своей заниматься ты больше не будешь. Все провода твои мы порвали и скинули. Сделаешь новые – тебе же хуже, понял?
– Понял, – невнятно ответил папа закрытой двери. Изо рта у него шла кровь, которую мама вытирала мокрым носовым платком.
Разумеется, саму радиостанцию у папы никто не отнял. Просто теперь она стала мертвой игрушкой. У него отобрали то, ради чего он занимался радиолюбительством все эти годы, – возможность вырываться в другой, свободный от границ и условностей мир. И это было очень, очень грустно.
А Торик впервые осознал, что папа, оказывается, по-своему – тоже белая ворона. До сих пор он об этом не задумывался. Ну сидит папа в своем углу и сидит, он всегда тут, за своей радиостанцией. Это так же привычно, как солнце в небе или туалет во дворе.
Но папа отличался от других, от тех, кто живет рядом. Не был похож на них, и теперь они собрались стаей и его заклевали! Все в точности, как говорил дядя Миша. Выходит, папа… слишком плохо прятался? Хотя ты можешь спрятаться сам, не задирать соседей, не вступать в перепалки, но куда спрячешь антенну длиной больше дома? Получается, у папы не оставалось выбора? Или идти наперекор стае черных ворон, или… Вот теперь наступило то самое «или».
* * *
Родители ходили хмурые, часто вздыхали и маялись от неутолимой безысходности. Трудно было жить так, но и сделать, изменить что-либо казалось невозможным.
Немного грела призрачная перспектива получить новую квартиру. Папе обещали ее на работе с самого начала, тем более что их завод как раз выпускал материалы для строительства. Квартиры давали бесплатно. Вот только ждать их приходилось годами, поскольку желающих было много, а очередь двигалась так медленно.
Сейчас обстановка в доме накалилась, папа лишился главного хобби, а мама – покоя. Но шанс был: папа стоял в очереди уже четвертым, а значит, в следующем доме ему обязательно дадут квартиру.
Семья жила ожиданием перемен к лучшему.
* * *
Торика в эту пору не слишком беспокоил поиск своего места в жизни. Ему просто не нравилось, что у него нет друзей. Из друзей у него остался только Пашка Бычков с верным Пиратом.
Читать Пашка не любил, зато любил слушать. Он где-то доставал журнал «Вокруг света», который папа Торика проглатывал от корки до корки, а сам Торик читал там только фантастику. Несколько месяцев подряд он читал «Пасынков вселенной» Хайнлайна, а потом они с Пашкой сидели на груде железобетонных плит, и Торик пересказывал ему роман в лицах. Иногда Паша переспрашивал, но чаще просто слушал.
Особенно им понравился момент, когда Хью ощутил бесконечность вселенной:
«…Хью закрыл глаза и попытался представить, как он сверлит дыру в полу нижнего яруса. Смутно, очень смутно в сознании его забрезжила картина, переворачивающая всю душу, все привычные представления. Он вышел в сделанную им дыру и падает, падает, падает в нее, в бесконечную пустоту…»
Эту часть Торик зачитал дословно, прямо из журнала. И друзья еще долго сидели, потрясенные не меньше, чем сам Хью. На бытовом уровне настоящая бесконечность и правда ужасает, если отважиться и воспринять ее всерьез.
Пашка прочувствованно вздохнул и хотел что-то сказать, но тут мимо них пронеслась ватага ребят с азартным криком: «Пашка! Айда в войнушку играть!», и вот его уже нет, а на холодных плитах остались лишь Торик и журнал с бездонным космосом…
Они с Пашкой разошлись довольно быстро, хоть и учились в одном классе. Просто стали друг другу неинтересны, пусть их и связывало многое – общее детство, общие игры. Пашки не стало, а новые друзья как-то не заводились.
* * *
Май 1976 года, Город, ул. Перелетная, 11 лет
Одно время Торик надеялся, что они с Шуриком Карасиковым подружатся. Оба были тихими и любили читать, даже обменивались книжками. Но дальше дело не пошло – Клава, скандальная мать Шурика, категорически запретила им дружить: «Не нашего теста ты».
А потом стало еще хуже. Как-то под утро барак проснулся от истошного крика. Карасикова только что пришла с ночной смены. Шурика отправили на каникулы к бабушке, Гарик, тщедушный муж Карасиковой, остался один. И вот теперь Клава нашла его тело…
В этот день папа, придя с работы, привычно плюхнулся за радиостанцию. Даже включил ее было, но тут же вспомнил про полную изоляцию и теперь просто уныло сидел, нюхая канифольный дух паяльника и рассеянно глядя в никуда.
Мама, заставшая его в таком состоянии, быстро поставила сковородку, принесенную с кухни, обняла мужа и сказала тихо и серьезно:
– Даже не думай! Мы обязательно найдем выход.
– Считаешь, он есть? – угрюмо спросил папа.
– Должен быть, – убеждала мама. – Мы уже вон сколько всего перенесли. Это просто черная полоса. Все обязательно наладится.
– Мне бы твою уверенность…
– Имя у меня такое, – грустно улыбнулась мама.
– Да, Вера, пожалуй, так.
* * *
Торик сидел в своих наушниках, а папа – в своих. Он снова запустил радиостанцию! Антенна на крыше – хороший, но не единственный способ выходить в эфир. И да, мама оказалась права: всегда можно найти иной путь.
Папа вспомнил, как устанавливал связь в Кедринске. И теперь растянул антенну до соседнего дерева, а фидер вбросил прямо в окно. Связь появилась, но устойчиво ловились только станции из США, которых и так хватало, а все интересное и редкое пропало. И все равно папа мужественно сидел, крутил ручку настройки, залезая на самые края диапазонов, где изредка пробивалась стоящая станция.
Жизнь не то чтобы наладилась. Она теперь бежала тонким ручейком, а силу жить давало лишь ожидание. Уже в этом месяце завод должен был наконец сдать новый дом, где непременно найдется квартира и для Васильевых.
Оставалось ждать.
* * *
Но месяц закончился, дом начали заселять, а квартиру им так и не дали. Папа посмотрел списки и с ужасом увидел, что в очереди шел теперь семидесятым!
Он отправился к директору:
– Как такое может быть, я же стоял четвертым!
– А ты настырный, Михаил! Ну ладно. Был сигнал. О неподобающем бытовом поведении. Драку, что ли, затеял?
– Я затеял? Это меня избили соседи!
– Не знаю, но сигнал был.
– И из-за этого мне не дали квартиру?
– Не совсем. В твоем доме живет такой Хаустов, знаешь его?
– Видел пару раз. Мы не общаемся.
– А напрасно. Во-первых, человек партийный, идейный. Во-вторых, помог нам с поставками сырья, жена у него, знаешь ли… В-третьих, у него дочь – школьница, ей нужны условия для проживания.
– И что? У меня сын – школьник…
– Но ты же не писал в роно, в прокуратуру?
Папа вдруг понял: все предельно ясно. Его и Хаустова просто поменяли местами в очереди на квартиру. Безнадежно. Он тяжело вздохнул:
– И… что теперь?
– Посмотрим генплан. Следующий дом мы построим в 1977 году, но туда не попасть.
– Значит, никак?
– Почему? В 1978 году запланирована сдача дома по улице Гоголя. Вот там ты точно квартиру получишь, я обещаю. Если новых глупостей не наделаешь. Уж постарайся!
* * *
Дома в тот день папа так ничего и не сказал, собирался с духом.
А потом мама все узнала и не выдержала. Кажется, впервые в жизни она устроила большой и шумный скандал, звуки которого Торик услышал еще в коридоре. Ехидные усмешки соседок словно говорили: «…Мать твоя – такая же, как мы, просто раньше ее не припекало!»
Обстановка искрилась перенапряжением. Кричать родители перестали, но на полу белели осколки тарелок. Такого у них дома еще не случалось, и у Торика шальным стрижом мелькнула мысль, что вместе с тарелками разбилась на мелкие осколки его налаженная жизнь. Его любимый бокал тоже валялся разбитым. Торик полез поднять его. Мама буркнула:
– Оставь, сама уберу. Осторо…!
Разумеется, он порезал палец, теперь надо было остановить кровь. В маме на миг проснулся медработник, и атмосфера чуть потеплела. Папа так и сидел, безнадежно обхватив лицо руками.
– У нас все плохо? – дрожащим голосом спросил Торик, когда злосчастный палец успешно перевязали.
– Нет. У нас как раньше, – ровно ответила мама.
– Но квартиру нам пока не дали, – прогудел папа сквозь ладони на лице.
Мама застонала:
– Миш, я так больше не могу, надо что-то делать! Может, нам уехать куда – на Север или в Сибирь? Говорят, там специалисты нужны, жильем обеспечат…
– Может. Только не на Север. Есть один вариант, но… там все непросто. Не торопи меня. Я думаю.
– Думай скорее.
* * *
Решение нашлось неожиданное.
На завод пришла разнарядка: набирали строителей для работы по контракту в дружественной Республике Ирак. Папа никогда бы не пустился в такую безумную авантюру, но уж больно накалилась обстановка. Если все сложится удачно, они уедут в Ирак всей семьей, папа будет там работать, а мама с Ториком – жить рядом. Через пару лет вернутся и, возможно, получат долгожданную квартиру.
Плюсов виделось много. Во-первых, длительная поездка за границу для таких заядлых туристов – замечательная возможность, которая выпадает раз в жизни. Во-вторых, заработок. Значительную часть забирало государство, но даже оставшегося получалось гораздо больше, чем папа зарабатывал на заводе. Ну и… не придется высиживать в этом враждебном окружении.
Правда, минусов тоже хватало. Жара, неизвестные болезни. Мусульманская страна с очень жесткими требованиями. Тяжелые условия для выживания.
Папа снова ходил к директору. А вечером объявил о своем решении семье: он сначала уедет в Ирак один, посмотрит, что там и как, потом мама с Ториком приедут к нему. А пока поживут у бабушек.
* * *
А Торик? Сначала он никак не мог поверить, что жизнь скоро изменится и им придется жить без папы. Да, папа часто ездил в командировки, но ведь потом всегда приезжал и был рядом. Не слишком общительный, но привычный, большой и надежный… А теперь его не будет. Мысли невольно увели Торика к истории Карасикова. А вдруг с папой там тоже что-нибудь случится… Нет! Все будет хорошо, правда?
Говорят, в критических ситуациях у людей возникает одна из трех реакций: бороться, бежать или замереть. Сейчас ситуация представлялась маленькому Торику очень серьезной. Но бороться или бежать было совсем не в его характере. Вся предыдущая жизнь приучила его к другому. От своих ушей, разрывающих болью, разве убежишь? Или будешь кричать на них, нападать? Бесполезно. Остается единственный выход – набраться терпения, уйти в себя, замереть и терпеливо ждать, пока оно само как-нибудь рассосется.
Именно это он сейчас и делал. Замер и ждал.
Глава 8. Новый мир
Июль 1976 года, Москва, 11 лет
Мама совершенно не похожа на себя. Она не сердится, не смеется, не плачет, ее вообще будто нет. Смотрит вдаль и ничего не видит – ни кораблика, на котором они с Ториком плывут по Москве-реке, ни других пассажиров, ни берегов с такими знакомыми по открыткам видами.
– Мам, а он где сейчас? – спрашивает Торик, растерявший всю свою самодостаточность и ставший просто маленьким мальчиком. Она не отвечает, смотрит в никуда.
Июль. Вроде лето, но все равно холодно. Может, от воды. А может, холод у них внутри. Они не привыкли жить одни, без него, без папы. Этому еще предстоит научиться. Он там освоится, обживется, а потом им пришлют вызов. И тогда Торик с мамой прилетят в неведомый Ирак и будут там жить. Интересно, как там?
Через пару месяцев начали приходить первые письма. И почти сразу обнаружилось, что маме вызов пришлют, а Торику – нет. Там нет русской школы. А главное – в тех краях царит дикая, нечеловеческая жара. Так что мама вскоре уехала, а Торик остался жить у бабушки. Один.
* * *
Сентябрь 1976 года, Город, ул. Затинная, 11 лет
«Динь-дон-н-н-н-н», – важно сказали часы, покряхтели механизмом, взяли драматическую паузу и только потом пробили девять раз. Пора вставать. Хорошо, что пятиклассники учатся во вторую смену! Торик уселся на диване и огляделся. На тумбочке гордо стоял пузатый черно-белый телевизор, накрытый кружевной салфеткой. У стены расположилась аккуратно застеленная бабушкина кровать, а на ней высились две огромные подушки, тоже в кружевных салфетках. Мир бабушки Саши. Так она понимала роскошь и красоту.
