Бонеморт
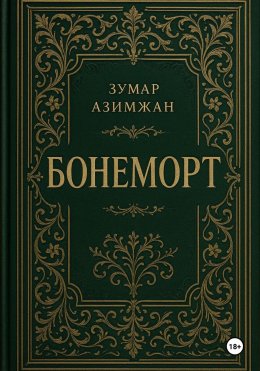
Книга «Бонеморт»
Утро семилетнего Дамиано началось с резкого хлопка двери. Солнце ещё только пробивалось сквозь стёкла, но мальчик уже сидел на кровати, глядя в окно, как его отец, торопливо застёгивая пиджак, шагал по утренней улице по направлению к заводу.
Дамиано умылся прохладной водой, прогнав остатки сна, и сел за кухонный стол. Мама, уже одетая для работы, поставила перед ним тарелку с дымящейся яичницей.
– Я опаздываю, – торопливо сказала она. – Поешь, а потом сходи, пожалуйста, в магазин за хлебом.
Дамиано молча кивнул, набирая в ложку золотистый желток. Мама наклонилась, нежно поцеловала его в щёку, и через мгновение в квартире снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов.
Позавтракав, мальчик отправился за хлебом. Чтобы сэкономить время, он решил свернуть в знакомый, но всегда безлюдный переулок. Эта короткая дорога стала для него самой дорогой в жизни.
Едва он прошёл половину пути, как из ниши подворотни метнулась тень. Чья-то сильная рука грубо зажала ему рот, не дав издать ни звука. Второй обхватил его, поднимая с земли и потащив вглубь тёмного прохода. Дамиано в ужасе забился, подумав, что на него напал уличный грабитель, но вдруг почувствовал резкий запах химикатов. Сознание поплыло, и мир поглотила темнота.
Он очнулся в сыром, плохо освещённом подвале. Воздух был тяжёлым и пахлом плесенью и немытыми телами. Вокруг, прижавшись друг к другу, сидели другие дети – испуганные, бледные, с пустыми глазами. Дамиано, не понимая, что происходит, молча прижался в углу, стараясь не привлекать внимания.
Внезапно дверь со скрипом отворилась, и в подвал вошёл сурового вида мужчина – надзиратель. Его холодный взгляд скользнул по детям, выискивая кого-то. Он молча указал на троих, и те, покорно опустив головы, вышли за ним.
Когда дверь захлопнулась, Дамиано шёпотом спросил у сидящего рядом мальчика:
– Куда их увели?
– Не знаю точно, – так же тихо ответил тот. – Говорят, тех, кого выбирают, отправляют в хорошие места. Так сам главарь обещает.
По лицу Дамиано покатились предательские слёзы. Мальчик тут же дёрнул его за рукав.
– Не плачь! – прошептал он с испугом. – Надзиратель бьёт тех, кто плачет.
Дамиано сглотнул ком в горле, изо всех сил сжимая веки. Он вобрал в себя воздух, пытаясь подавить рыдания, понимая, что тишина сейчас – его единственная защита.
Три дня пролетели в подвале, сливаясь в одно долгое, тоскливое мгновение. Чувство голода стало привычным, еды выдавали ровно столько, чтобы не умереть с голода, и Дамиано почувствовал, как его щёки ввалились, а одежда висит свободнее. Он начал привыкать к этому полумраку, к тихому плачу по ночам, к страху, вползающему в душу. Казалось, смирение было единственным способом вынести невыносимое.
Но каждый день сквозь толщу стен доносился отдалённый, но неуловимый шум – настойчивый ропот прибоя и пронзительные крики чаек. Эти звуки были ему чужды. В его старом, далёком доме за окнами шумели только машины и голоса соседей. Море означало, что его увезли очень далеко, и эта мысль заставляла сердце сжиматься от тоски.
Однажды дверь подвала с привычным скрипом распахнулась. Вошёл надзиратель, и дети, затаив дыхание, застыли в ожидании выбора. Но за ним последовала другая фигура – невысокий, плотно сбитый мужчина, карлик, чьё тело, казалось, состояло из сплошных мышц. Его рост не превышал полутора метров, но в его осанке чувствовалась непререкаемая власть. Его цепкий взгляд, холодный и оценивающий, медленно скользнул по детям и вдруг остановился на Дамиано. Короткий, безвозвратный жест пальцем – и всё было решено.
Грубые руки вытолкнули его на улицу. После подвальной сырости дневной свет резал глаза. Его втолкнули в кузов грязного грузовика, где уже сидели несколько других детей. Двигатель взревел, и они тронулись в путь, увозя его от этого временного ада в неизвестность.
Путешествие растянулось до самого вечера, пока наконец в воздухе не повеяло солёной свежестью, а в ушах не зазвучал настоящий, а не воображаемый, гул моря. Они прибыли в порт – хаотичное место с кричащими чайками, запахом рыбы и мазута. Сумерки сгущались, когда Дамиано пересадили с тряского грузовика на покачивающуюся деревянную лодку. Она отчалила и скрылась в стене надвинувшегося с моря тумана. Он цепенел от страха, но слёзы замораживал внутри, помня о запрете плакать.
Его разбудили утром, грубо пиная его по ноге. Он открыл глаза и увидел его – небольшой скалистый остров, выраставший из воды, укутанный утренней дымкой. На берегу стоял тот самый карлик. Он окинул взглядом новоприбывших детей, и на его лице расползлась ухмылка – странная смесь удовольствия и презрения. Он что-то говорил хриплым голосом на непонятном языке, слова которого падали, как камни.
Затем надзиратель погнал их по узкой тропе, вглубь острова. Она вела к массивному, мрачного вида сооружению: входу в пещеру, укреплённому и переделанному в подобие крепости. Вход закрывала тяжелая железная решётка, больше похожая на ворота тюрьмы. Скрипнув, они открылись, пропустили группу внутрь, а затем с оглушительным лязгом захлопнулись, навсегда отсекая внешний мир.
Так, в каменном мешке, в сыром мраке, началась новая жизнь Дамиано – жизнь, в которой не было места ни солнцу, ни надежде.
На следующее утро в каменный мешок, служивший им спальней, снова вошёл Сальвадор Ломбарди. Его низкая, широкая фигура отбрасывала на стену уродливую тень в свете утреннего солнца, пробивавшегося сквозь решётку. Наступила минута сортировки. Его хриплый голос, отдающий команды на ломаном местном наречии, раздавался в сыром воздухе. Он тыкал коротким пальцем в детей, разделяя их на группы, словно скот.
«Двое – на рыбацкие лодки. Двое – в огород. Трое – на чистку рвов…»
Судьба каждого решалась в мгновение ока. Вскоре у стены остались лишь двое – Дамиано и ещё один тщедушный мальчик с большими испуганными глазами. Карлик окинул их медленным, оценивающим взглядом, на его губах играла та же неприятная, самодовольная усмешка. Он что-то коротко и отрывисто бросил надзирателю, тот кивнул с подобострастием и грубо подтолкнул обоих мальчишек вперёд.
Их повели не к общим работам, а к небольшому, покосившемуся дому на окраине лагеря. Внутри, в клубах табачного дыма, сидел древний старик с лицом, испещрённым морщинами и шрамами. Надзиратель что-то прорычал ему повелительным тоном. Старик молча кивнул, его глаза, потухшие и безразличные, скользнули по новичкам. Он молча сунул им по краюхе чёрствого хлеба и кружке мутной воды.
Пока мальчики жадно ели, старик уставился на них и хрипло спросил: «Вы кто? Откуда?»
Дамиано, прожевав последний кусок, робко прошептал: «Я из Турина».
Второй мальчик, чуть старше, с каплей супа на подбородке, добавил: «А я из Монсы».
Старик тяжело вздохнул, будто их происведение было ещё одним грузом на его плечах.
«Того карлика зовут Сальвадор Ломбарди, – проскрипел он. – Глава местной банды и… предприниматель, – он выплюнул это слово с презрением. – Семья Ломбарди держит здесь всё. А вас двое он выбрал не для грязной работы. Нет».
Он помолчал, давая словам просочиться в их сознание.
«Он выбрал вас быть своим личным орудием. Своими псами для самых грязных дел. Я научу вас. Как подслушивать. Как красть. Как передавать сообщения. Как пускать нож под ребро, чтобы не шумел».
Дамиано и Рауль – так звали мальчика из Монсы – переглянулись. Они не до конца понимали весь ужасающий смысл этих слов, не осознавали, в какую бездну их толкают. Но в интонации старика, в его потухшем взгляде была такая леденящая душу окончательность, что они могли лишь покорно кивнуть, боясь даже пискнуть. Они поняли главное: любое неповиновение будет наказано. Их будущее, тёмное и кровавое, началось с этого безмолвного кивка в табачном смраде хижины.
Два года изнурительных тренировок превратили мальчиков в тени прежних себя. Их дни были расписаны по минутам: утренняя муштра, основы рукопашного боя, работа с холодным оружием. Сначала – деревянным, потом – настоящим, тяжелым и остро заточенным. Старик, чьё лицо никогда не выражало ничего, кроме холодного безразличия, был безжалостным инструктором. Он не учил, а выжигал слабость, вдалбливая в их сознание один главный принцип: в этом мире есть два типа людей – те, кто наносит удар, и те, кто его получает.
Когда их движения стали точными и выверенными, а тела – крепкими и жилистыми, методология Старика сменилась. Теория уступила место суровой практике. Физические наказания за малейшую ошибку, спарринги до полного изнеможения, голод как стимул быть быстрее и хитрее.
Ночь была прохладной и ясной. После дневной жары камень отдавал накопленное тепло, а с моря тянуло солёной свежестью. Дамиано и Рауль сидели, прижавшись спинами к грубой черепице, и смотрели на бесчисленные звёзды. В небе висела огромная, почти круглая луна, заливая остров призрачным серебристым светом.
Долгое время они молчали, восстанавливая силы. Тишину нарушал лишь далёкий шум прибоя.
«Знаешь, о чём я сегодня думал?» – тихо, словно боясь спугнуть воспоминание, начал Рауль. Его голос был усталым, но не злым. «О том, как мы с братом, Марко, гоняли мяч на пустыре до самого вечера. До темноты. А потом… потом мы не шли, а бежали домой. Вперегонки. И с порога уже пахло… у мамы был суп с фрикадельками. Таким наваристым…»
Он замолча, сглотнув комок, внезапно вставший в горле.
«Иногда мне кажется, что я до сих пор помню этот запах», – выдохнул он уже совсем тихо.
Дамиано молча слушал. Он редко говорил о прошлом. Оно было слишком болезненным, почти священным. Но в этой лунной тишине, в обществе единственного человека, который мог его понять, захотелось поделиться.
«А я… разговаривал с матерью перед сном», – так же тихо начал Дамиано. Рауль повернул к нему голову, слушая. «У нас была с ней… одна тайна. Она говорила, что если скучаешь по кому-то… нужно смотреть на луну».
«На луну?» – переспросил Рауль, с интересом глядя на серебряный диск.
«Да. Потому что, быть может, и тот человек скучает по тебе и смотрит на неё тоже. И тогда… тогда вы оба смотрите на одно и то же. И так вы встречаетесь».
Они оба уставились на луну, и на мгновение их личные вселенные, полные боли и тоски, соединились в этой одной точке на небосводе.
«А по кому… по кому ты скучаешь?» – робко спросил Рауль.
Дамиано задумался. Образы всплывали, как призраки: улыбка матери, строгий, но добрый взгляд отца.
«По отцу», – наконец сказал он. «Однажды я сильно заболел, температура. И мама была на работе. А он… он сам сварил для меня суп. Куриный. Он был ужасным поваром, суп получился пересоленным и с комками… но он сидел у моей кровати и кормил меня с ложки. Я тогда подумал, что он может всё».
Он умолк, позволив тишине заполнить пространство.
«А я по брату», – прошептал Рауль. «Мы лазили по деревьям, и я оступился. Вывихнул ногу, не мог идти. Так он, хоть и был всего на два года старше, взвалил меня на спину и понёс. Два километра до дома. Я помню, как он пыхтел, но ни разу не предложил мне отдонуть или позвать кого-то на помощь. Донёс. Сам».
В его голосе звучала не просто тоска, а гордость. И горечь невосполнимой потери.
Они сидели ещё долго, два двенадцатилетних старика, связанные общим горем и одной луной, под которой где-то там, в другой жизни, их всё ещё ждали.
«Думаешь, она и правда… работает? Эта штука с луной?» – спросил на прощание Рауль, уже спускаясь вниз.
«Не знаю», – честно ответил Дамиано, всё ещё глядя в небо. «Но я очень хочу верить, что да».
Однажды, до рассвета, Старик разбудил их грубым толчком и, не говоря ни слова, повёл через спящий лагерь к массивной железной клетке, скрытой в скалах. Внутри был лишь песок да кости непонятных животных.
– Проживёте здесь три часа – получите еду, – бросил Старик, захлопывая тяжёлую дверь. Замок щёлкнул с окончательностью приговора.
Они кивнули, ещё не понимая. И в этот миг из тёмного угла клетки, откуда-то из-под земли, появились две тени. Две гиены. Голодные, с прищуренными желтыми глазами и оскаленными пастями. Звериный запах ударил в нос, смешиваясь со страхом.
Инстинкт сработал быстрее мысли. Из-за голенищ они выхватили ножи – те самые, с которыми столько часов отрабатывали удары по манекенам. Но манекены не дышали и не бросались на тебя с низким рыком.
Гиены напали стремительно. Одна из них, более крупная, вцепилась в руку Рауля, которую он инстинктивно выставил вперёд. Раздался хруст кости и сдавленный крик. Дамиано, забыв о собственной безопасности, бросился ему на помощь. Он колол гиену в бок, в спину, но толстая шкура и слои мышц поглощали удары. Отчаяние нарастало. Руки немели от боли, нож вот-вот должен был выпасть из ослабевших пальцев.
И тут он увидел: Рауль, белый от боли, уже не мог держаться на ногах. Ещё секунда – и зверь перехватит горло.
В голове пронеслось, как эхо, наставление Старика: «Ребра могут не пробить. Череп – всегда. Бей в голову или в глаз.»
Собрав остатки сил, Дамиано изменил тактику. Он не колол, а с размаху, с диким криком, вонзал клинок в основание черепа первой гиены, потом, отшвырнув её тело, принялся за вторую. Удар. Ещё удар. Лезвие вошло в глазницу. Зверь скуля, рухнул на песок.
Тишина, нарушаемая лишь тяжёлым дыханием Дамиано и прерывистыми стонами Рауля. Его левая рука висела на клочьях мяса и сухожилий, кровь хлестала на песок, окрашивая его в багровый цвет. Дамиано, сам весь в крови и ссадинах, сорвал с себя рубаху, пытаясь наложить жгут.
– Старик! Помоги! – хрипел он, но в ответ была лишь гробовая тишина за решёткой.
Они прождали все три часа. Дамиано прижимал к себе теряющего сознание друга, пытаясь согреть его. Когда солнце поднялось выше, послышались шаги. Старик подошёл к клетке, посмотрел на двух мёртвых гиен, на искалеченного Рауля и на измотанного Дамиано.
– Неплохо, – произнёс он безразлично, отпирая дверь.
Рауля месяц выхаживали самым примитивным образом. Он выжил, но левая рука ниже локтя так и не слушалась его, ставшим вечным напоминанием о том дне. Мальчик сломался. Его дух, и без того надломленный, был растоптан окончательно. В его глазах, помимо страха, поселилась глухая, непроходящая обида – не на гиену, а на того, кто выжил целым и невредимым.
А Дамиано смотрел на него и видел лишь свою вину. Он впитывал в себя этот ядовитый взгляд, принимая его правоту. В его ушах звучала ещё одна максима Старика, ставшая для них законом: «Если ранен один – значит, виноват другой. Не уберёг. Не помог. Не был достаточно силён.»
Эта вина стала новым, самым тяжёлым оружием, которое Старик вручил ему в тот день. И оно готовило их к последнему, самому страшному уроку.
Год, прошедший после инцидента с гиенами, не залечил раны, а лишь загнал их глубже, превратив в источник постоянного яда для Рауля. Его тело адаптировалось к отсутствию руки, но душа – нет. Каждый день был напоминанием о его неполноценности.
Однажды утром Старик выстроил их на краю каменистого плато.
– Есть один путь вниз, к ручью, – его голос был спокоен и холоден. – Кто вернётся первым – получит пайку хлеба и миску похлёбки. Кто вторым… получит десять ударов кнутом.
Это была не гонка. Это был ещё один акт психологической пытки, идеально рассчитанный Ломбарди или его приспешником.
Дамиано рванул с места, как выпущенная из лука стрела. Его тело, сильное и целое, легко преодолевало скалистые выступы. Он был сосредоточен, быстр и безжалостен к самому себе. Для него это была лишь задача на выживание.
Рауль попытался бежать следом, но его тело, лишённое баланса, предавало его. Каждый неверный шаг, каждое неуклюжее приземление на одну руку отбрасывало его назад. Он видел, как удаляется спина его бывшего друга, и ярость подпитывала его, но не могла заменить утраченную конечность. Он пришёл, задыхаясь и покрытый пылью, когда Дамиано уже стоял наверху, даже не вспотев.
Надзиратели схватили Рауля. Прозвучал свист кнута. Первый удар рассек кожу на спине, оставив багровую полосу. Рауль сдавленно вскрикнул.
А в двух шагах от него Дамиано получил свою награду – грубый кусок хлеба и миску с мутной баландой. И тут сработал самый изощрённый механизм пытки: голод.
Голод, который был их постоянным спутником. Голод, который затмевал разум и притуплял все чувства. Запах еды, настоящей, пусть и скудной, ударил в ноздри Дамиано. Инстинкт оказался сильнее жалости, сильнее памяти о дружбе, сильнее вины. Его организм, годами живший в режиме выживания, требовал подкрепления.
Он откусил кусок хлеба. Потом ещё один. Он ел, не поднимая глаз, стараясь не видеть, не слышать. Но с каждым ударом кнута за спиной его челюсти сжимались всё сильнее, а жевание становилось почти животным, яростным. Он не наслаждался едой – он глушил ею свой стыд, свою беспомощность, своё соучастие в этом унижении. Со стороны это могло выглядеть как кайф.
Рауль, сквозь пелену боли и слёз, видел это. Он видел, как его спина горит огнём, а тот, кого он когда-то считал братом, «смакует» свою победу. В его воспалённом сознании сложилась простая, чудовищная картина: Дамиано виноват во всём. Виноват, что та гиена откусила ему руку, а не Дамиано. Виноват, что он всегда сильнее и быстрее. Виноват, что сейчас, пока его истязают, он спокойно ест.
В тот момент, под свист кнута и с хрустом чужого хлеба в ушах, последние остатки товарищества умерли. Их место заняла тихая, глубокая, как океан вокруг острова, ненависть. Он не просто затаил обиду. Он возвёл Дамиано в ранг главного врага, источника всех своих страданий.
И Старик, и Ломбарди знали, что делали. Они не просто наказывали одного и награждали другого. Они заставляли одного питаться болью другого. И это отравляло их обоих окончательно и бесповоротно.
День, когда им исполнилось по семнадцать, они встретили с редким проблеском надежды. Годы унижений, пыток и тренировок должны были, по их наивному предположению, наконец-то закончиться. Это был день их «совершеннолетия» в аду Ломбарди.
– Он зовёт нас. Обоих, – сказал Старик, и в его глазах они прочитали нечто новое – нечто окончательное.
По пути в покои Ломбарди они, охваченные внезапным, иррациональным порывом, обнялись. Это было стремительное, нервное объятие двух людей, которые прошли бок о бок через ад и теперь надеялись увидеть свет. В этом жесте была вся их общая боль, все воспоминания, которые ещё не успела полностью уничтожить ненависть.
Ломбарди ждал их, восседая в кресле. Его отвратительная улычка была шире обычного.
– Вы оба молодцы. Росли под моей рукой. Стали сильнее. Теперь осталась последняя задача. Выполните её – и начнёте работать по-настоящему. Вы готовы?
Они, опьянённые надеждой, кивнули. В этот миг карлик произнёс свою фразу, леденящую душу:
– Тогда убейте друг друга. Докажите преданность. Тот, кто выживет, станет моим главным псом. Приступайте к делу.
Мир для Дамиано рухнул. Он замер в ступоре, не в силах осознать этот новый виток бесчеловечности. Но не Рауль. Для него этот приказ стал лишь логичным завершением их пути. Его взгляд упал на его культю, и вся накопленная за годы ярость, вся зависть и обида нашли выход. «Сейчас или никогда. Он снова окажется сильнее, если я не нападу первым».
С криком, в котором была вся его сломанная жизнь, Рауль выхватил нож и, вцепившись другой рукой в плечо Дамиано, с размаху вонзил лезвие ему под ребро.
Боль пронзила Дамиано, вырвав его из ступора. Началась отчаянная, яростная схватка. Рауль, ведомый слепой ненавистью, сначала брал верх, используя ярость и подлость. Но его тело подвело его – он споткнулся. Дамиано, истекая кровью, навалился на него, сильными руками сдавил его горло.
И в этот миг, глядя в широко открытые, полные ужаса и ненависти глаза своего бывшего друга, Дамиано увидел в них всё их прошлое. Все тренировки, все тайные разговоры, все общие страдания. Он увидел не врага, а сломанного мальчика из Монсы. И его руки разжались. Он отпустил Рауля, с трудом поднялся, вытащил нож из своего бока и, шатаясь, повернулся к Ломбарди.
– Я… выиграл, – хрипло выдохнул он, зажимая рану. – Но я не буду его убивать.
Карлик смотрел на него с нескрываемым интересом.
– Тебе и не надо. Ты победил. Этого достаточно.
В сердце Дамиано вспыхнула бешеная, пьянящая надежда. Он не поддался! Он остался человеком! Он выиграл, не став монстром!
И в этот миг надежда была жестоко разбита. Рауль, с рыком одержимого, поднялся и, схватив тяжелый молоток со стола, занёс его над головой Дамиано.
Прогремел выстрел.
Пуля вошла точно в лоб Рауля. Он рухнул на каменный пол, не успев издать ни звука.
Ломбарди медленно убрал дымящийся пистолет.
– Слишком эмоционально. Ненадёжно, – равнодушно констатировал он.
Дамиано, в шоке, с рёвом бросился на карлика, но надзиратели грубо скрутили его.
– Отведите его в пещеру, – распорядился Ломбарди. – Пусть посидит в тишине. И подумает. Выбор прост: либо умереть, как его друг, либо наконец-то начать работать на меня.
Тяжёлая дверь пещеры захлопнулась, оставив Дамиано одного в полной, абсолютной темноте. Он не плакал. Он сидел в луже собственной крови, в смраде смерти и предательства, и впервые за долгие годы его разум был абсолютно ясен.
Спустя несколько часов, когда его глаза начали привыкать к мраку, он заметил слабый, серебристый луч, пробивавшийся сквозь узкую трещину в своде пещеры. Он упёрся в каменный пол, рисуя бледное пятно. Дамиано дополз до него и задрал голову. Сквозь щель он увидел клочок ночного неба и одинокую, полную луну.
И тогда, как удар под дых, его пронзила память. Не образ, а запах – тёплый хлебный дух из кухни, смешанный с мамиными духами. И голос, тихий и убаюкивающий, который он насильно вытолкнул из памяти, чтобы не сойти с ума от тоски в подвале похитителей.
«Если скучаешь по кому-то, мой мальчик, смотри на луну», – шептала она, укладывая его спать. «Быть может, и он скучает по тебе и смотрит на неё. Тогда вы оба смотрите на одно и то же… и так вы встречаетесь. Это наш секрет, ладно?»
Дамиано прижался лбом к холодному камню. В его иссохшей гортани вырвался сдавленный, похожий на стон звук. Он не молился Богу – Бог давно отвернулся от этого острова. Он смотрел на луну и шептал, как заклинание, обращаясь к призраку в Турине:
«Смотри, мама… Смотри на луну… Я здесь…»
Это была не надежда на спасение. Это была попытка просто не сойти с ума, найти точку опоры в абсолютном падении. В эту ночь луна стала его единственным свидетелем и единственной нитью, связывающей его с человечностью.
Следующий день не принёс облегчения. Время в каменном мешке потеряло смысл, растянувшись в бесконечную муку. Дамиано лежал на холодном полу, обессиленный кровопотерей и горем. Рана под рёбрами горела огнём, а вокруг нея уже вились чёрные, наглые мухи, привлечённые запахом запёкшейся крови и гноя. Он слабо, почти машинально, отмахивался от них, но сил не было даже на это.
Его сознание плавало, рождая фантомов. В углу шевелилась тень – ему чудился Рауль, смотрящий на него пустыми глазницами. Он слышал его шёпот: «Ты виноват… Ты мог спасти…» Это были не голоса извне, а эхо его собственной, растерзанной души.
Когда дверь со скрипом отворилась, он даже не пошевелился. Надзиратель грубо поднял его и, почти волоча, потащил обратно в покои Ломбарди.
Карлик сидел в том же кресле, наблюдая, как перед ним, едва стоя на ногах, стоит итог его многолетнего «воспитания» – измождённый, грязный, с помутнённым взглядом юноша, от которого пахло смертью.
– Ну что, – голос Ломбарди был спокоен и деловит. – Решил? Будешь работать?
Вопрос повис в воздухе. Дамиано мог бы плюнуть ему в лицо, броситься на него и умереть. Но смерть Рауля, та самая пуля, что прервала взмах молотка, отняла у него и эту возможность. Смерть стала бессмысленной. В его опустошённом сознании не осталось ни надежды, ни ненависти, ни даже страха. Осталась только первобытная, животная потребность перестать чувствовать боль. А для этого нужно было согласиться.
Он медленно поднял голову. Его глаза, потухшие и пустые, встретились с взглядом Ломбарди.
– Да, – его голос был чуть слышным скрипом. – Я буду работать.
В этих словах не было ни капитуляции, ни верности. Была лишь констатация факта. Его воля была сломлена.
Ломбарди удовлетворённо кивнул. Сделка была заключена.
Его отвели в небольшую каморку при доме одной из служанок. Его рану впервые по-человечески обработали, перевязали, накормили горячей похлёбкой. Но эти простые акты заботы не несли утешения. Они были частью оплаты. Платы за его душу.
Так началась его новая жизнь. Он больше не жил в общем бараке. Он носил чистую одежду и регулярно ел. Он стал тенью семьи Ломбарди, их личным демоном, воплощённой угрозой. Он ходил по острову, и его одного-единственного взгляда было достаточно, чтобы заставить замолчать толпу. Он вёл учёт «должников», собирал «дань» и был тем последним аргументом, который вселял ужас.
Он стал главным палачом.
И каждый день, глядя в глаза очередному запуганному человеку, он видел в них отражение того самого мальчика из Гранады, который однажды утром отправился за хлебом и так и не вернулся домой. Но тот мальчик был уже мёртв. Остался только эффективный, безжалостный и абсолютно пустой инструмент по имени Дамиано.
Имя «Дамиано Бонеморт» стало на острове синонимом безжалостного рока. Его боялись больше, чем болезни или шторма. Самые богатые купцы бледнели, заслышав его шаги, а самые отпетые контрабандисты немели в его присутствии. Все стремились вовремя вернуть долги семье Ломбарди, лишь бы не столкнуться с его ледяным взглядом и молчаливым приговором.
Однажды утром он направился к фермеру Луке, чья плантация на склоне холма давно была у всех на виду. Засуха этого года выжгла землю дотла, оставив лишь потрескавшуюся, бесплодную глину. Сам Лука, сгорбленный и постаревший не по годам, копался у забора. Увидев приближающуюся тень Дамиано, он медленно выпрямился, в его глазах читалась не столько боязнь, сколько горькая покорность.
– Доброе утро, синьор Бонеморт, – тихо сказал фермер.
– Господин Сальватор хочет, чтобы ты платил вовремя, – голос Дамиано был ровным и безжизненным, как скрип могильного камня. – Или будут последствия.
– Все деньги… я вложил в это поле, – Лука с тоской обвёл рукой выжженный горизонт. – Засуха всё убила. У меня ничего нет.
– Меня не интересуют твои дела, – отрезал Дамиано. – Платить надо вовремя.
Фермер смиренно кивнул, словто ожидал такого ответа.
– Прошу, пройдёмте к дому.
Они пошли по пыльной тропе. В доме, в полумраке, Дамиано мельком увидел двух близнецов – девочку и мальчика, – а на кровати лежала исхудавшая женщина с лихорадочным блеском в глазах. Дамиано предпочёл остаться на улице, под палящим солнцем, которое казалось ему ближе, чем чужая беда.
К нему подошёл мальчик. Большие, доверчивые глаза смотрели на него без страха. Малыш порылся в кармане и протянул Дамиано горсть ракушек-каспий.
– Это для тебя, – прошептал он.
Дамиано, машинально, взял ракушки. Его рука в чёрной перчатке на миг задержалась, коснувшись мягких волн на голове ребёнка. В этом жесте было что-то древнее, забытое, остаток другого человека, которым он когда-то был.
Выйдя из дома, Лука что-то зажал в измятой платке. Он отошёл с Дамиано в сторону, под сень старого засохшего дерева. И тут, с видом человека, отдающего последнее, он развернул платок. Внутри лежал охотничий нож. Лезвие было безупречно, а рукоять из тёмного дерева инкрустирована золотом.
В мозгу у Дамиано что-то замкнуло. Вспышка. Не платок, а тёмный переулок. Не нож, а лезвие, вонзающееся ему под ребро. Не просящие глаза фермера, а перекошенное яростью лицо Рауля. Система выживания, которую в нём взрастили, сработала мгновенно: «Угроза! Оружие! Убей первым!»
Он не думал. Он действовал. Рука с зажившим шрамом под одеждой метнулась вперёд. Его собственный клинок, короткий и без украшений, блеснул на солнце и со свистом рассек горло Луке. Фермер не успел издать ни звука. Он рухнул на землю, широко открыв глаза, в которых застыло не столько страдание, сколько полное непонимание. Его пальцы разжались, и золотой нож упал в пыль.
Дамиано, тяжело дыша, стоял над телом. Только сейчас до него стало доходить. Он посмотрел на свой окровавленный клинок, потом на дорогой нож на земле. На подарок, который он принял за угрозу. На просьбу, которую он принял за выпад.
Он наклонился, подобрал золотой нож. Он был тяжёлым. Тяжёлым от чужой жизни, которую он только что забрал. Сунув его за пояс, он развернулся и быстрым шагом ушёл прочь, не оглядываясь на дом, из которого доносился испуганный детский плач.
Вернувшись, он отчитался Ломбарди с тем же каменным выражением лица.
– Фермер не отдал денег. Я его убил.
Карлик, развалившись в кресле, удовлетворённо хмыкнул. Он не сомневался. Вера в собственную систему подавления была для него дороже правды.
А Дамиано ушёл в свою каморку. Он вытащил золотой нож и положил его на стол. Он смотрел на него часами. Это был не трофей. Это было зеркало, в котором он видел не герба Ломбарди, а своё собственное отражение – человека, который настолько сломлен, что уже не может отличить просьбу от угрозы, подарок от оружия. Он стал совершенным орудием. И впервые за долгое время в его ледяной пустоте шевельнулось что-то новое – всепоглощающее, немое отвращение к самому себе.
Власть Сальвадора Ломбарди, казавшаяся незыблемой, как скалы его острова, рассыпалась в прах за считанные месяцы. Новый политический деятель, непримиримый и амбициозный, объявил войну старому порядку. Начались облавы, аресты, показательные процессы. Империя, построенная на страхе и жестокости, пала под грузом официальных протоколов и судебных ордеров.
Узнав, что последние его соратники схвачены, а его фамилия навсегда будет ассоциироваться с позором, Сальвадор Ломбарди заперся в своём кабинете. Эхо единственного выстрела прокатилось по опустевшим залам, поставив точку в истории его жестокого правления.
Дамиано, как правая рука и главный палач клана, был осуждён одним из первых. Суд был скорым. Двенадцать лет строгого режима – приговор, который многие сочли слишком мягким для «Дамиано Бонеморта».
Так началась его новая жизнь. Жизнь в каменном мешке, который был немногим лучше подвала его детства, но с одной ключевой разницей: здесь он был лишён даже призрачной защиты имени Ломбарди. Здесь он был просто номером.
Первые дни он провёл в напряжённом ожидании. Он не понимал, почему на него смотрят с таким немым, голодным интересом, почему в столовой вокруг него образуется вакуум, а в душевых слышатся приглушённые перешёптывания. Он был неумолим и холоден, как всегда, но это не отпугивало, а лишь разжигало азарт.
Правду он узнал случайно, от старого опустившегося «вора в законе», которому было уже всё равно.
– На тебя, палач, самый крупный куш за последние годы, – хрипло прошептал тот в тюремной библиотеке. – Заказ ещё с воли. Тот, кто тебя уберёт, не сядет в ШИЗО, срок не добавят, а на выходе получит пачку денег, что его семье хватит до старости. Для многих ты – путёвка на свободу. Роскошную и досрочную.
И всё встало на свои места. Он был не просто зеком. Он был призом. Живым, дышащим выигрышным билетом.
Восемь лет. 2920 дней. И на него покушались. Каждый. Божий. День.
Единственным моментом относительного покоя были редкие ночи, когда луна, полная и равнодушная, заглядывала в крошечное оконце его камеры. Он лежал на нарах, положив руки под голову, и следил за её медленным движением по решёткам.
Ритуал стал для него таким же важным, как сон или еда. В эти минуты он переставал быть «Бонемортом», тюремным зверем. Он снова становился тем мальчиком из Турина. Он мысленно повторял их «секрет», и это было похоже на молитву язычника, который верит, что само повторение ритуала обладает силой.
«Мы оба смотрим на одно и то же…»
Он не верил, что она всё ещё жива. Он не верил, что она помнит. Он верил лишь в магию этого жеста. Если он прекратит смотреть, если порвёт эту воображаемую нить, то окончательно умрёт и его душа, превратившись в то пустое место, которым он притворялся. Луна была его якорем в реальности, напоминанием, что где-то там существует другой мир, где люди не режут друг друга из-за пайки хлеба.
Это превратило его существование в перманентную войну. Он спал урывками, чутким, животным сном, всегда лицом к двери камеры. Ложка в его руке была не столовым прибором, а потенциальным клинком. Прогулка по двору – полосой препятствий, где каждый мог метнуть заточку. Он научился видеть намерение в напряжении плеч, читать убийство в мимолётном взгляде.
Он всегда был при оружии. Не в прямом смысле – его обыскивали, как и всех. Но его оружием стала сама его жизнь, доведённая до предела концентрации. Он превратился в идеального хищника в клетке, где все остальные хотели его шкуру.
Эти восемь лет закалили его иначе, чем остров Ломбарди. Там он был грозным орудием в сильной руке. Здесь не было руки. Была только он, четыре стены и бесконечная очередь из желающих его смерти. Миф о «Бонеморте» треснул и осыпался, а под ним обнажилось нечто более прочное и страшное – не человек и не орудие, а воля к жизни, отточенная до бритвенной остроты. Он выживал не по приказу, а для себя. И в этом была новая, странная форма свободы.
За восемь лет тюремного ада покушения на жизнь Дамиано стали для него обыденностью, рутиной, такой же неотъемлемой, как смена дня и ночи за решёткой. Его существование превратилось в непрерывную цепь изощрённых попыток убить его, и он научился встречать каждую с ледяным, почти машинальным спокойствием.
Однажды надзиратель, человек с пустыми глазами и кривой усмешкой, специально запер его в крошечной, сырой камере карцера, предназначенной для ночных «воспитательных» бесед. Засов с грохотом задвинулся, и через окошко в двери прозвучал едкий вопрос:
– Что, Бонеморт, переживаешь?
Голос надзирателя был пропитан сладковатой ядовитостью. Он ждал страха, унижения, мольбы.
Дамиано, стоя в центре темницы, медленно поднял взгляд. Его лицо не выражало ничего, кроме усталой сосредоточенности.
– Да, переживаю, – тихо и чётко ответил он.
Надзиратель самодовольно ухмыльнулся, решив, что даже этот легендарный убийца дрогнул перед лицом неминуемой расправы. Но Дамиано продолжил, и его голос был ровным и деловитым, как у инженера, решающего сложную логистическую задачу:
– Переживаю, куда девать столько тел в этой маленькой камере. Всё-таки, дело не дешивое.
Усмешка застыла на лице надзирателя, а затем медленно сползла, уступая место растерянности, а потом и первобытному страху. Он ожидал увидеть жертву, но перед ним был холодный расчётливый хищник, думающий не о выживании, а об утилизации отходов.
Дверь отворилась, и началось.
Они входили. Первая пара, вооружёнными заточками, с животной яростью в глазах. Они входили, надеясь на лёгкую добычу и заветный куш. Они входили, один за другим, подгоняемые обещаниями награды и презрительными пинками надзирателя.
И Дамиано встречал их. Он не дрался – он демонтировал. Его движения были лишены ярости, лишь предельная эффективность. Каждый удар, каждый бросок, каждый хруст кости был частью ужасающего плана. Он не отбрасывал тела в стороны, а методично складывал их у входа, превращая в macabre баррикаду из плоти и костей.
Они входили и входили, пока груда тел не выросла до самого потолка, наглухо заблокировав проход. Камера, и без того тесная, оказалась заполнена до отказа. Войти больше не мог никто. И выбраться оттуда – тоже.
