Туда, где ещё теплее
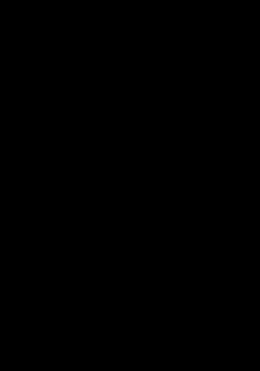
Комната, где кончается воздух
Комната невелика и пахнет так, как пахнут вещи, когда на них давно перестали смотреть. Воздух тяжёлый, слоёный: внизу прелые носки и старый порошок, повыше – кофе, который вчера не допили, ещё выше – тёплая пыль от системника, будто кто-то молотит ею изнутри. На столе – банки из-под энергетиков, на одной трещина в форме молнии; стеклянное небо, в котором гремит только тишина. Клавиатура липкая, и пальцы после неё чуть пахнут карамелью и пластиком. Монитор светит таким мертвенным голубым, что, если долго смотреть, начинаешь верить: это единственный вид дневного света, на который у тебя ещё есть право.
Я сижу близко. Так близко, что в чёрной рамке экрана отражается моё лицо – не лицо даже, а пятно. Иногда двигаю плечами, чтобы убедиться: движение есть. Тело помнит, что живо. Сознание – не всегда. На полу валяются джинсы, заскорузлые от пыли, и толстовка, которой я вытираю стол. Она пахнет мной и чуть-чуть – магазином, где кондиционер всегда выставлен на осень. За шторой тьма. Или день. Я уже не различаю, какая разница. Время – это роскошь для тех, у кого есть планы.
Меня зовут Артём. Тридцать два. Меня недавно попросили со склада. Слово «попросили» звучит мягче, чем было на деле. ««Сокращение»», —сказал начальник, у которого бежевая папка всегда чуть влажная, как ладонь. Я спросил, кого сокращают – карманы или людей. Никто не улыбнулся. Я подписал бумагу и вышел. На улице было прохладно, и от этого стало легче – воздух хоть что-то от меня хотел, хотел, чтобы я замерз. Дом встретил пустым холодильником и запиской от коммуналки. Я равнодушно положил её под магнит в виде красного яблока, купленного когда-то с Настей на рынке; у яблока давно откололась половина, и теперь оно похоже на сердце, которое выели наполовину и оставили.
Комната – мой бункер. Здесь легко притворяться, что мир – по ту сторону двери, а я – по эту. Порог – граница, которую можно держать без оружия. Я хожу по периметру: стол – стул – окно – кухонька – обратно. Иногда задерживаюсь у раковины, включаю воду и слушаю, как она бьёт струёй по металлу, как будто кто-то в соседней комнате запирает дверь. Тогда я делаю тише. Тогда я дышу чаще. Тогда я вспоминаю.
Мать любила ставить чайник и говорить тихими словами, как будто каждое слово – чужое, а она возвращает его хозяину. Пахло спиртом, табаком и тем особым медовым теплом, которое появляется на кухнях поздними вечерами, когда люди спорят, и смеются, и не видят, как быстро уходит ночь.
Потом запах спирта стал сильнее, а слов – меньше. В тот вечер, когда всё кончилось, телевизор шептал анекдоты, и на её губах была белая пена.
Я сидел на табурете и ждал, что кто-то скажет мне, что делать. Никто не сказал. Я позвонил сам. Я держал её паспорт, как открытку из города, в котором никогда не был, и впервые подумал: хорошо, что не надо платить за аренду. Стыд подступил уже потом, когда за окном запищала сигнализация и кто-то матом пытался её унять.
Отец – слово без картинки. Так бывает в детстве: слышишь слово, а образа нет. С годами к нему прирастают чужие лица, но ни одно не сидит как надо. На складе был один – высокий, всегда молчаливый; иногда я ловил себя на том, что хочу, чтобы он на меня накричал. Пусть хоть кто-то на меня кричит как на своего. Он не кричал. Он однажды сказал: «Погрузи аккуратнее». И всё. Я погрузил. Остальное – неважно.
Я когда-то тягал железо. Пахал как все эти парни с районной качалки, считая повторы и притворяясь, что это и есть молитва. Там было тепло: тело знает, что делать, когда его заставляют. Усталость – честная валюта. Ты её платишь – и получаешь обратно сон. Сейчас сон не приходит даже тогда, когда я устал настолько, что руки дрожат, если дотрагиваюсь до стекла. Я сижу и жду, пока усталость сама уйдёт. Иногда она уходит. Иногда остаётся. И тогда я открываю игру.
Игры – как чужие квартиры, в которых ты снимаешь комнату. Везде чисто, понятно, есть правила. На враге – полоска здоровья, у тебя – патроны, карта, квест. Можно умереть и вернуться. Можно оплошать и исправиться. Можно быть кем-то ещё, пока твоё имя лежит на дне стакана с недопитой водой. Я иду туда, когда здесь – нет. Я не люблю слово «эскапизм». Оно слишком литературное для того, что я делаю. Я просто выключаю один экран и включаю другой. В одном видно меня. В другом – то, чем я притворяюсь. Разницы всё меньше, и это, наверное, страшно, но уже не так, как раньше. Страх – чувство молодых.
Иногда я выглядываю за штору. Двор как двор: детская площадка, на которой днём визжат, вечером пьют, ночью целуются те, кому ещё можно. Машины внизу похожи на коробки с обувью: у каждой своя крышка, своя пыль, свой хозяин, который называет её нежно – «моя ласточка». Я так давно ничего не называл «моё», что слово стёрлось. У меня есть комната. Но комната – это не «моя». Это «где я».
Телефон часто молчит, как будто учится у меня. Иногда вибрирует – банк, акции, реклама, какой-то человек путает номер и зовёт Артура на мойке. Я один раз ответил: «Это не Артур». Мужчина на том конце сказал: «Жаль». И повесил трубку. Я ещё минуту держал телефон у уха, будто там могло родиться продолжение. Не родилось. Продолжения – вообще редкая штука. Чаще – многоточие и дальше тишина.
