Лучший из невозможных миров. Философские тропинки к Абсолюту
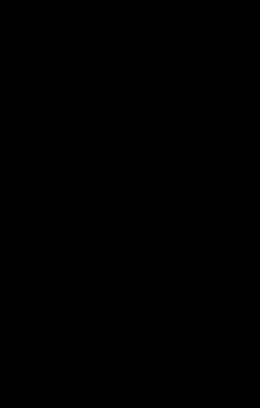
Серия «Российская академия»
© А. М. Винкельман, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие
Мой первый научный руководитель однажды сказал мне: если в области философии ты случайно выразил то, что кто-то уже написал, можно только погладить себя по голове. Эту идею можно развить и сказать, что по голове вообще-то можно и постучать, можно еще побиться ей о стену или стол. Ни одна философская задача или ее решение не станут от этого ни больше, ни меньше. В философии, как сказал Фридрих Шеллинг, дух «трудится уже тысячелетия»[1], только все же, даже если истина достигнута, «каждому пришлось бы в себе самом отыскать и пройти весь путь к ней, с самого начала»[2].
Содержание этой книги многим уже известно или было известно. Однако у нее необычная для философского текста форма. Если в кантовской «Критике чистого разума» есть только главный герой – разум и его судьба, то в этой книге есть еще и несколько второстепенных. Главный герой – это читатель. В отличие от Канта, меня интересует не столько его разум, сколько душа, или, как ее называет Шеллинг, «внутреннее небо человека». Интрига текста в том, что главный герой еще не знает, что произойдет с главным героем: дойдет ли он до конца и изменится ли, как в гётевском романе воспитания, проходя этот путь. Второстепенных героев три. Их задача – повлиять на главного героя, показать ему различные перспективы на жизнь и мир. Самая важная из них – перспектива Абсолюта. Первый из героев – Фридрих Шеллинг, немецкий философ, всю жизнь отвечавший на главный вопрос: почему нечто, а не ничто? Вопреки представлению, что философия не дает однозначных ответов, Фридрих Шеллинг его все же сформулировал. Но то, как он это сделал, – и главный герой книги об этом скоро узнает – только показывает, что однозначных ответов много и с этим фактом придется смириться, а то и искать в нем вдохновение. Второй герой – странник Каспара Фридриха. Его путешествие туда и обратно, из платоновской пещеры на самые вершины гор, будет напоминать читателю, что истина всегда где-то посередине, а где середина – в пещере, в горах или на дороге, – мы не знаем. Если ответ и есть, то только у главного героя. Третий персонаж – это Рассказчик. Неизвестно, самый ли лучший, но единственный имеющийся у меня самой пример того, что занятия философией могут в прямом и переносном смысле спасти жизнь. Рассказчик много плачет и много смеется. Все не как у Спинозы, хотя она никогда не скажет вам ничего, что не поняла уже наверняка.
Как и жизнь, сложная и многослойная, эта книга имеет начало и конец. Как и в жизни, главный герой не запомнит ни то ни другое – он запомнит что-то свое. Хотя в каждом из фрагментов второстепенные герои отвечают за то, чтобы сюжет не развалился, всегда нужно помнить, что связать фрагменты – задача главного героя. Если это не получается, нужно просто идти дальше. Как и в жизни.
Эта книга не учит философии. Я скорее надеюсь, что главный герой чему-то разучится и станет смелее и свободнее. Я также не верю ни в то, что философии можно научить, ни в то, что есть такая философия, которая может изменить мир. Однако его могут изменить те, чей мир изменила философия. Ее я всегда буду определять как некоторую дистанцию, которою мы можем занять по отношению ко всему миру и описать ее. Название книги только на первый взгляд носит полемический характер. Когда-нибудь всем нам выпадет возможность убедить Лейбница в том, что он всего лишь забыл поставить частицу «не». Но можно ли ругать великого философа за опечатки? Книгу я посвящаю своему дедушке Александру.
Напутствие
- Пока мир состоит из частей,
- Нам не ждать хороших вестей
Знаю, мало что раздражает так, как непрошенные советы или рекомендации, как читать работу в стиле Артура Шопенгауэра, но я все же не могу предложить этот текст без некоторого пояснения. Так как задача не разрешить для читателя какую-то философскую проблему, а скорее, во-первых, создать, во-вторых, предложить подходящий эпохе способ говорить об Абсолюте, нужно быть готовым к непривычному формату этого текста. При этом, как шелленгианец, я убеждена, что форма и содержание взаимно определяют друг друга. Поэтому то, что в этой книге есть и строгие пассажи, и шутки, и стихи, и истории, основанные на слезах, не случайность. Еще в ней могли бы быть формулы и уравнения, но так сложилось, что их почти нет (кроме одной). Это многообразие призвано показать разные перспективы на Абсолют и разные способы взаимодействия с ним. Поэтому даже если бы я смогла исполнить мечту Людвига Витгенштейна и написать трактат, состоящий целиком из шуток, то я не стала бы этого делать.
Хотя рассматривать Абсолют мы будем с самых разных сторон, главы все же выстроены в определенном порядке, и я постаралась пояснять все метафизические термины настолько последовательно, насколько возможно. Следуя Шеллингу, я использую термины «Абсолют» и «Безусловное» как синонимы, а там, где все же имеет место разница, поясняю это. Во всех строгих – или же академических – фрагментах я прилежно ссылаюсь на источники и указываю точную страницу по цитируемому изданию. Я проделала эту работу не для того, чтобы не выглядеть голословной, а с надеждой, что, если читателя заинтересует какая-либо мысль, он обратится к оригиналу. То же касается и нескольких авторских переводов, включенных в отдельные главы. Если русский перевод того или иного источника есть, я ссылаюсь на него прямо, если есть изменение – это будет указано в сноске, если русского перевода нет, я указываю страницу оригинального издания.
Начало и конец этой книги, предположительно, совпадают. Напоследок прошу читателя не совсем уж игнорировать сноски. Сама я едва ли всерьез занялась философией немецкого идеализма, если бы не сноски Фридриха Шеллинга.
Благодарности
Роберт Рождественский
- Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.
Мне очень повезло с семьей. Меня всегда поддерживает моя мама Татьяна; для меня она воплощение двух главных философских слов – «любовь» и «мудрость». Мой дядя Дмитрий не только подсказал мне название для этой сложносочиненной книги, много лет он учит меня смелости – и своим примером, и нашими разговорами о том, что даже по дороге размышления нужно идти до конца или не вступать на нее вовсе.
Мне очень повезло с моей академической семьей. Еще в Уфимской гимназии № 3 моя классная руководительница Альбина Левицкая сумела как-то дать мне увидеть, какой мир большой, и поверить, что мне есть куда идти, даже если я пока не знаю дороги. Я начала заниматься философией в Высшей школе экономики в Москве (2013–2017). Нигде в мире я не встретила такого блестящего образования, какое мне дали там. Особенно важными оказались курсы по логике и немецкому идеализму. Там же у меня появились и академические родители. Татьяна Рябушкина, Диана Гаспарян, Владимир Порус и Софья Данько, по меткому выражению самого Поруса, заразили меня философией. Сама бы я сказала, что они окружили меня такой редкой и вдохновляющей верой в свое дело, что я и сегодня думаю о них как о своей академической семье. Сейчас я работаю в совсем другом контексте, но и там вижу, как люди верят в силу фило- софии. Моя руководительница Манья Киснер (Manja Kisner) показала новую для меня перспективу того, как можно писать о философии, и я уверена, что она очень хорошо повлияла на всю мою нынешнюю и будущую работу.
Мне очень повезло с друзьями и близкими людьми. Но назову только тех, кто в последнее время имел непосредственное отношение к этой книге, хотя в Абсолюте останутся и неназванные имена, о которых тоже думаю с благодарностью. Полина Аронсон – человек, который изменил мою жизнь существенным образом. Благодаря Полине я в 2022 году узнала, что Абсолют не так уж молчалив и посылает нам тех, кто должен сказать что-то очень важное. Сьюзан Ниман (Susan Neiman) подтолкнула меня как к возращению в профессиональную философию, так и к написанию этой книги. Когда я думаю о ней, меня всегда посещает мысль, как удивительна жизнь и как неисповедимы – и исповедимы одновременно! – ее пути. Диана Хамис (Diana Khamis) прошла на моих глазах путь от специалиста по теории потенций Шеллинга до врача и мамы. Спасибо ей за то, что она помогает мне объединять физическое и метафизическое. Анастасия Копылова неизменно поражает и вдохновляет меня тем, что в таком маленьком и хрупком человеке может быть столько веры и силы. Я рада, что мы на связи с Матвеем Петровым – это всегда напоминает мне, что физики и философы могут найти общий язык и что мир един. Александр Малахов уже не раз поддержал мои философские занятия – без него было бы меньше музыки и радости. Маргарита Вегенер (Margarete Wegener) – одна из самых потрясающих женщин, которых я встретила на жизненном пути. У нее есть редкий дар делать человека светлее одним своим присутствием. Оксана Соколова не раз доставала меня с предпоследней границы перед «небытием» – так я узнала, что в мире и правда есть волшебники. Йорг Шульте (Jörg Schulte) – его безграничный внутренний свет и сильный ум уже много лет дают мне надежду и редчайшее счастье чувствовать себя дома в любом из возможных и невозможных миров, который день ото дня становится все больше и совершеннее.
Спасибо.
Лучший из невозможных миров
Все диалоги и персонажи реальны или станут реальны в будущем
Горы
Фридрих наконец-то поднялся на самую вершину. Вот он – Абсолют. Как странно, что Платон обнаружил начало философии в пещере. Но ведь это горы ближе всего к началу Универсума! Это горы уже почти коснулись Абсолюта. Почему Фалес считал, что все происходит из воды? Вода – неопределенность и нерешительность. Быть или не быть? Фридрих смотрит на горы и видит уже определившееся море. Словно волна дошла до своей высшей точки, застыла, успокоилась. Сейчас она движется тихо, незаметно, скрывая свое движение. На одну и ту же гору нельзя подняться дважды[3]. Когда поднимаешься в гору, чувствуешь, что занял дистанцию по отношению к миру. Не это ли и есть философия?
Философия
Философия дает конкретные и однозначные ответы на поставленные вопросы. Смириться нужно только с тем, что однозначных ответов много и противоречия тут нет. То, как эти ответы или дистанции по отношению к миру образуются, каковы их принципы, – это метафизические вопросы. В метафизике идет речь о самом фундаментальном: что вообще делает мир возможным и почему он есть. Это дистанция к миру с позиции Абсолюта. Однако то, что делает его возможным, должно быть вне его. В материальном мире я не могу быть одновременно и причиной, и частью внешнего мне процесса. Если я пишу текст – я его причина, но не его фактическая часть. Если я варю овсяную кашу – я ее причина, а не часть. Если я зову на баррикады – я причина, а не часть.
Заниматься метафизикой и не заниматься философией – все равно что идти на Эверест без снаряжения. Чтобы не свернуть шею и привыкнуть к другой концентрации кислорода, иногда лучше начать с размышления о какой-то философии, критически взглянуть на какую-то конкретную дистанцию. Философий много, философия может быть дурной, а может быть хорошей. Она может ответить на многие вопросы, но не обязательно на все. Метафизика же либо работает, либо нет.
Как
Бородатый мужчина ходил по Греции, думал и говорил. За ним ходили люди и громко думали. Поэтому тех, кто ходил за греческим философом Аристотелем, называли перипатетиками, то есть гуляющими. Иммануил был маленького роста и брал на прогулку трость. Прогулка начиналась в пять часов, каждый день без исключения.
Немецкий философ гулял, чтобы не думать. Когда гуляешь, циркуляция крови мешает последовательному мышлению, пишет он. Чтобы подумать, нужно остановиться. Аристотель, умеренно любимый Кантом, сказал, что «мышление – это остановка движения». Природа бесконечно движется, а если на секунду остановится – смерть. У человека все несколько иначе. Чтобы началась жизнь ума, нужно ненадолго остановиться.
Может быть, Канту понравилось бы ездить на поезде. Там движение и покой совпадают. Поезд движется, ты едешь, а все равно думаешь. Поезда часто останавливаются, опаздывают или не приезжают вовсе. Как и мысли.
Так как? Ходить или сидеть? Думать или не думать? Как заниматься философией? Студента философского факультета учат только читать. Это хороший, но не единственный способ заниматься философией. Другое как: с чего начинать читать философские тексты? Дурной вопрос. Нет никакого главного философского текста. Желающий попасть в мир идей пусть сначала сделает ревизию своей книжной полки и найдет философию в том, что уже прочел: подумает о какой-то позиции по отношению к миру и о том, что помогло ему остановиться. Пусть подумает, что мир не просто мог бы быть другим, а мог бы не быть вообще. Пусть тогда он спросит себя: какой главный принцип мира? Почему мир есть и без чего его нет? Какие его движущие силы? Философ скажет: ты теперь занимаешься онтологией, изучаешь системную настройку мира. Вот карта Средиземья, ведь все могло быть и так. Этим миром движет власть, почти как у Ницше. А почему власть? Как все началось? Читаем: «Был Эру, Единый, что в Арде зовется Илуватар; и первыми создал он Айнуров, Священных, что были плодом его дум; и они были с ним прежде, чем было создано что-либо другое. И он говорил с ними, предлагая им музыкальные темы; и они пели перед ним, и он радовался»[4]. А вот учебник по физике. Мир мог бы быть только таким. Так и остаться космосом или не случиться вообще. Первый шаг философа – представить, что все может быть другим. Первый шаг метафизика, специалиста по Абсолюту, – научиться видеть мир, которого могло бы и не быть вообще.
Язык
Согласно одной из самых распространенных версий появления мира, сначала было слово. Логос объединил космос и хаос, но он же разделил мир на перспективы. И все их пришлось как-то называть.
Помню, однажды моя коллега, преподаватель истории философии, очень ругалась на студентов. Мол, никак они не могут понять, что «человек – это мыслящий тростник». Почему же, говорит она, это не очевидно?
Паскаль сделал все, что мог. У философских и метафизических текстов сложный язык. При этом тексты метафизики даже проще, чем философские. Метафизика стремится описать то, что мы не можем воспринять непосредственно, то есть органами чувств. И в этом смысле ее язык не сложнее языка математики или физики. Только так уж сложилось, что вычислительных систем метафизики больше, чем математических. Существует только одно общее правило, по поводу которого есть согласие. Главные понятия метафизики – Абсолют, или, как его еще называют, безусловное, – нельзя описать словом: Безусловное невыразимо. То, почему мир есть, – это не слово. Слово – это то, как он есть.
Философские тексты сложные как раз потому, что они, во-первых, стремятся описать то, что есть, исходя при этом из некоторого метафизического основания реальности, во-вторых, они стремятся описать мир не в динамике, в движении. Но так как задача слов в языке – фиксировать процессы и называть объекты, философ всегда оказывается в филологическом затруднении. Ему всегда нужно найти способ все очень правильно назвать, а ведь все течет, все изменяется. Философы тревожны – они не работают с тем, что есть, или с тем, что случилось. Поэтому их всегда гложет чувство, что они чуть-чуть да опоздали. Если, конечно, они не занимаются Абсолютом. Он-то всегда тут.
Чемодан
В 2024 году я уже почти перестала испытывать паническую атаку от звука застегивания молнии рюкзака. Хотя, когда я собирала свой решительный, точнее разрешающий противоречия жизни, чемодан, страшно не было. Чемодан был черный, купленный на московском рынке под руководством опытной подруги. Надежный и простой. Хоть что-то в этой дороге должно быть надежным и простым.
По сравнению с клетчатой китайской сумкой, с которой я уехала из Уфы в Москву еще десять лет назад, чемодан выглядел убедительно. Я хорошо помню ту сумку. Она долго резала ладонь, хотя на железнодорожный вокзал вез ее дедушка Вова. Черный чемодан ничего не резал, но больно было изрядно.
Из всей своей философской библиотеки я взяла с собой пять книг. «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах», «Генезис коперниканского мира», «Когда буду художником», «Хроники кенгуру», «Арендт – Андерс: переписка». Все они учили меня философии. Тому, что она везде, и тому, что она разная. Как поступить с остальным имуществом из мира вещей, я не понимала. С уверенностью в чемодан я положила только midi-клавиатуру. Если будет плохо, а плохо будет, если потеряю гармонию тут, так смогу быстро добраться до платоновской гармонии сфер.
Странно, что я не взяла ничего из чарующего меня Витгенштейна. С ним однажды приключился эпизод, который полезно знать путешественнику. Витгенштейн и Рассел спорили, можно ли быть уверенным, что в комнате нет носорога. Рассел утверждал, что в мире есть очевидные вещи: например, носорога в комнате, где проходит беседа, точно нет. Витгенштейн с этим не согласился. Да, «мир есть все, что происходит»[5], но это значит, что мир есть и то, что места не имеет. Все, что не произошло, тоже в некотором важном смысле произошло. Но в Абсолюте.
В согласии с этой идеей вышло так, что я взяла в чемодан и то, чего нет. Страхи. От них меня всегда здорово лечила книга Жозе Гомеса Феррейры «Чудесные приключения Жоана-Смельчака». Герой сказки входит в волшебный лес за стеной, на которой написано: «Тем, кто без страха бродит по жизни, вход воспрещен». А родом он из деревеньки Поплачь, А Затем Проглоти Свои Слезы. Жоан был и правда бесстрашен, но, так как он был совсем ребенок, страхов, что позади, у него почти не было. Мне же нужно было оставить прошлое позади так, чтобы не получился перевес. Страхи – самое темное, самое тяжелое, что мы несем, но взять их с собой удивительно легко.
Доехав до Германии, я поняла, что, оказывается, мелкие страхи можно распихать по карманам. Там они будут навязчиво звенеть и проситься наружу. Хорошо, что если долго идти, то карманы могут прохудиться, а страхи – выпасть на дорогу. Тогда мне говорят: «Девушка, вы, кажется, уронили!» А я испуганно мотаю головой и занимаю дистанцию.
Бытие
…мыслить и быть – не одно ли и то же?
<..>
Есть лишь «Быть», а Ничто – не есть: раздумай об этом!
Парменид«О природе»
У каждой жизни – своя судьба, жизнь подвержена страданию и становлению. <..> Бытие становится ощутимым для себя лишь в становлении.
Фридрих Шеллинг«Философские исследования…»
Операция начнется меньше чем через час. Лежу на больничной койке напротив операционной. Женщина в синем врачебном костюме спрашивает меня, как я себя чувствую[6].
– Нормально, спасибо.
– Кажется, вас что-то волнует.
– У меня раньше никогда еще не было общей анестезии. Я вообще-то больше всего волнуюсь из-за анестезии, не из-за операции.
– Так я же как раз ваш анестезиолог. Все будет хорошо, сегодня анестезия – это исключительно безопасно.
– Да. Я просто боюсь опыта полного небытия (non-being).
– Небытия? – спросила она растерянно. – Что вы имеете в виду? Вы же просто уснете.
– Но это же не сон? Я прочла, что общая анестезия вводит человека в совершенно бессознательное состояние (it will make you fully unconscious). А это вообще-то, может быть, и есть опыт полного небытия. Это ведь больше, чем сон или что-то такое.
– Я вас, кажется, не вполне понимаю. Что именно вы имеете в виду под небытием (non-being)?
– Ну, вот эта кровать… – Я коснулась холодной синей кромки. —…это объект, какая-то вещь. Я ее могу воспринять, измерить, перекрасить, даже уничтожить, наверное, можно было бы. Я ее мыслю – она есть. Это вещь в мире, она существует (it exists). Мы поэтому и говорим: она есть (it is). Если я прикасаюсь к холодному металлу, я чувствую бытие, оно есть, оно тут. Во сне же все иначе. Во сне мы только мыслим и воспроизводим то, что уже встретили в бытии. Бытие как бы дает нам строительные элементы для того, что мы потом увидим во сне. Как у Юма. Вы читали Юма?
– А вы кто по профессии?
– Философ.
– Хорошо, мы начнем через пару минут. Не волнуйтесь, у нас бытие под контролем.
Молодой Шеллинг однажды заметил, что знаменитый вопрос Гамлета «Быть или не быть?» имел бы смысл, только если бы нам действительно были понятны альтернативы. Но, несмотря на то что философа с самого начала его пути учат проводить так называемые мысленные эксперименты, например представлять, что нечто могло было бы быть другим или не быть вообще, с небытием это не работает. Сколько ни «отбавляй» вещей из мира, в мышлении мы не можем продвинуться дальше того, что чего-то нет. Словно бы для того, чтобы отмотать назад бытие, человек всегда опоздал. В этом смысле Гамлет не выбирает одну из альтернатив, а ищет ответ на вопрос, решиться или не решиться на вариант, на самом-то деле неизвестный. С бытием ничего сделать уже нельзя. Ножки столов и стульев, о которые мы постоянно ударяемся, – малое об этом напоминание.
Еще в V веке до нашей эры самое содержательное, что вообще можно сказать о Бытии, уже было сказано Парменидом: «Бытие есть, а небытия и вовсе нет». Все остальное – важные, но скорее методологические рассуждения, как именно оно есть и насколько окончательно с ним можно разобраться. Философия на протяжении всей своей истории предлагала разные и всегда замечательно отражающие текущее положение дел в Бытии ответы. Платон, например, сформулировал различие между миром идей и миром вещей. Вещи в мире есть, но есть они только потому, что репрезентируют идеи. Идей в мире нет, но они дают формулы вещам, иначе говоря – некоторую схему существования вещи, пока она существует «тут». Аристотель постарался как-то более подробно описать переход от идеи к вещи и тем самым сказать, что думать об идеях в целом бесполезно, поскольку в мире мы все равно взаимодействуем только с вещами. Это сообщило наукам огромный импульс и зарядило энтузиазмом – теперь нужно всерьез заняться тем, как именно вещи в мире устроены и что позволяет нам с ними взаимодействовать. При этом само представление об идеях никуда не исчезло. Научным путем выяснилось, что мы действительно можем очень и очень много узнать о вещах; еще выяснилось, что мир состоит не только из вещей.
Как это часто бывает, пока Аристотель сознательно решал одну задачу, неожиданно разрешилась другая – та, которая и была по-настоящему важной. Пытаясь усмирить напряжение между идеей Гераклита о том, что все находится в никогда не прекращающемся движении (становлении), и утверждением Парменида, что Бытие есть – и точка, Аристотель обратил внимание вот на что: платоновские идеи есть, если они есть. Но между тем их может и не быть. Это значит, что Гераклита нужно уточнить. Если все движется, то где начало движения? Далее: раз все такое подвижное, как мы вообще мыслим вещи? Почему они не ускользают в тот же момент, в какой мы их воспринимаем? Впрочем, и Парменид слишком радикален: если все просто есть, то откуда оно возникает и почему все же движется, а потом возвращается в небытие?
Это напряжение удалось снять благодаря различению акта и потенции. Да, если быть с собой до конца честным, то мы не можем мыслить небытие, даже начало мыслить не получается – всегда остается навязчивая неуверенность: а вдруг это не самое начало? Потенции, которые «открыл» Аристотель, – это указание на способ помыслить о том, чего нет, но может быть. Совокупность всех потенций он назвал Беспредельное. Немецкие философы ту же самую идею потом обозначат как Абсолют, или Безусловное.
Эта гениальная догадка древнего грека одним махом осадила бы всех его предшественников, размышляющих о начале мира. Для человека, впервые открывшего что-то вроде «Собрания фрагментов древнегреческих философов», все эти рассуждения выглядят отпугивающе и неубедительно. Фалес, Анаксимандр, Анаксагор и прочие все время предлагали разные варианты: мир произошел из воды, огня, борьбы противоположностей, апейрона, пяти элементов и так далее. Теперь из этого принято с грустью заключать, что философия якобы не дает однозначных ответов, хотя это не так. Такое количество вариантов первого начала обусловлено лишь тем, что ответ никак нельзя проверить. Бытие же уже тут – назад ничего не отматывается. И напротив, идея потенции, которую предлагает Аристотель, не требует никакой проверки – только немного терпения. Потенция переходит в действительность (актуальность), если она есть.
Любовь1
Я влюбилась в Фридриха в вагоне метро. По дороге из университета в общежитие один из томов, который не поместился в студенческий рюкзак, пришлось держать в руках. Открыла его, просто чтобы чем-то себя занять. Тогда, на скорости почти сто километров в час, я вдруг услышала тихий скрип пера двадцатилетнего юноши, который писал в сноске к «Философским письмам»: «“То bе оr not to be?” – этот вопрос был бы для моего чувства совершенно безразличен, если бы я мог мыслить полное небытие. Ибо мое ощущение могло бы не опасаться, что оно придет в столкновение с небытием, если бы я только не предполагал все время, что мое Я, следовательно, и мое ощущение переживут меня самого. Поэтому превосходные слова Стерна “Я должен быть глупцом, чтобы бояться тебя, смерть, ибо, пока я существую, тебя нет, а когда ты есть, нет меня!” были бы совершенно справедливы, если бы я только мог надеяться когда-нибудь не быть. Однако я опасаюсь, что буду и тогда, когда меня уже не будет. Поэтому, <..> чтобы мыслить мое небытие, я должен одновременно мыслить себя существующим, следовательно, необходимо вынужден мыслить противоречие <..>. Я только не хочу бытия, которое не есть бытие <..>, я боюсь лишь недостаточного проявления бытия, а это по существу то же, что бытие наряду с небытием»[7].
Я вдруг будто увидела, как он напряг брови, и тогда стала читать том с самого начала. «Ф. В. Й. Шеллинг (1775–1854) – представитель немецкой классической философии. Его творческая судьба необычна: рано созрев как самостоятельный философ (в 23 года без защиты диссертации он стал профессором в Йене)…»[8] Но это мы пропустим. Где же этот юноша? Уже скоро нужно пересесть из метро в электричку, там все время будут что-то продавать и громко обсуждать неурожай помидоров. Но голос Шеллинга из книги был громче всего, что происходило в мире вещей:
«Я понимаю вас, дорогой друг! Вам представляется более предпочтительным бороться с абсолютной силой и погибнуть в борьбе, чем заранее оградить себя от возможной опасности <..>. Действительно, эта борьба с неизмеримым – не только самое возвышенное, доступное мысли человека, но, как мне думается, даже самый принцип возвышенности вообще. Однако хотел бы я знать, какое объяснение этой силе, которая позволяет человеку противостоять абсолюту…»[9]
Пока что с Фридрихом Шеллингом мы так и не расстались. И в поезде какой бы страны я ни оказалась, так и думаю: что же это за сила, которая позволяет человеку противостоять Абсолюту? Или не надо ему противостоять? Может быть, мы бы с ним просто поговорили, как говорим с Фридрихом?
Другой немец, родившийся намного позже, но не так уж далеко от места, где появился на свет сам Шеллинг, однажды мне сказал: «Никогда не знаешь, чем впечатлишь девушку: работаешь-работаешь, пишешь книги, а кто-то – раз! – и влюбится в тебя просто из-за сноски!» Впрочем, любовь – это вообще один из главных сюжетов философии Шеллинга, только пишет он о ней не как об эмоции, а как о фундаментальной силе природы, как о самом первом основании Бытия, а еще – как о способе смотреть на мир. Любовь – это то, что связывает, объединяет и дает силы: иногда бороться, а иногда и обниматься с Абсолютом.
Шеллинг говорит, что любовь никогда не достигает Бытия: «Все [философы] единодушны в том, что Божественное – это Сущность всех сущностей, чистейшая любовь, бесконечная изливающаяся сила и общительность.
Но при этом они утверждают, что Божественное [то есть любовь – А. В.] существует. Однако любовь сама по себе не может достичь бытия [мы не встречаем в мире любовь «в чистом виде»; более того, в мире она возникает только как некоторая деятельность, направленная к Абсолюту – А. В.]. Существование (Existenz) – это особенность, это отделение; любовь же <..> не ищет своего и поэтому не может существовать сама по себе»[10]. Однако само Бытие, пишет Шеллинг, возможно только благодаря любви. Возможно, поэтому Ханна Арендт писала, что любовь – это апостериорное событие жизни, которое в какой-то момент становится априорным[11]. В этом смысле она, конечно, добирается до дома и все же достигает Бытия.
Багет
Прекрасное слово «философия» удивительным образом не привело к тому, чтобы философия стала женской специальностью – девушек на философском факультете мало, а в философских магистратурах и аспирантурах еще меньше. До сих пор имя Ханны Арендт – одно из самых известных в философии ХХ века. Только сама про себя она всегда говорила, что она не философ, а политический теоретик. Сегодня же, век спустя, на полках в философских отделах ее книг уже чуть ли не больше, чем Платона, Аристотеля и Канта. Она очень точно ухватила дух и смысл своей эпохи. При этом, пожалуй, самый замечательный ее текст был написан в очень юном возрасте – это ее диссертация о понятии любви у Блаженного Августина. Карл Ясперс, руководитель работы, диссертацию оценил высоко, но все же не как что-то исключительно выдающееся. А Мартин Хайдеггер, кажется, даже в конце жизни не понял, что в этом небольшом ученическом сочинении философии было больше, чем во всех его собственных увещеваниях о Бытии.
Читателю, который не привык к академическому стилю, этот текст наверняка не понравится. Он неровный, тугой, хотя очаровательный и умный. К Арендт сегодня вообще обращаются, скорее чтобы понять, как устроено не само Бытие, а его производные, то есть то, что она называет «условия человека» (human conditions). То, что естественно развивается из самого основания Бытия: политика, общество, культура. В отличие от фундаментального Бытия, все эти области изменчивы и шатки.
Перестанешь их поддерживать – и конец. Наступает война – и конец. Все сделанное человеком рухнуло. Только лишь природа не такова. Зебальд пишет об этом в «Естественной истории разрушения»: «Да-да, осенью 1943-го, через считаные месяцы после великого пожара, в Гамбурге второй раз зацвели многие деревья и кусты, особенно каштаны и сирень. Сколько бы потребовалось времени – если б действительно приняли план Моргентау, – чтобы повсюду в стране руины покрылись лесами?»[12]
В простой черный чемодан попала переписка Арендт и Гюнтера Андерса, которую они вели всего за несколько лет до этого гамбургского пожара и многих других страшных событий. Из оккупированного Парижа она пишет ему:
«Мой дорогой Гюнтер,
Только не злись на меня, что я не написала раньше. Несколько месяцев люди вокруг меня не делают ничего иного, кроме как пишут письма в Америку, что для других оказывается вконец разрушительным. В остальном это первые спокойные дни за несколько месяцев, а значит – первые дни, в которые я могу как-то устроить так, чтобы побыть одной. И чтобы не начинать с самого начала: мы решили еще некоторое время побыть тут и нашли маленький домишко (однокомнатный) во дворе, и, хотя он не меблирован, в наших глазах это словно вершина счастья и роскоши – комната только для нас двоих. С тех пор как мы нашли это убежище, мы заняты исключительно вопросами продовольствия, что уже стало своего рода профессией. Это действительно невероятно, как сильно эта прекрасная страна, богатая и урожайная, была разрушена за несколько недель. Магазины пустые, везде длинные очереди. День за днем изменяются лучшие и старейшие привычки: никаких круассанов или бриошей больше. И конечно, никакого масла, никакого кофе, никакого мыла, вообще ничего жирного – никакого сыра после трапезы: это почти кощунство, ты же знаешь Францию. В этом регионе есть еще фрукты и овощи – я предполагаю оттого, что совершенно нет бензина: это – к счастью – делает невозможной транспортировку. Это не везде так. Еще всегда есть мясо – у меня такое впечатление, что забивают много скота, чтобы его не кормить. Так что голод пока не настал, но нехватка продовольствия и недостаток бензина могут со дня на день вызвать его в Европе»[13].
Является ли французский круассан или багет продуктом первой необходимости? Метафизика учит нас тому, что даже мир, даже само Бытие не есть продукт первой необходимости.
Начало
Примавера
Примадонна
Иногда в жизни достаточно уметь считать
Только до одного
Потенции
– Позор. Третий курс – и ни одной приличной работы на всем курсе. В тексте всегда одна главная мысль. Всего одна. Как ее можно было пропустить? Шеллинг очень ясно пишет. Мира могло бы и не быть. Просто не быть, понимаете?
Из семинара «История философии», 2015/16 г.
С точки зрения метафизики существования мир в целом и багет в сущности – одно и то же. И то и другое есть, это Бытие. И то и другое могло бы быть иным или не быть вовсе. Впрочем, если наличие или отсутствие в мире багетов пугает далеко не всех, отсутствие мира кажется намного более угрожающей перспективой. И это мы еще не думали о том, что мир не просто может исчезнуть, а его могло бы и не быть. Однако разница между предложениями «мир может исчезнуть» и «мира могло бы и не быть» все же огромная. Первое и правда может ввести в досадное состояние уныния. Второе, когда оно осознано и пережито, жизнеспасительно.
Исчезновение мира в том или ином виде неизбежно. Однако поскольку начало и конец его совпадают – как у Гераклита, «начало и конец едины»[14], – то все намеки и размышления о том, что мира когда-то не будет, говорят только о том, что у него есть начало, а это подтверждает главный метафизический принцип, в котором на самом деле очень много надежды.
То, что мира когда-нибудь не станет, следует из того, как он существует. Мир – это организм. Увидеть это, тем самым ухватив и то, как мир существует, можно самым близлежащим способом – просто обратить внимание на себя. Человек, говорит Шеллинг, – это организм, не механизм. Организм отличается от механизма тем, что первый сам внутри себя имеет свое деятельное начало, которое определяет его рост, развитие и конец. Все части организма – органы – подчинены этому началу, существуют друг для друга и посредством друг друга. Сердце, например, хоть и существует словно бы само по себе, но все же изначально было «свернуто» в самом зародыше и стало сердцем в общении с другими органами. Например, в отрыве от идеи организма вообще сердце как орган не имеет смысла. При этом каждый конкретный организм, какой мы только ни найдем в природе, есть часть большого организма. Мы так уверены в этом, говорит Шеллинг, потому что даже на примере одного организма видим, что в нем представление о целом предшествует различным частям – органы развиваются определенным образом, так как берут свое начало в некоторой точке; то есть дело не обстоит так, что мы мысленно складываем все части живого целого и получается организм. Наоборот: из представления о целом развивается частное. У всех возможных организмов при этом должно быть некоторое общее начало. На мир и природу, таким образом, он предлагает смотреть как на «универсальный (единый) организм».
Такая перспектива позволяет не только поверить в то, что самое главное из наших знаний о мире на самом деле намного ближе, чем мы думаем (ведь пример организма у нас всегда под рукой), но и подталкивает нас к вопросу о начале. Наверняка знание первого принципа организма – как частного, так и всеобщего – расскажет нам что-то очень важное о мире и жизни вообще. Так как начинается организм? Как вообще что-то появляется?
Раз мир и организм существуют одинаковым образом, то любое человеческое действие или движение послужит рабочим примером для ответа на заданный вопрос. Итак, на первый взгляд, есть два варианта. В любом существенном для организма или мира решении или изменении у нас есть либо молчаливое интуитивное осознание, некоторая ясность – и мы ей следуем, либо же мы обнаруживаем внутри себя противоречия, бьющиеся друг о друга варианты. И в какой-то момент нам кажется, что один из них перевешивает другой, значит, близко решение и ясность. Следуя древней гераклитовской идее о том, что «гармония мира – это гармония оппозиций»[15], Шеллинг стремится показать, что на самом деле, когда речь идет об изменении и выборе, борьба противоречий – мнимая борьба. Все они имеют начало в первом принципе организма и мира.
Все оппозиции, все варианты, которые приводят к движению или изменению в самом общем виде – еще до того, как они попали в мир, – можно назвать «потенциями». Потенция, как говорит Шеллинг, – это «могущее быть» (Seinkönnende). Также это то, посредством чего в мире проявляется (erscheinen) Абсолют[16]. Так, в мире мы видим уже всегда проявления потенций в какой-то их конкретной форме, хотя до мира, то есть в Абсолюте, они еще никак не названы – самим словом только схвачена возможность различий. Это только в реальности я сижу и как будто бы еще не знаю, как мне поступить, так или сяк, перебираю в голове альтернативы, пытаюсь понять, что из какой следует, они поглощают меня и своей суетой заставляют забыть, что сам Абсолют – само сердце моего решения – существует еще до всяких альтернатив, в самом
