Туман над рекой
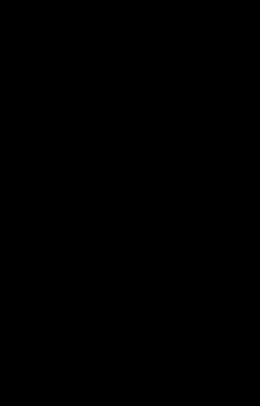
© Перевод. В. Островская, 2025
© Перевод стихов. В. Рогов, наследники, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Дядя Гэн
1
Один молодой учитель из столицы на год приехал в Саики учить детей родному языку; прибыл он в середине осени, а в середине следующего лета уехал. В начале лета ему надоело жить в городке, и он перебрался на берег в гавань под названием Кацура в половине ри от городка, оттуда и ходил на уроки. Учитель прожил там всего месяц, и людей, с которыми за этот месяц перекинулся хоть словом, едва можно было пересчитать по пальцам одной руки. Разговаривал он главным образом с хозяином гостиницы.[1]
Однажды дождливым ветреным вечером, когда волны бились о берег с особенно яростным грохотом, даже любившему одиночество и замкнутому учителю стало одиноко, и он спустился из своей комнаты на втором этаже к хозяину и его жене, которые наслаждались прохладой на энгаве. Супруги не зажигали света, сидели в полумраке и разговарив[2] али, веерами отгоняя комаров; увидев учителя, они с удивлением уступили ему место. Вечерний ветер слегка сдувал дождь, и, утирая время от времени одну-две капли с лица, – это было даже приятно, – все трое постепенно разговорились.
С тех пор как учитель вернулся в столицу, минуло много дней и месяцев, и вот однажды, спустя несколько лет, зимой, глубокой ночью, когда уже перевалило за час, он сидел в одиночестве за низким столиком и перечитывал письмо. Письмо это он собирался отправить старому другу в родные края. Той ночью на его бледном встревоженном лице слегка проступили красные пятна, а взгляд его был устремлен в никуда, как будто его окружал туман, и он пытался в нем что-то рассмотреть.
Среди тумана стоял старик.
Отложив кисть, учитель перечитал письмо. Закончив, закрыл глаза. Но даже с опущенными веками он видел того же старика. Письмо гласило: «Хозяин кое-что рассказал мне о нем. Такие люди не редкость. Если поискать, ты найдешь по всей стране в тени гор и на побережьях множество похожих стариков. И все же я не могу забыть этого человека. Все словно скрывали от меня, кто он такой: кого бы я ни спрашивал – бесполезно, словно передо мной оказалась запертая шкатулка. Пожалуй, мне следовало отнестись к нему с обычным скептицизмом. И все же каждый раз, когда я о нем думаю, во мне пробуждается чувство, какое бывает у странника, когда он слышит вдалеке песню флейты и тоскует по дому, или же такое, словно дочитал изысканное стихотворение и смотришь в бескрайнее небо».
Об этом старике учителю было известно мало подробностей. Хозяин гостиницы рассказал о нем только в общих чертах и то, что, возможно, узнал от самого старика. Но этого учитель не знал и рассказывал со слов хозяина гостиницы.
«Эта гавань очень подходит городу Саики. Как видно, несколько домов там есть, но живет в них меньше двадцати человек, и в городке всегда пустынно. Дом дяди Гэна стоит отдельно на побережье и выглядит еще более одиноким. Он словно сосна, которая сейчас стоит у дороги и летом дарит путникам прохладную тень, но еще лет десять назад морские волны омывали ее корни. Когда я шел из городка и видел, как лодка дяди Гэна выходит в море, я часто присаживался на скалу и смотрел, но сейчас, боюсь, и эта скала раскололась под силой взрывчатки.
Нет, он с самого начала был одинок.
Жена у него была красавицей. Ее звали Юри, и она приехала с острова Онюдзима. Сплетни окружающих по большей части выдумки, но это чистая правда: однажды ночью мне сам дядя Гэн, напившись, рассказал об этом. Когда ему было лет двадцать восемь – двадцать девять, одной глубокой весенней ночью кто-то вдруг постучался в дверь. Проснувшись, Гэн спросил, кто там, и женщина попросила отвезти ее на остров. Выглянув, он увидел в лунном свете свою знакомую – девушку с Онюдзимы по имени Юри.
Тогда паромщиками трудились многие, но имя Гэн славилось и за пределами бухты. И не только потому, что он был парнем хоть куда, я хочу рассказать тебе о еще одной причине: в то время у Гэна был особенный голос. Стоило людям услышать, как он поет, правя веслом, и они при случае садились к нему в лодку, хотя и тогда, и сейчас он был человеком немногословным.
Нарочно ли девушка с острова пришла к нему ночью с просьбой подвезти, знают только боги, которым видно все с высоты, а для людей это осталось тайной. Если спрашивали, о чем они говорили по пути, старик, немногословный даже во хмелю, только улыбался, и на его лбу проступали две морщины, но в улыбке виднелась печаль.
Даже песни Гэна стали тогда звонче. Однако дни счастливой супружеской жизни пролетели, как сон. Когда их единственному сыну Коскэ было семь лет, Юри умерла, рожая второго ребенка. Зашел разговор о том, чтобы Коскэ взяли к себе люди из города, и со временем он пошел бы в ученики к какому-нибудь торговцу, но потеря любимой жены и расставание с единственным сыном стали бы слишком тяжелым ударом для Гэна, и люди отказались от этой затеи. И без того немногословный, он в то время почти перестал говорить, совсем не улыбался и пел, правя лодкой, только когда был пьян, а когда вечером о воды залива бился лунный свет, в его чистом голосе слышалась такая грусть, какой никогда не бывало в душах тех, кто ее слышал; когда жизнерадостный Гэн потерял жену, от его сердца словно откололся кусок. Если оставлять в пустом доме в дождливые дни Коскэ одного было неудобно, отец брал его в лодку вместе с пассажирами, и люди дружно жалели мальчика. Немало матерей, купивших в городке гостинцы детям, открывали пакетики со сластями и делились ими с мальчиком. Отец будто не замечал этого и не благодарил, принимая как должное, но никто на него не обижался, полагая, что его скорбь слишком глубока.
С тех пор прошло два года. Эту гавань начали застраивать, и мы с женой перебрались сюда с острова, построили дом и открыли гостиницу. Вокруг, вырезанные в склонах гор, пролегли дороги, а шоссе проложили перед домом дяди Гэна. Дважды в день, утром и вечером, раздавался гудок парохода, и наше дикое взморье, на котором когда-то сушились рыболовные сети, стало понемногу обретать свой нынешний вид. Но дядя Гэн оставался паромщиком. Он, как и раньше, возил в городок и обратно жителей островов и залива, и ни открытие порта, ни новые дороги, ни люди, которых стало куда больше, – ничего из этого сближения с суетным миром, по сравнению с тем, что было раньше, не радовало и не печалило его.
Прошло еще три года, и Коскэ, которому уже исполнилось двенадцать, играя с другими детьми у моря, случайно упал в воду и начал тонуть; дети, которые это видели, в страхе убежали и ничего не сказали взрослым. Уже вечером заметив, что Коскэ все не возвращается, отец испугался и вместе с нами отправился на поиски, но было уже слишком поздно: к нашему удивлению, тело несчастного принесло ко дну лодки дяди Гэна.
После этого он совсем перестал петь и даже с близкими почти не общался. Он не говорил, не пел, не смеялся, проводил годы и месяцы в молчании, и, казалось, все о нем забыли. Он, как и прежде, был паромщиком, но жители залива, садясь в его лодку, словно не помнили о его существовании. Когда я сам видел, как он, стоя у кормового весла с полузакрытыми круглыми глазами, возвращается в залив, я сомневался, жив ли он еще. Ты первый, кто спросил, что он за человек.
Знаете, если его позвать и угостить сакэ, он может и запеть – только у этой песни слов не разобрать. Нет, он не бормочет себе под нос, не повторяет одно и то же, только иногда тяжело вздыхает. Верно, не может сдержать скорбь…»
Это было все, что хозяин гостиницы рассказал учителю. Тот не забыл дядю Гэна и впоследствии, вернувшись в столицу. Ночью, когда он, сидя при свете лампы и слушая шум дождя, уходил в раздумья, старик часто всплывал у него в памяти. «Как там сейчас дядя Гэн, – думал он, – наверное слушает шум волн и вспоминает ту далекую весеннюю ночь, закрыв глаза при свете одинокой лампы, или все думает о Коскэ». Но учитель не знал, что теперь, спустя несколько лет, нынешней зимней ночью мокрый снег падает на могилу дяди Гэна.
Пока молодой учитель переворачивал страницы своих воспоминаний, словно читал стихи, со стариком произошел еще более печальный случай, и он покинул этот мир. В поэме учителя недоставало одной последней строфы.
2
После того как школьники из Саики проводили учителя с причала в гавани Кацура, в январе следующего года дядя Гэн однажды утром отправился в городок по делам.
Небо затянуло тучами, и шел снег. В этих краях он редкость, но тот день выдался особенно холодным. Обычно жители со всех окрестных деревень и по реке, и по морю добирались до города на лодках – так уж было заведено в окрестностях Саики. На берегу Бандзёгавы всегда собирались перевозчики: кто-то забирался в лодку, кто-то высаживался, жители залива пели, жители гор бранились – словом, всегда царило оживление. Но в тот день берег пустовал, рябь на реке отражала серые облака, под навесами было темно, по дорогам никто не ходил, вымощенные камнем переулки обледенели. Где-то у подножия замковой горы разносился до самых облаков звон колокола, который от края до края пронизывал городок с побелевшей черепицей на крышах, словно камень, брошенный в озеро, где не живет рыба.
На большом перекрестке, где в праздники устанавливали сцену, играли дети бедняков с бледными бескровными лицами; кое-кто просто стоял, держа руки за пазухой. Сюда же приходил один нищий. Кто-то из детей позвал его: «Кисю, Кисю!», – но тот даже не повернулся и прошел мимо. На вид ему было лет пятнадцать-шестнадцать, его нечесаные волосы отросли ниже шеи, лицо было длинным, исхудавшим, с острым подбородком. Его мутные малоподвижные глаза смотрели в никуда. Из одежды он всегда носил одно кимоно на подкладке; рукава были ему коротки, само кимоно, вечно мокрое, износилось в лохмотья и едва прикрывало голени. В проймах виднелись тощие, как ноги сверчка, локти, и он весь дрожал от холода. В этот момент откуда ни возьмись появился дядя Гэн. Они встретились прямо посреди перекрестка. Дядя Гэн пристально оглядел нищего круглыми глазами.
– Кисю, – позвал старик густым низким голосом.
Молодой нищий поднял на него тупо глядящие глаза и посмотрел на дядю Гэна так, как будто перед ним был камень. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.
Поискав в рукаве, дядя Гэн достал рисовый колобок, завернутый в лист бамбука, и протянул его Кисю; тот, вытащив из-за пазухи чашку, взял его. Ни один, ни второй не произнесли ни слова, не похоже, чтобы они были рады встрече, или что один жалел другого. Кисю пошел дальше, даже не обернувшись напоследок; дядя Гэн провожал его взглядом, пока он не скрылся за углом. Он посмотрел на небо: снег будто бы прекратился, но несколько снежинок еще опускались на землю. Он еще раз взглянул нищему вслед и тяжело вздохнул. Дети давились смехом и толкали друг друга локтями, но старик этого не замечал.
Домой дядя Гэн возвращался уже в сумерках. Окна его дома выходили на дорогу, но он не открыл их, сидел в темноте, не зажигая лампу, перед очагом, закрыв ладонями с толстыми пальцами лицо, низко повесив голову и вздыхая. Он достал из очага сухую ветку. На конец тонкой ветки перекинулся и то гас, то снова загорался огонек, похожий на пламя свечи. Когда он разгорался, огонь ненадолго освещал комнату, и на закопченных стенах было видно движение тени старика и цветные гравюры. Когда Коскэ было лет пять-шесть, жена ездила в родную деревню, где ей и подарили эти гравюры, и развесила их по стенам. Сейчас, спустя десять лет, они совсем выцвели. Этой ночью не было ветра и не слышался шум волн. Вокруг дома раздавались какие-то шорохи, и старик, навострив уши, прислушался. Это был шорох мокрого снега; дядя Гэн некоторое время слушал его, а потом тяжело вздохнул и окинул взглядом комнату.
Когда он зажег керосиновую лампу и вышел на улицу, мороз пробрал его до самых костей – даже стоя у весла в холодные ночи, он не покрывался такой гусиной кожей. Горы казались черными, море потемнело. В свете лампы мерцали падающие на землю снежинки. Земля затвердела и обледенела. Двое мужчин шли, о чем-то разговаривая, со стороны городка; увидев стоящего в воротах старика с лампой, они окликнули его:
– Дядя Гэн, ну и холодная же ночь!
– Еще бы, – только и ответил он, глядя в сторону городка.
Когда молодые люди прошли немного дальше, один из них прошептал, что сейчас при виде лица старика молодая женщина упала бы в обморок, а второй ответил, что не удивится, если к утру ноги старика врастут в землю, как сосновые ветви. У обоих встали дыбом волосы на голове, когда, обернувшись, они увидели, что старик все еще стоит в воротах, хотя лампа уже погасла.
Ночь сгущалась, снег шел, время от времени перемежаясь с дождем, и никак не прекращался. Луна была далеко от прибрежных гор, окутывала светом туманное море, и старый город казался похожим на погост. У подножия гор лежали деревни, за деревнями – кладбища; в этот час кладбища просыпались, а люди спали, и живые снова встречали мертвых во сне, плакали и смеялись. Какой-то человек прошел по перекрестку и пересек мостик. Собака, спящая у въезда на мост, подняла голову и посмотрела ему вслед, но не залаяла. Он был словно мертвец, выбравшийся из могилы. К кому он шел, с кем хотел поговорить, блуждая во мраке? Это был Кисю.
В тот же год, когда единственный сын дяди Гэна Коскэ утонул, осенью в Саики откуда-то со стороны Хюга пришла нищенка. С ней был мальчик лет восьми. Стоило ей вместе с ребенком встать перед воротами домов, и ей охотно подавали: люди в этих краях милосердны, не то что в других местах, да и, в конце концов, все думали, что это ради мальчика, – но следующей весной мать бросила сына и куда-то скрылась. По словам тех, кто ездил в Дадзайфу, похожая женщина, одетая в лохмотья, увязывалась за борцами сумо и просила подаяния рядом с храмовыми воротами. Городские все больше жалели ребенка, брошенного бесчувственной матерью. План матери был вполне очевиден. И все же, хоть в каждой деревне и построен храм, людскому милосердию есть предел. Стыдно об этом говорить, но никто не захотел взять ребенка к себе и растить его. Поначалу к нему относились по-человечески и иногда поручали убраться во дворе, но это продолжалось недолго. Когда мальчик плакал от тоски по матери, ему подавали и утешали его. Ребенок не может забыть мать, а людское милосердие всегда обращается на ребенка и о матери забывает. Но в конце концов под любым предлогом – неважно, забывчив он, слабоумен, грязен или вороват, – этого ребенка выталкивают в нищету, людской доброты на него не хватает, и итог всегда один.
Играя, он учился и запоминал новое: научился читать и мог наизусть рассказать стишок-другой; слушая, как поют другие дети, он пел; он смеялся, болтал и веселился, как остальные дети. Казалось, что он от них не отличался. Родился он где-то в Кисю – так его и стали называть; местные относились к нему как к неотъемлемой части Саики, и все дети, игравшие на городских улицах, росли с ним бок о бок. Но незаметно для окружающих его разум угас, и пока рядом с ним тянулся на утреннем солнце дым из печных труб, пока у всех вокруг были родители и дети, мужья и жены, братья и сестры, друзья, пока все жили бок о бок друг с другом в этом полном слез мире, он словно однажды свил одинокое гнездо на острове небытия и зарыл там свое сердце.
Он больше не благодарил, когда ему что-то давали. Перестал улыбаться. Все были суровы к его гневу, никто не утешал, видя его слезы, и он больше не грустил и не радовался. Он просто работал, просто бродил, просто поглощал пищу. Когда он ел, и кто-то спрашивал, вкусно ли, он без всякого выражения отвечал: «Вкусно», – и его голос словно доносился из глубин земли. Играя, – он размахивал палкой, клал ее себе на голову и с веселым видом расхаживал, покачиваясь и напоминая собаку, которая виляет хвостом, когда ее ругает хозяин, но он никогда не пытался подольститься к людям. Обычно люди сочувствуют нищим, но его никто не жалел. Тем, кто жалеет людей, которые тонут, дрейфуя по житейским волнам, было его не разглядеть – он словно ползал по дну глубоко под этими волнами.
Через некоторое время, после того как Кисю перешел мостик, на перекрестке снова кто-то показался. В руке у него был лодочный фонарь. Свет фонаря словно пронизывал улицу; снег красиво мерцал там, где по его тонкому слою пробегали отсветы; в этом свете темнота под навесами домов вокруг перекрестка развеивалась без остатка. В этот момент со стороны Хоммати неожиданно вышел полицейский. Осторожно приблизившись, он окликнул человека, и тот повернулся к нему, осветив себя фонарем, – стали видны круглые глаза, глубокие морщины, толстый нос и могучее сложение лодочника.
– Дядя Гэн, это вы? – раздраженно спросил полицейский.
– Я, – хрипло ответил тот.
– Кого вы ищете посреди ночи?
– Вы тут Кисю не видели?
– А на что он вам?
– Холодно нынче ночью, думал забрать его к себе.
– Да где он спит, даже собаки не знают, вы лучше сами не простудитесь, – с сочувствием сказал полицейский и ушел.
Дядя Гэн вздохнул и взошел на мостик – в свете фонаря показались следы. Их явно оставили недавно. Кто, кроме Кисю, будет ходить по снегу босиком? Старик поспешно бросился туда, куда вели следы.
3
Каждый, услышав, что дядя Гэн забрал Кисю к себе, поначалу не верил, а потом смеялся. Некоторые забавлялись, воображая себе, как эти двое ужинают, сидя друг напротив друга. Так дядя Гэн снова оказался в центре всеобщих пересудов.
С той снежной ночи прошло всего семь дней. Ярко светило закатное солнце, и вдалеке над волнами виднелось побережье Сикоку. Возле мыса Цурумисаки белели полные и зарифленные паруса. Над отмелью в устье реки летали зуйки. Дядя Гэн, посадив в лодку пятерых пассажиров, собирался сниматься с якоря, когда прибежали еще трое молодых людей, когда сели и они, лодка оказалась полной. Две девушки, по виду сестры, возвращались к себе на остров, головы они покрыли полотенцами, а в руках держали маленькие узелки. Остальные пятеро были с залива; помимо прибежавших позже молодых, в лодке уже сидела пожилая чета с ребенком. Пассажиры только и говорили, что о городе. Один из молодых людей рассказывал о каком-то представлении, а старшая из сестер нахваливала наряды – мол, на такую красоту весь их остров сбежался бы посмотреть, так что она рада хоть слухи пересказать. Пожилая женщина решительно ответила, что не так уж и красиво, просто чуть лучше, чем в прошлом году. Девушки с острова с интересом спросили, правда ли, что среди актеров Кумэ Горо – редкой красоты мужчина; молодые люди дружно повернулись к ним, девушки покраснели, а пожилая женщина громко рассмеялась. Дядя Гэн правил лодкой, глядя куда-то вдаль, смех и громкие голоса бренного мира он словно пропускал мимо ушей и ни разу не вставил ни слова.
– Я слышал, вы взяли к себе Кисю. Это правда? – вдруг, словно что-то припомнив, спросил один из молодых людей.
– Правда, – ответил старик, не глядя на него.
– Многие ломают голову, зачем бы вам брать нищего парня к себе, неужели одному так грустно жилось?
– Да.
– Но почему Кисю? На островах и на заливе немало детей, которых могли бы отдать вам на воспитание.
– В самом деле, – добавила пожилая женщина, глядя на дядю Гэна. Тот некоторое время невозмутимо молчал. Он смотрел куда-то на запад, где сияло закатное солнце и над горами поднимался вверх дым.
– У Кисю нет ни родителей, ни братьев, ни дома. А я старик, ни жены, ни детей у меня нет. Если я стану ему отцом, он мне станет сыном – так нам обоим будет лучше, – сказал он, словно говоря сам с собой, к немалому удивлению всех остальных: никто до сего момента не слышал, чтобы он так складно говорил.
– Как же быстро время летит, дядя Гэн. Я словно вчера еще видела, как Юри-доно стоит с младенцем на берегу, – вздохнула женщина. – Сколько бы сейчас Коскэ было лет?
– Он был на два или три года старше Кисю, – коротко ответил тот.
– Да сколько лет Кисю, поди угадай, под слоем грязи и не поймешь – то ли десять, то ли восемнадцать.
– Я и сам точно не знаю, вроде бы шестнадцать-семнадцать. Родная мать, может, знает, да где она теперь? – сказал старик, глядя на семилетнего внука пожилой четы. Его голос дрожал, и люди, охваченные жалостью, перестали смеяться.
– Ну, если вы друг к другу привяжетесь, интересно, что с тобой в конце концов станет. Кисю тоже человек, если начнет ждать тебя допоздна у ворот, наплачешься еще, – без обиняков сказал муж пожилой женщины.
– Может и так, да я только рад этому буду, – ответил дядя Гэн, и в голосе его действительно слышалась радость.
– Не хотите сходить вместе с ним на представление? – с насмешкой спросил молодой человек, явно пытаясь рассмешить девушек с острова. Но сестры, не желая обидеть дядю Гэна, только улыбались. Пожилая женщина же, хлопнув по борту лодки, весело расхохоталась.
– Нет уж, что толку показывать ребенку «Авано Дзюробэя», только до слез напугается, – серьезно ответил дядя Гэн.[3]
– Это кто ваш ребенок? – непонимающе спросила женщина. – Коскэ-доно, я слыхала, вон там утонул.
Она обернулась и указала куда-то на черные тени гор на горизонте. Все всмотрелись вдаль.
– Мой ребенок – Кисю, – сказал дядя Гэн и некоторое время, перестав грести, молча, с покрасневшим лицом смотрел куда-то в сторону горы Хикодакэ. Он сам не понимал, какие чувства его переполняют: гнев, грусть, стыд или же радость. Он поставил ногу на борт, налег на весло и громко запел.
Горы и море давно не слышали его пения. Да и сам старик давно его не слышал. Его голос летел над вечерней тихой гладью воды, растворяясь в ней мелкой рябью, которая доходила до самого побережья. Тихо отзывались горные пики. Старик давно не слышал их отголосков. Ему казалось, что это он сам, заснувший тридцать лет назад, пробудился ото сна и зовет себя откуда-то с гор.
Пожилая чета радовалась, что голос старика остался таким как прежде, а молодые были в восторге от того, что услышали пение, о котором ходило столько слухов. Старик же словно забыл, что у него в лодке семеро пассажиров.
После того как две девушки высадились на острове, молодые люди, замерзнув, накинули пледы и прилегли, поджав ноги. Пожилая пара угощала внука сластями и потихоньку переговаривалась о домашних делах. Когда лодка прибыла в залив, солнце совсем зашло и вечерняя дымка окутывала и деревню, и море. На обратный путь пассажиров не было. Со стороны горы Хикодакэ чувствовалось приближение бури; если оглянуться, на воде рябью отливалось белое сияние – это уже зажглись огни на острове Онюдзима. Черная тень старика с веслом тихо отражалась в воде. Нос лодки легко скользил вперед, волны ударялись о дно, будто что-то нашептывая. От этого звука, навевающего сон, старик незаметно для себя погрузился в радостные мысли; когда в его душе всплывало что-то грустное или тревожное, он покрепче перехватывал весло и встряхивал головой, словно что-то отгоняя.
Дома его ждали: наверняка Кисю сидит и дремлет у очага. Дома куда веселее и теплее жить, и он оттает; со временем в доме начнут зажигаться огни, по вечерам он будет дожидаться старика, чтобы вместе поужинать; когда придет время, дядя Гэн предложит сыну научить его править лодкой, и тот радостно закивает – он всегда был скуп на слова, верно, такая у него привычка. Пройдет время, Кисю окрепнет, на лице появится румянец, а потом, когда пройдет еще немного… И все же, и все же… Дядя Гэн потряс головой. Нет, нет, он тоже человек, он его сын, хотелось бы услышать, как он научится у него и петь так же, а однажды вместе с девушкой выйдет на лодке в лунную ночь. Он тоже человек, посмотрит на эту девушку, как он когда-то, и влюбится в нее. Ни за что нельзя упустить этот момент, надо быть наготове.
Приближаясь к причалу, старик с мечтательным видом смотрел, как качаются на воде длинные отражения огней, горящих в окнах торговых контор. Привязав лодку, он свернул лежавшие у ног циновки, взял их под мышку, взвалил на плечо весло и поднялся с берега. Стоило стемнеть, и три стоявших рядом торговых конторы закрылись, и никого вокруг не было ни видно, ни слышно. Старик шел, закрыв глаза, но очутившись у дома, обвел его пристальным взглядом.
– Сынок, я вернулся, – сказал он, поставил весло на обычное место и вошел в дом. Внутри было темно. – Слышишь меня? Я дома! Что ж ты раньше свет не зажег? – Стояла тишина, и никто не отзывался. – Кисю, Кисю! – В ответ только застрекотал сверчок.
Старик поспешно достал из-за пазухи спички, чиркнул – на мгновение свет озарил совершенно пустую комнату и снова погас. Что-то темное и мрачное словно просочилось из-под пола к нему за пазуху. Он поспешно зажег лампу, огляделся по сторонам невидящим взглядом, навострив уши, и снова позвал: «Сынок!» – хриплым, задыхающимся голосом.
В очаге остался только белый пепел, не было даже остатков ужина. Искать во всем доме не имело смысла, но старик все же обвел взглядом комнату. Ему показалось, что в одном из закопченных углов, куда не дотягивался свет лампы, кто-то есть. Дядя Гэн уронил лицо в ладони и тяжело вздохнул. Сердце его сжалось от мелькнувшей догадки, и, когда он встал с места, по его лицу катились слезы, которые он и не пытался утереть; он зажег висевший на столбе лодочный фонарь, вышел из дома и побежал к городку.
Добежав до кузницы Гонды, где во тьме летели искры от ночной работы, он остановился и спросил, не видели ли здесь вечером проходившего мимо Кисю. «Не видели», – с подозрительным видом ответил один из молодых людей, орудовавших молотом. Старик с кривой улыбкой ответил, что тогда не будет мешать работе, и поспешил дальше. Когда дошел до середины дороги, между полем и рядом сосен на верху насыпи он увидел, что впереди кто-то бредет. Старик поспешно поднял фонарь и догнал его: это оказался Кисю. Тот шел, спрятав руки за пазуху и подавшись вперед всем телом.
– Это ты, Кисю? – позвал его старик, положив ему руку на плечо. – Куда ты один ушел?
В одном его вопросе смешались гнев, радость, грусть и бесконечное разочарование. Кисю без всякого страха смотрел ему в лицо, с таким видом, стоя в воротах, провожают взглядом прохожих. Разочарованный старик некоторое время не мог вымолвить ни слова.
– Холодно? Пойдем скорее домой, сынок, – сказал он, взял Кисю за руку и повел домой. По дороге думал: может, он вернулся слишком поздно, и Кисю не выдержал одиночества; хорошо, что ужин уже должен готовый стоять в шкафу.
Кисю не произнес ни слова, только старик вздыхал.
Как только они вернулись домой, он сразу же разжег в очаге огонь пожарче и усадил возле него Кисю. Достал из шкафа еду, но накормил только Кисю, сам есть не стал. Кисю послушно съел все, даже долю старика. Время от времени дядя Гэн смотрел на него, прикрывал глаза и вздыхал.
– Подвинься ближе к огню, – сказал старик, когда Кисю доел. – Ну как, вкусно было?
Кисю, сонно посмотрев на него, легонько кивнул. Заметив, что его уже клонит в сон, старик ласково сказал:
– Ложись спать, если хочешь.
Он сам постелил ему постель. Уложив Кисю, старик в одиночестве уселся перед очагом, не двигаясь и закрыв глаза. Даже когда огонь в очаге начал догорать, он не подбросил еще хвороста; красные отблески пламени плясали на лице, которое долгие пятьдесят лет он подставлял морскому ветру. На щеках мерцали слезы. Слышно было лишь, как ветер шумит над крышей и завывает в кроне сосны у ворот.
На следующее утро дядя Гэн снова накормил только Кисю – у него самого голова была слишком тяжелой и невыносимо пересохло в горле, поэтому он лишь пил воду. Через некоторое время он взял руку Кисю и прижал к своему лбу, видимо, заметив у себя жар. «Просто немного простыл», – подумал он и решил отлежаться. Дядю Гэна редко валила с ног болезнь.
– Завтра как рукой снимет. Иди сюда, расскажу тебе кое-что. – Он поманил Кисю, усадил его возле своего изголовья и начал рассказывать одну историю за другой. Такие истории обычно рассказывают детям лет восьми: про большую страшную рыбу под названием акула и подобные. Через некоторое время он спросил, глядя в лицо Кисю:
– По матери скучаешь?
Кисю с непонимающим видом смотрел на него.
– Оставайся у меня, я буду тебе отцом… – не договорив, дядя Гэн горько вздохнул. – Послезавтра отведу тебя вечером на представление. Слышал, «Авано Дзюробэя» играют. Может, если посмотришь его, в тебе проснется живая душа, и ты начнешь считать меня за отца. Тогда-то я тебе отцом и стану.
После этого дядя Гэн завел разговор о представлениях, которые видел раньше, и даже потихоньку начал напевать песнь паломника, но, вспомнив о чем-то грустном, заплакал. Кисю, казалось, не понимал ничего из того, что говорил старик.
– Ладно, ладно, с чужих слов и правда ничего не понять, сам увидишь – тоже, наверное, заплачешь, – закончил он с тяжелым вздохом. Утомившись, он ненадолго задремал.
А когда проснулся, Кисю у изголовья не было. «Кисю! Сынок!» – позвал он. Откуда ни возьмись появилась нищенка с окровавленной половиной лица и сказала: «Кисю мой сын». А он смотрел на нее и понимал, что она осталась такой же, как он видел ее в молодости. Это была Юри.
«Что ты сделал с Коскэ? – сказала она. – Пока я спала, он куда-то убежал. Приходи, приходи, приходи ко мне да отыщи его. Смотри, вон он, выкапывает из мусорной кучи огрызок дайкона!»
Тут она закричала и заплакала, а следом появилась его мать и назвала его «сынок». «Ты не видел представление?» – спросила она и указала пальцем. Сцену так ярко освещали свечи, что глазам было больно. Глаза матери покраснели и опухли, словно она плакала; он ел только сладости и заснул, положив головку матери на колени. А потом сон рассыпался, словно мать растолкала его. Дядя Гэн приподнялся с тяжелой головой.
– Сынок, какой же страшный сон я сейчас увидел, – сказал он, оглядываясь по сторонам. Кисю нигде не было. – Сынок! – хрипло позвал он. Ответа не последовало. Только жутко завывал ветер за окном.
Сейчас дядя Гэн спит или нет? Откинув одеяло, он подскочил на ноги, продолжая звать Кисю, но в глазах у него потемнело, и он снова упал на постель. Старику показалось, что он погружается в бездну и волны пытаются разбить ему голову.
В тот день дядя Гэн не вставая лежал в постели, накрывшись одеялом с головой, ничего не ел и даже не шевелился. С самого утра ветер дул все сильнее, и волны со страшным гулом бились о берег. В тот день никто с залива не отправлялся в городок, и никто из городка не собирался на острова, поэтому к лодочнику никто не приходил. Когда стемнело, волны с жутким грохотом обрушились на причал, словно совсем озверев и намереваясь его разломать.
Едва занялось утро и небо на востоке побелело, люди поднялись с постелей, накинули плащи и с зажженными лодочными фонарями собрались у причала. Тот остался цел и невредим. Ветер уже стих, но волны еще были высоки и грохотали в открытом море, словно гром; когда они разбивались о берег, брызги окатывали взморье, подобно дождю. Осматривая обломки, люди увидели, что одна из лодок лежит, выброшенная на скалу и совсем разбитая.
– Чья это лодка? – спросил один мужчина; кажется, это был владелец одного из торговых домов.
– Это точно лодка дяди Гэна, – ответил кто-то из молодых парней. Люди молча переглянулись.
– Так, может, его кто-нибудь позовет?
– Я схожу, – парень поставил фонарь на землю и убежал. Не добежав до дома и десяти шагов, он увидел, что на ветке сосны что-то висит, будто бы вытянув шею. Набравшись смелости, парень осторожно подошел ближе, чтобы рассмотреть, что это. То было тело повесившегося дяди Гэна.
В горах недалеко от гавани Кацура есть маленькое кладбище; если повернуть к востоку, то можно обнаружить могилы жены дяди Гэна Юри и его единственного сына Коскэ. Надгробие с надписью «Икэда Гэнтаро» там пока не установили. Все трое лежат рядом, Коскэ посередине, и, пока зимней ночью их могилы засыпает мокрый снег, молодой учитель в столице печалится, думая, что дядя Гэн и сейчас, как прежде, живет в одиночестве на побережье и плачет, вспоминая жену и сына.
Что до Кисю – на него, как и прежде, местные смотрели как на неотъемлемую часть Саики, и, как и прежде, он блуждал ночами по старому городу, похожий на выбравшегося из могилы мертвеца. Когда ему сказали, что дядя Гэн повесился, Кисю в ответ только пристально посмотрел на говорившего.
Мусасино
1
Однажды я видел на карте эпохи Бунсэй надпись «Облик равнины Мусасино ныне сохранился лишь малой толикой в уезде Ирума». На той же карте я прочитал заметку об уезде Ирума: «Котэсасихара и Кумэгава суть поля давних боев. В “Тайхэйки” говорится об этих краях: в одиннадцатый день пятой луны третьего года Гэнко враги сошлись на равнине Котэсасихара и сражались весь день, а когда стемнело, встали чуть больше, чем в тридцати ри друг от друга; воины Хэй отступили на три ри к реке Кумэгава и встали на ней лагерем, а на рассвете войско Гэн напало на лагерь». Определив, что именно там должны были сохраниться немногочисленные следы прежней равнины Мусасино и что там же были древние поля сражений, я собирался съездить туда, да так и не собрался, а сейчас с сомнением думаю, могло ли на самом деле что-то сохраниться до наших дней. В любом случае, не думаю, что только я хотел бы увидеть тот облик равнины[4] Мусасино, который представлял себе по картинам и песням. Год назад во мне родилось желание узнать, как же Мусасино выглядит сейчас, ответить на этот вопрос во всех подробностях и тем удовлетвориться, и с тех пор это желание лишь усилилось.
Итак, способен ли я исполнить его собственными силами? Не сказать, что нет. Полагаю, это не так-то просто, но только поэтому мне так запала в душу нынешняя равнина Мусасино. Наверняка найдется немало людей, разделяющих мои чувства.
Теперь я намерен понемногу начать претворять свое желание в жизнь и с осени до зимы записывать все увиденное и все мои чувства от увиденного, чтобы исполнить хотя бы малую его часть. Для начала предстоит ответить на вопрос, уступает ли красота равнины Мусасино в наши дни ее былой красоте. Несомненно, я не могу представить, насколько она была прекрасна в далеком прошлом, но та Мусасино, которую я вижу сейчас, позволяет сделать весьма преувеличенные выводы о ее былом величии. Я говорю, что равнина Мусасино красива, но хотел бы сказать, что она не столько красива, сколько полна поэтического очарования, полагаю, это выражение будет более уместным.
2
Так как материалов мне недоставало, я решил, что материалом послужит мой собственный дневник. С начала осени двадцать девятого года по[5] начало следующей весны я жил в маленькой крытой тростником хижине в деревне Сибуя. Мое желание зародилось как раз в то время, и сейчас я пишу только про осень и зиму.
Седьмое сентября: «Со вчерашнего дня дует сильный южный ветер, то принося, то разгоняя облака; дождь то идет, то перестает; когда сквозь тучи проглядывает солнце, очертания леса мерцают в его лучах…»
Это самое начало осени в Мусасино. Лес еще одет в летнюю зелень, но небо уже совсем не такое, как летом: южный ветер приносит тучи, и они низко нависают над равниной, то и дело проливаясь дождем, а когда в просветах между ними проглядывает солнце, его свет отражается от влажной листвы леса вдалеке. Сколько раз я задумывался: если в один из таких дней суметь окинуть взглядом всю равнину, какое же это должно быть красивое зрелище. Спустя два дня запись от девятого числа снова гласит: «По всей равнине дует по-осеннему сильный ветер, облака то появляются, то уплывают вдаль». В это время держалась такая же погода, вид неба и земли менялся в мгновение ока; солнце светило еще по-летнему, но цвет облаков и завывания ветра уже наводили на мысли об осени, и это показалось мне весьма любопытным.
Я взял эту осень за отправную точку и до конца зимы намерен вести дневник, указывая даты по левую сторону страницы, описывая в общих чертах перемены и основные элементы пейзажа.
Девятнадцатое сентября: «Утром небо затянуто тучами, а ветер стих, стылый туман и холодная роса, голоса насекомых стихли, словно и земля, и небо спят беспробудным сном».
Двадцать первое сентября: «Осеннее небо будто вытерто дочиста, листья на деревьях сверкают, словно огонь».
Девятнадцатое октября: «Лес чернеет в ясном лунном свете».
Двадцать пятое октября: «Утром лежал густой туман, после полудня прояснилось, а когда стемнело, в просвет между облаков выглянула луна. Утром, пока туман еще не рассеялся, вышел из дома, бродил по полям, ходил в лес».
Двадцать шестое октября: «Днем ходил в лес. Сидел, смотрел по сторонам, прислушивался к звукам и, прикрыв глаза, думал в тишине».
Четвертое ноября: «Небо высокое и по-осеннему чистое; если в сумерках встать на ветру посреди поля, далекая Фудзи кажется ближе, и чернеет на горизонте горная гряда на границе. Наконец загораются первые звезды, небо темнеет, и тень леса кажется совсем далекой».
Восемнадцатое ноября: «Гулял под луной, по земле стелется синяя дымка, лунный свет дробится сквозь деревья в лесу».
Девятнадцатое ноября: «Небо ясно, ветер свеж, роса холодна. Куда ни глянь, всюду желтая листва вперемешку с вечнозелеными деревьями. На их верхушках щебечут птицы. Вокруг ни души. Гулял в одиночестве, размышляя, бродил по окрестностям».
Двадцать второе ноября: «Не успело стемнеть, как снаружи завыл ветер, мечущийся по лесу. Звука капель сквозь него не различить, но, похоже, дождь все же прекратился».
