Марк, ты слышишь меня?
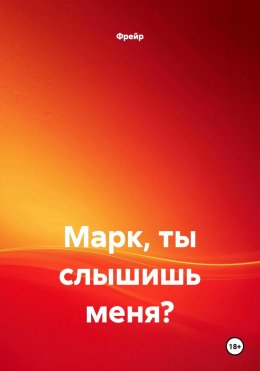
«СЕГОДНЯ СНОВА ВИДЕЛ ИХ. ЭТИ ОГНИ В ЧЕРНОМ БОРУ. КОЛЛЕГИ ШЕПЧУТ, ЧТО Я СПЯТИЛ ОТ ЖАРЫ. ВОЗМОЖНО. НО ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЫ ПОКАЗЫВАЕТ АНОМАЛИИ, КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ПРИРОДА НЕ СОВЕРШАЕТ ТАКИХ ОШИБОК. ЗНАЧИТ, ЭТО КТО-ТО ДРУГОЙ. ИЛИ… ЧТО-ТО. ЗАПИСЫВАЮ ДЛЯ СЕБЯ. ЧТОБЫ НЕ СОЙТИ С УМА ОКОНЧАТЕЛЬНО.»
– ОТЦОВСКИЙ ДНЕВНИК
ПРОЛОГ
ТОТ САМЫЙ ЩЕЛЧОК. С НЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ.
Если ты это читаешь – значит, я точно умер. Неприятное осознание, да? Особенно для меня. Но раз уж ты держишь это в руках, давай начистоту. Расскажу-ка я тебе, как именно это происходит. По крайней мере, как это вышло у меня.
Последним моим воспоминанием стал тошнотворный вкус остывшего кофе из бумажного стаканчика. Да-да, той самой бурды из автомата у подъезда, на которую я всю жизнь жаловался. Ирония судьбы, не правда ли? Думал, хуже уже ничего быть не может. Ан нет. Надо же было чем-то подстегнуть мозги перед визитом к свидетельнице по делу Коршунова. Дело было пахнущее, мутное, и я чувствовал – мы копаем не там. Как в воду глядел.
Я так и не успел сделать этот глоток. Только занес руку… чувствовал, как прохладный картон касается губ… и на этом мои личные воспоминания решили, что с них довольно. Не "продолжение следует", а жесткое "финиш".
А теперь давай развеем главный миф. Тот, что вбивали нам с детства. Я всегда представлял, что там, «после», будет что-то грандиозное. Ну знаешь – свет в конце тоннеля, хор ангелов, встреча с праотцами, что-то в этом роде. Полная программа для усопшего.
На деле оказалось, что смерть – это самый обыкновенный щелчок. Негромкий, сухой, где-то на задворках сознания. Как будто кто-то взял и просто выдернул меня из розетки. И всё. Ни тебе спецэффектов, ни саундтрека.
И вот я остался висеть в пустоте. Не в космической – там хоть звезды есть. А в абсолютной. Один-одинешенек. Ни тела, ни веса, ни привычной тяжести в груди, которую я раньше считал несчастьем – мол, сердце пошаливает. Одно лишь сырое, ободранное догола сознание, которое нащупывало в темноте один и тот же, идиотски простой вопрос: «Что… что это было?».
И тут же, откуда ни возьмись, просигналила какая-то оторванная мысль, последний обломок здравого смысла: «Кофе. Допьешь кофе и всё поймёшь. Рука. Просто подними руку и допей».
Но руки не было, понимаешь? Вообще ничего не было. Только эта дурацкая, детская команда, застрявшая в пустоте, как заевшая пластинка: «Подними руку и допей кофе». Смешно, да? А мне тогда было не до смеха.
Потом я понял кое-что еще. Холод бывает разный. Тот, от которого стынет кожа, когда ждешь автобус в феврале, – это еще цветочки. А есть холод, который идет изнутри. Не физический, а экзистенциальный. Он пронизывает самую твою суть, выжигает все остальное. Как будто я стал сосулькой, которая вдруг осознала, что она сосулька. И тает. И ничего с этим поделать нельзя.
Еще меня окружала тишина. Не благоговейная, не торжественная. Густая, удушающая, как вата. И сквозь нее едва пробивались искаженные голоса, будто из приемника с расстроенной волной. «Отлично, – мелькнула у меня тогда единственная здравая мысль. – Даже на том свете связь хромает». Утешил себя, блин.
Я попытался шевельнуться – и мир качнулся. Не так, как раньше, когда поворачиваешь голову. Нет. Это было… как будто я сам был точкой обзора, и реальность проплывала мимо. Я не видел глазами, а скорее… чувствовал пространство вокруг. Считывал его. И с удивлением, до сих пор помню это ощущение, узнал его: та самая квартира, куда я пришел на встречу. Тот самый потертый диван, книжная полка… И осколки хрустальной пепельницы на полу, которых тут точно не было, когда я вошел. И… тело.
Человека в моем пиджаке, нелепо распластанное на ковре. Лицом вниз. Рука вывернута. Знакомый силуэт, но такой чужой.
Любопытство – мой старый, неисправимый грех, который регулярно приводил меня в неприятности, – заставило меня подойти ближе.
Вот так вот. Знакомьтесь, граждане. Вот и познакомились. Это я, Марк Соколов. Свежий труп. На лице – привычное недоумение, будто опять в бухгалтерии накосячил с отчётом. Только в этот раз – насовсем. В раскинутой руке зажат тот самый стаканчик, а его коричневое, остывшее содержимое медленно впитывается в дорогой персидский ковер хозяйки квартиры.
И только тогда, глядя на это нелепое зрелище, на себя со стороны, до меня окончательно дошло. Просто, четко: «Я мёртв».
Осознание накатило на меня не истерикой, не воплем. Тихим, безнадежным холодком, который оказался куда страшнее любого крика. Ни паники, ни слёз. Просто констатация факта, который перечеркивал все: в один миг я из следователя превратился в вещдок. В самое главное дело в своей карьере, которое теперь, ирония судьбы, никогда не закроют. Потому что главный свидетель и главная улика – это я. И я ни черта не помню.
Внезапно дверь с тихим скрипом открылась. На пороге стоял Андрей, мой напарник. Весь такой живой, настоящий, в своем вечно помятом плаще.
– Марк? Ты где, ну емаё? – его голос звучал привычно-раздражённо, с той самой ноткой, которая появлялась, когда я где-то задерживался.
Я мысленно хмыкнул. Устало, беззвучно. «Прямо перед тобой, дружище. В самом буквальном смысле слова. Разглядывай, не стесняйся».
Его лицо, только что сердитое, стало маской шока. Буквально на глазах. Он рухнул на колени рядом с… со мной. С тем, что было мной. А я стоял, вернее, висел в двух шагах и смотрел, как он тычет пальцами в мою бездыханную шею, ища пульс. Его пальцы, теплые, живые – я чувствовал это эхом, как далекий удар грома, – впивались в холодную кожу.
«Напрасно стараешься, коллега, – мысленно сказал я. – Там уже никого нет. Диспетчерская пуста. Абонент недоступен».
– Марк? – его голос сорвался на шепот. – Нет, нет, нет…
Он отдернул руку, будто обжегшись о лед, и сжал кулаки. Из его горла вырвался сдавленный, животный звук, который не должен был издавать тридцатилетний опер, видавший виды. В этом звуке было все. Весь ужас, все отрицание, и то самое, самое горькое понимание, что ничего уже нельзя исправить. Перемотать. Отменить.
– Напрасно, ой напрасно, – снова подумал я, уже беззвучным эхом.
Но он продолжал сидеть на коленях, глядя в никуда, и по его лицу текли слезы. Те самые, о которых он потом, наверное, будет жалеть, считая их слабостью. А я стоял в двух шагах и впервые понял простую, ужасающую истину: смерть – это не боль для того, кто умер. Это боль для тех, кто остался. Мы, мертвые, отделались испугом. А им, живым, теперь с этой дырой в мироздании жить. И не залатать.
– Андрей! – закричал я изо всех сил, вкладывая в этот крик всю свою ярость, все свое отчаяние. – Я здесь! Подними голову, дурак! Смотри на меня!
Но моя рука, вернее, ее подобие, прошла сквозь его плечо, не оставив ничего, кроме легкой дрожи. Лишь пламя зажигалки на столе рядом дрогнуло, пляшущая тень метнулась по стене.
Он вздрогнул, огляделся. Его взгляд, мутный от шока, скользнул прямо сквозь меня.
– Сквозняк, – буркнул он, не отрывая потухшего, пустого взгляда от моего тела. От бывшего меня.
Вот так, дружище, и началась моя новая, незапланированная карьера. Призрака в квартире убитой свидетельницы. Вещдока №1 в собственном, нераскрытом деле. И единственного свидетеля, который всё видел, но ничего, черт побери, не помнит.
Добро пожаловать в мой мир. Тебе здесь точно не понравится.
«Ольга говорит, я стал одержим. Что это гибель для карьеры. Но как я могу остановиться, когда каждый день приносит новые вопросы? Эти ‘костры’… они не горят. Они… трансформируют. Дерево становится чем-то иным, холодным и живым. Я боюсь, что однажды эта тьма придет из леса в наш город. В наш дом.»
– Отцовский дневник
Запись из того же дневника, неделей позже:
«Вывел три эмпирических правила этих мест. Первое: аномалия не разрушает, а замещает. Она выжигает жизнь, но оставляет идеальную, стерильную форму. Второе: она питается вниманием. Чем дольше смотришь, тем сильнее она затягивает, подменяя твои мысли своими. Третье: у неё есть ритм. Всплески активности случаются каждые 6 часов 17 минут. Как будто это не стихийное явление, а работа некоего механизма. Механизма, у которого есть своя, чуждая логика.»
Глава 1. Я всё ещё здесь. Почему?
Пылинка, трижды обогнувшая спинку моего стула, наконец прилипла к лаковому покрытию. Солнечный луч дополз до трещины в паркете и начал таять, как последняя надежда.
Андрей совершал свой бесконечный маршрут: от окна к моему столу, от стола к кофемашине, обратно к окну. Его пальцы оставляли на пыльной поверхности моего компьютера причудливые узоры – спирали тоски, зигзаги бессилия. Он поднял кружку с остывшим чаем, на дне которой прилипший пакетик напоминал утонувшую бабочку, поднес к губам, но вместо глотка издал тихий прерывистый звук и поставил обратно.
Мой пиджак продолжал висеть на спинке стула – немой свидетель. На левом рукаве у локтя застыло коричневое пятно от кофе. Я помнил тот утренний спешный глоток, торопясь на допрос.
Дверь ворвалась в комнату, сбросив со стены фотографию – мы с Андреем на озере, держим щуку размером с мою тогдашнюю самоуверенность. Алиса застыла в дверном проеме, вцепившись в косяк так, что ее пальцы стали восковыми фигурами. Дыхание рвалось из груди неровными порциями. Она пыталась сжать дрожащие губы, но они жили отдельной жизнью – двумя трепещущими лепестками.
Ее взгляд-скальпель скользнул по комнате, по Андрею, по моему пиджаку… и упал на пол. Туда, где мелом был выведен призрачный контур. Мой контур. Ее лицо, обычно собранное как парадный мундир перед высшим инспектиром, поплыло, превратилось в акварельный этюд, размытый дождем.
Я вспомнил. Наш последний диалог. Ее: "Ты лезешь в клетку со спящим львом, не зная, где спрятан ключ". Мое: "Зато не прячусь за чужими спинами, как профессиональные тени". Гробовая тишина. Оглушительный хлопок дверью. И все ради чего?
– Прости, – прошептал я. Штора у окна вздохнула, хотя в комнате не было сквозняка.
Алиса резко обернулась, будто ее ударили хлыстом по спине. Ее глаза, расширенные до размеров ночных озёр, метались по комнате, выискивая в полумраке невидимого собеседника.
– Кто здесь?
Андрей тяжело подошел, положил руку ей на плечо. Она вздрогнула, словно прикоснулась к оголенному проводу. Андрей отступил на шаг, его пальцы инстинктивно потянулись к мундштуку электронной сигареты в кармане – еще одна попытка заменить старую, вредную привычку на контролируемую, менее разрушительную. Он всегда стремился к порядку, даже в хаосе. Пока Марк строил головокружительные теории, Андрей выстраивал факты в аккуратные колонки. Пока Марк горел, Андрей следил, чтобы пламя не перекинулось на окружающих. Эта роль тыловика, человека-опоры, давно стала его проклятием и спасением. Он смотрел на Алису, на её сломанную осанку, и понимал: сейчас его долг – быть холодным и трезвым. Кто-то должен оставаться им, даже когда мир рушится. Даже если для этого придется запереть собственную боль на семь замков и сделать вид, что ключ потерян.
– Никого. Тебе нужно отдохнуть, Алиса.
Но она не слышала. Смотрела на то место на персидском ковре, где двое суток назад растеклась коричневая лужица. Пятна уже не существовало, но ее взгляд выжигал его заново, как клеймо.
– Он всегда… ворчал, когда я не допивала кофе, – голос сорвался на полуслове, превратившись в шепот. – А я тогда… я сказала…
Воспоминание накрыло ее внезапно и безжалостно, как удар тупым ножом под ребра. Не последний день, не ссоры – обычное утро. Солнечный луч на их кухне, пылинки, танцующие в нем.
Он сидел напротив, сонный, в мятой футболке, ворочал вилкой омлет. Схватил пакет с соком, отхлебнул и поморщился:
– Опять этот картон. Кислятина.
– Сам виноват, забыл в холодильник убрать, – она, не глядя, выхватила у него из тарелки второй круассан. – Конфискую за вредительство.
– Ах ты, грабитель в законе! – он фыркнул, но глаза смеялись. Потом потянулся к своему телефону. – Слушай, а этот твой сериал… Ну, с тем рыжим доктором. Он же полный бред. Кто так в жизни поступает?
– А тебе ли, человеку, который верит протоколам больше, чем людям, судить о чувствах? – парировала она, закусывая его круассан.
Он что-то пробормотал про «здравый смысл» и «клиническую романтику», но спор уже выдохся, перетекая в уютное утреннее молчание. Он доел омлет. Она допила его сок, который только что ругал.
Ничего. Абсолютно ничего важного. Просто счастье.
Алиса отшатнулась от пиджака, как от огня. Ладонь сама прижалась к груди, пытаясь заглушить внезапную, физическую боль. Вот оно. Самое страшное. Не образ его смерти, а образ этой украденной, глупой, бесценной нормы, которая болит куда сильнее, чем любая драма.
Телефон на столе завибрировал, исполнил танец смерти на полированной поверхности. Алиса посмотрела на экран. "Яна". Ее горло сжалось, сровнявшись с карандашом. Она провела пальцем по экрану. Рука дрожала.
– Ян… – начала она, но голос предательски сорвался.
Из динамика донесся ровный, холодный голос:
– Алис, что за дичь? Ты скинула мне официальную бумажку ? Несчастный случай и на этом все?
Алиса закрыла глаза, собираясь с силами:
– Яна, слушай… Марк…
– Не надо! – отчеканила Яны резко, – Мой брат не был тем, кто спотыкается о собственные шнурки. Он мне позавчера скинул – "нашел кое-что интересное, надо обсудить". А теперь ты мне про "несчастный случай"? Серьезно?
– Следователи установили… – попыталась сказать Алиса, но Яна ее перебила:
– Какие следователи? Те, что в том же чатике, где он писал про "странные костры в лесу" ржали как кони? Те, что пару месяцев назад его отчет зарубили? Алис, мы же не в каком-то кривом сериале?
В голосе Яны появились нотки истерики, которые она пыталась задавить:
– Он мне вчера звонил, говорил, что у него есть доказательства… Что все это не просто поджоги… А теперь – "несчастный случай»?
Алиса прикусила губу. По щеке скатилась слеза, оставив влажный след.
– Яна, дорогая… я сама не верю… но доказательства…
– Какие доказательства? – взорвалась Яна. – На лицо полно несостыковок или ты ослепла от горя?
– Протокол… – начала Алиса, но снова была перебита.
– Ты издеваешься? Какой протокол? – в голосе Яны послышались слезы, которые она яростно сдерживала. – Марк два года эти аномалии отслеживал! Отец перед смертью то же самое говорил! А теперь – раз! – и все кончилось?
Она замолчала, слышно было только ее прерывистое дыхание.
– Ян, я… я не знаю, что сказать… – прошептала Алиса. – Я сама в шоке…
– Знаешь что? – голос Яны внезапно стал тихим, опасным. – Я этот "несчастный случай" на коленке разберу. У меня все его данные, все его заметки. И если найду хоть намек…
Она не договорила. Раздались короткие гудки – Яна положила трубку.
Алиса опустила руку с телефоном. Лицо ее было мокрым от слез. Андрей молча подошел, обнял ее. Она уткнулась лицом в его плечо, и тихие рыдания наконец вырвались наружу.
Яна стояла у панорамного окна, вжавшись в холодное стекло. За ним раскинулся ночной город – гигантский электрический организм, пульсирующий светящимися артериями. Каждая вспышка неона, каждый луч фар был теперь укором. Где-то там, в этой безразличной красоте, его не стало.
Словно в замедленной съемке, телефон выскользнул из ее онемевших пальцев. Он не упал, а поплыл вниз, описывая в воздухе дугу, прежде чем глухо щелкнуться об пол. Звук был приглушенным, далеким, будто доносящимся из-за толстого слоя воды.
Ее взгляд, остекленевший от шока, медленно скользнул по комнате, пока не наткнулся на осколки хрустальной вазы. Подарок отца на шестнадцатилетие. «Чтобы твоя жизнь всегда была полной, как эта ваза», – сказал он тогда. Теперь она была пуста. Тысячи осколков, острых и безжалостных, лежали на полированном паркете, словно созвездие из застывших, невыплаканных слез. В каждом осколке дрожал отраженный свет люстры, мерцая, как крошечные, пойманные в ловушку звезды.
Она стояла недвижимо, вцепившись в подоконник так, что костяшки побелели. Воздух в легких застыл, превратившись в ледяной ком. Горло сжалось, не пропуская ни звука. Только губы, абсолютно сухие, беззвучно шептали в отражение в стекле, обращаясь к миру, который только что перевернулся:
«Нет…»
Пауза. Тишина в голове стала оглушительной, звенящей.
«…не может быть…»
Это был не крик, а выдох отчаяния, такой тихий, что его поглотила громада города за окном.
Потом, будто повинуясь чужой воле, ее пальцы сами потянулись к планшету, лежавшему на столе рядом. Движение было механическим, лишенным всякого смысла. Рука казалась чужой, тяжелой. Она коснулась холодного стекла экрана, и он ожил, ослепив ее ярким светом в темноте комнаты.
Палец сам нашел иконку облачного хранилища. Клик. Папки и файлы предстали ровными рядами, образцовый порядок цифрового мира, который так контрастировал с хаосом в ее душе. Взгляд, затуманенный слезами, которые она еще не позволила себе пролить, зацепился за папку: «Исследования Марка».
Сердце, замершее было в груди, сделало один тяжелый, болезненный удар. Она открыла папку. Список файлов. И самый последний, верхний. Название: «Коршунов. Энергетические аномалии. Совпадение?»
Дата изменения. Вчера. Время изменения – 14:43. За час до того, как он переступил порог той квартиры.
Время вокруг нее снова застыло. Вся комната, весь мир сузились до этого названия на экране. В нем была ключевая разгадка, последнее, о чем он думал. Шепот надежды, хрупкой и опасной, прошелестел в оцепеневшем сознании: «Он что-то нашел. Он не просто умер. Его убрали».
Дрожащий палец коснулся иконки файла.
Экран потемнел, и в центре возникло безжалостное, стандартное окошко. «ТРЕБУЕТСЯ ПАРОЛЬ».
Пустое поле для ввода. Мигающий курсор, насмешливый и требовательный.
Пароль.
Пароль, которого она не знала.
Последняя ниточка, связывающая ее с братом, с правдой, оборвалась, упершись в цифровую стену. И в этой тишине, под мерцание осколков на полу и холодный свет экрана, рождалась не просто боль. Рождалась ярость.
Последняя о случившемся узнала Ольга Викторовна, в смысле мама… не буду объяснять, так уж сложилось в нашей семье.
Машина Ольги Викторовны плавно скользила по ночным улицам, как призрак по знакомому маршруту. Руки в кожаных перчатках занимали положение "без десяти два" – выверенная геометрия контроля. Звонок разрезал тишину как хирургический скальпель. Два гудка.
– Да?
В телефоне прозвучало словно приговор
– Ваш сын найден мертвым, оперативники предполагают что это несчастный случай. Тело уже в морге, специалисты заканчивают с осмотром места происшествия
Пауза растянулась, наполнив салон свинцовой тяжестью. Пальцы в перчатках сжали руль. Кожа затрещала, протестуя против давления.
– Поняла. Спасибо.
Она положила трубку. Повернула в темный переулок за заброшенным заводом – место, где умирали даже воспоминания. Заглушила двигатель. Тишина обрушилась на салон тяжелым покрывалом. Только тиканье остывающего мотора отсчитывало секунды до распада.
Она достала из бардачка пачку сигарет – те самые, "Беломор", что курил ее муж. Рука дрожала, когда она подносила зажигалку. Первую затяжку она сделала глубоко, как делал он. Дым заполнил салон, смешиваясь с запахом ее духов и слез.
Она опустила голову на руки, все еще сжимавшие руль. Стекло быстро запотело от дыхания – будто сама машина плакала. Плечи затряслись – беззвучные конвульсии, будто внутри нее рушились невидимые опоры, державшие всю ее жизнь.
Я вернулся туда, где все началось. Воздух пах пылью веков и озоном – кто-то включил УФ-лампу, выискивая невидимые глазу свидетельства.
Молодой оперативник, лицо которого еще не носило маски профессионального безразличия, присел на корточки, чтобы сфотографировать блеклый контур на полу. Мой последний автограф.
Его взгляд-метроном скользнул по стене, зацепился за часы. Старомодные, с кукушкой, висевшие в простенке как реликвия другого времени. Деревянные, потемневшие от лет, с позеленевшим циферблатом. Он хмуро покосился на них, потом на свои наручные электронные, и снова на стенные. На его лице появилась трещина недоумения.
– Странно, – произнес он вслух, обращаясь к коллеге, перебирающему книги на полке. – Часы вроде шли. Механизм исправен. И остановились ровно на 4:17.
Он провел пальцем по стеклу циферблата, затем по стрелкам.
– Смотри, – продолжил он. – Пыль везде равномерная, а вот здесь, вокруг стрелок – чистое место. Как будто их недавно передвигали.
Его напарник подошел, взглянул:
– Может, хозяйка заводила?
– И время какое-то странное. 4:17. Не утро, не вечер. Середина дня.
Он достал лупу, внимательно рассмотрел механизм.
– Странно… пружина заведена. Часы должны были идти. Что-то их остановило. Ровно в это время.
В этот момент где-то вдали прозвучал гудок автомобиля. И часы… дрогнули. Секундная стрелка сдвинулась на одно деление, затем снова замерла.
Молодой оперативник отшатнулся.
– Ты видел?
– Что?
– Стрелка… она пошевелилась.
Напарник усмехнулся:
– Показалось. От усталости. Давай заканчивать, тут и так жуть берет.
Но оперативник продолжал смотреть на часы. На циферблат, где стрелки показывали 4:17. Время, которое стало для него чем-то большим, чем просто цифры на часах.
В тот же миг мир перевернулся с ног на голову. Холод, ставший моей второй кожей, вспыхнул белым огнем. Тишина взорвалась оглушительным ревом, похожим на звук рвущейся ткани реальности. Я снова проваливался в ничто, в ту самую бездну, что поглотила меня вначале.
Но на этот раз – с одним, четким, выжженным в сознании знанием. Озарением, которое было страшнее любой физической боли.
Часы остановились не после моей смерти.
Они остановились вместе со мной.
И это была не случайность. Это была первая ниточка Ариадны в моем личном лабиринте. Тонкая, едва заметная, но невероятно прочная. Ниточка, связывающая меня, эхо, призрака, с тем, что случилось в мире живых. С правдой. И я ухватился за нее всеми силами своего бесплотного существа, как утопающий хватается за соломинку. Потому что это было все, что у меня осталось в этом новом, странном существовании между мирами.
Где-то вдалеке Яна вводила очередную комбинацию паролей к файлам брата. Ольга Викторовна заводила двигатель, ее лицо снова становилось непроницаемой маской. Алиса вытирала слезы и открывала на своем компьютере дело Коршунова. А часы в той квартире все показывали 4:17.
Время моего последнего вздоха.
«Сегодня сын спросил, почему я так много работаю. Не смог ответить. Как сказать ему, что его отец пытается удержать дверь в другой мир, которая уже начала приоткрываться? Как признаться, что иногда я слышу за ней шепот? Шепот, который зовет меня по имени. Ольга, Яна, Марк… Боже, защити их. Забери мою жизнь, но сохрани их.»
– Отцовский дневник
Глава 2. Я научился шептать. Но кто-то другой меня услышал
Я научился перемещаться. Это было не как ходить, а скорее как мысленное усилие – пожелал оказаться там, и мир проплывал мимо, краем сознания. Я был привязан к местам и людям, связанным с моей гибелью, как собака на невидимой цепи, чья длина измерялась не метрами, а силой нашей общей боли.
В тот вечер я был прикован к Алисе. Она одна в моём кабинете, вернее, в нашем или в том, что от него осталось. Она перебирала бумаги с моего стола, и каждое её движение было окрашено такой болью, что я физически чувствовал её как ледяные иглы под своей несуществующей кожей. Я видел, как её взгляд зацепился за наш общий снимок – мы тогда смеялись, как сумасшедшие, не подозревая, что будущее уже поджидает за углом с ножом в руке.
– Жаль, я не успел тебе всё рассказать, – прошептал я, глядя на её склонённую голову.
Она не услышала. Вернее, услышала не так. Она вздрогнула и обернулась, словно кто-то окликнул её по имени. В воздухе повисло напряжённое ожидание, густое, как смог.
И тогда я попробовал снова. Я собрал всё, что осталось от моей воли, в тугой, раскалённый шар и послал ей одну-единственную мысль, чёткую, как прицел. Это было похоже на попытку проткнуть толстое стекло – больно и мучительно. Я смотрел на фотографию в её руках и думал только об одном.
«Посмотри на часы».
Алиса замерла, схватившись за виски. Её лицо на мгновение исказила гримаса – не понимания, а физической боли, будто внутри черепа у неё что-то резко щёлкнуло. Её пальцы сами потянулись к фото, к маленькому будильнику на столе у меня за спиной на том снимке. Она прищурилась, поднесла фотографию ближе к глазам. И ахнула, отшвырнув снимок, будто он ужалил её. На циферблате, который был просто фоном, чьей-то рукой был обведён кружок – вокруг цифры «четыре». Та самая, роковая цифра. Но это было не всё. Приглядевшись, она увидела – стрелки на всех часах в кадре, включая её собственные наручные, показывали одно и то же время – 4:17.
– Марк?.. – её шёпот был полон не веры, а отчаянной, почти животной надежды. – Это ты? Это… больно.
Я не смог ответить. Силы покинули меня, и я отплыл в серую мглу, оставив её одну с этой жгучей загадкой.
Эта находка не стала для Алисы простой уликой. Она стала навязчивой идеей. Память о том, как я в день смерти ворчал, что опаздываю, бросив на ходу: «Встреча в четыре, у той свидетельницы», – столкнулась с материальным доказательством. В ее сознании эти обрывки сложились в приказ. Она решила, что я из-за гроба указываю ей на пробел в расследовании – на саму свидетельницу, на хозяйку квартиры. На следующее утро, придя в отдел, она первым делом направилась к Андрею.
– Надо копать вглубь биографии хозяйки той квартиры, – заявила она, положив распечатку того самого фото с обведенными часами ему на стол. – Марк нам указывает. Он что-то знал о ней.
Андрей устало потер переносицу. Он выглядел помятым и невыспавшимся.
– Алис, я уже проверял. Ничего криминального. Одинокая пенсионерка, бывший архивариус. Ни связей, ни темного прошлого.
– Не может быть! – голос ее дрогнул от нетерпения. – Он не стал бы просто так обращать на это внимание! Ты же видишь? Часы! 4:17! Это знак!
– Знак чего? – Андрей с раздражением отодвинул бумагу. – Что он сфотографировался в комнате с часами? Это паранойя. Ты не спишь, не ешь, ты ищешь знаки в пыльных углах. Может, он просто смотрел на время? Может, это совпадение?
Их конфликт был не просто спором о фактах. Это был конфликт памяти. Для Алисы ее воспоминания о моей одержимости делом, о моих последних странных словах, подкрепленные теперь «знаком» с фотографии, были единственной нитью, ведущей к правде. Для Андрея те же самые воспоминания – о моей порой безрассудной увлеченности, о моей склонности видеть заговор там, где его нет – были предостережением. Он помнил меня как блестящего, но одержимого следователя и видел, как Алиса скатывается в ту же пропасть. Его память заставляла его защищать ее от самой себя, даже если это значило отрицать мои послания.
– Ты его не понимал! – выпалила Алиса, и тут же сжалась, увидев, как боль отразилась в его глазах.
В воздухе повисло тяжелое молчание. Они оба вспомнили одно и то же. Тот вечер, несколько месяцев назад, когда я вломился к ним домой, растрепанный и возбужденный, с папкой в руках.
«Я что-то нашел, – говорил я, лихорадочно листая страницы. – Коршунов, эти аномалии… это не случайность. Это система. Они что-то скрывают».
Андрей тогда скептически хмыкнул: «Марк, опять твои теории заговора? Может, хватит?»
А я, обиженный, повернулся к Алисе: «Ты же веришь мне?»
Она тогда промолчала, опустив глаза. Этот молчаливый укор, это предательство – маленькое, бытовое – теперь жгло ее изнутри. И эта больная память о своей несостоятельности заставляла ее теперь цепляться за малейший намек с моей стороны, стремясь искупить ту давнюю вину. Для Андрея же та же сцена была подтверждением его правоты: он видел, как моя одержимость уже тогда начинала разрушать наши отношения, и был полон решимости не позволить ей разрушить и Алису.
– Ладно, – сдавленно сказал Андрей, ломая паузу. – Я еще раз проверю. Но, Алиса, ради всего святого, держи себя в руках.
Позже, по дороге домой, Андрей зашел в круглосуточный магазин. Пока он выбирал кофе, двое рабочих у витрины с пивом оживленно обсуждали новость: в районе Черного Бора снова отключилась связь, а на некоторых домах у лесопарковой зоны с утра обнаружили странные узоры – будто иней выпал узкими, переплетающимися кольцами. «Опять эти твои костры, – хмыкнул один из них. – Говорят, на прошлой неделе там мужик один заблудился в трех соснах, вышел седым и ничего не помнит». Андрей молча положил товар на ленту. Самое страшное было не в самих слухах, а в их тоне – привычной, бытовой безысходности. Город учился жить с аномалией, как живут с плохой экологией или властью жуликов. Она становилась частью пейзажа.
В ту же ночь я почувствовал зов. Слабый, но настойчивый, как стук в закрытую дверь. Это была Яна. Она сидела в своей тёмной спальне, скрестив руки, и с закрытыми глазами повторяла, как мантру:
– Марк, если ты можешь меня слышать… Дай знак. Скажи, кто это сделал.
Я попытался подойти, проявиться. Её зов был похож на сильный ток, который одновременно притягивал и выжигал меня. В момент нашего ментального касания в меня ворвался вихрь её воспоминаний: я видел нас в детстве, как мы прячемся от дождя под одним плащом, слышал её смех… Но среди этих теплых картинок всплыло и другое. Резкий спор за праздничным столом. Отец, с горящими глазами, говорит о своих «гипотезах», о странных огнях в лесу. Я, уже будучи следователем, с раздражением отмахиваюсь: «Пап, хватит нести этот бред! Выдумал себе чертовщину и поверил в нее!» Яна, тогда еще подросток, смотрела на нас обоих с испугом. Она обожала отца и верила в его «сказки», но мой авторитет, мой прагматичный скепсис заставляли ее сомневаться. Теперь, после нашей гибели, эта детская травма, это чувство вины за то, что не защитила отца, не поверила ему, вырвалось наружу. Ее желание найти виновных было не просто местью. Это была попытка оправдать отца, доказать, что он был прав, и тем самым исцелить рану, нанесенную моим собственным неверием.
Поздно вечером, когда экран компьютера был единственным источником света в комнате, Яна доставала из ящика стола две фотографии. На одной – улыбающийся отец с рукой на её детском плече. На другой – я в день своего выпуска из академии, серьёзный и гордый. Она смотрела на них по очереди, чувствуя, как разрывается на части. Она была дочерью мечтателя, одержимого тайнами, и сестрой прагматика, верившего только в факты. В её душе десятилетиями шла тихая гражданская война между этими двумя правдами. Теперь, когда обе оказались мертвы, её собственный разум стал полем битвы. Раскрыть правду означало не просто найти убийц, а наконец-то примирить в себе отца и брата, прекратив эту войну, которую они вели при жизни.
Для неё я был не больше, чем сгусток холода в углу комнаты. Но в тот миг, когда она прошептала «Дай знак», лампа над её головой не просто мигнула. Ярко вспыхнули и погасли все индикаторы на зарядных устройствах, с дистанционного щелчком включился телевизор, а стекло в окне задрожало, издав тонкий, звенящий звук.
Яна открыла глаза и с тоской посмотрела в пустоту, но теперь в её взгляде читался не только страх, но и ошеломлённое понимание.
– Ничего, – выдохнула она, но уже без горькой усмешки. – Лишь тень.
На следующее утро я наблюдал за Андреем. Он рылся в своём столе, разбирая груду бумаг, и вдруг его пальцы наткнулись на что-то в потайном отделении, о котором, он был уверен, знал только он. Он вытащил маленький, пожелтевший листок, сложенный вдвое. Конверта не было, но от бумаги исходил слабый, но явственный запах озона, как после грозы. Развернул его – и кровь отхлынула от его лица.
Почерк был моим. Короткая, деловая записка: «Андрей, насчёт дела Коршунова. Надо срочно обсудить. Встреча выглядит подставой. М.»
Проблема была в одной детали. Эту записку он нашёл в своей собственной, всегда запертой тумбочке. И я точно знал – я не писал её. По крайней мере, не после того дня. Но когда Андрей коснулся бумаги, он дёрнулся и отшатнулся, судорожно потирая пальцы – они на секунду онемели и стали ледяными, будто он прикоснулся к трупу.
Андрей медленно поднял голову и обвел взглядом кабинет. Его взгляд был уже не растерянным, а острым, аналитическим. Он поднёс записку к свету, и его зрачки резко сузились. Под строкой «Встреча выглядит подставой» он увидел то, чего не было заметно с первого взгляда – крошечные, едва различимые точки под определёнными буквами. Шифр. Не его уровень, не сейчас.
– Шутки, Марк? – тихо спросил он пустоту. – Или предупреждение?
Память, коварная мразь, подсунула ему не дело, не погоню, не риск. А баню.
Густой, обжигающий пар, пахнущий березовым веником и древесиной. Мы сидели на полках, оба красные, как раки, молча наслаждаясь усталостью и тишиной после тяжелой недели.
– Ладно, признавайся, – хрипло проговорил Андрей, плеснув воды на камни. Шипение заполнило парилку. – Когда уже свихнешься окончательно и сделаешь ей предложение? А то я уже заклад проиграл Петровичу из оперативки.
Я, сидя на полку выше, фыркнул. Пар скрывал мое лицо, но в голосе слышалась улыбка.
– Не торопи события, старик. Всему свое время.
– Да какое еще время? – Андрей провел ладонью по лицу, сметая пот. – Вы уже как два кота на одном стуле вертитесь. Все всё видят. Надоело уже на вас пялиться.
– А ты не пялься, – парировал я. Помолчал. Потом добавил уже беззлобно, почти задумчиво: – Просто… я хочу, чтобы всё было наверняка. Чтобы навсегда.
Больше мы не говорили ни о чем важном. О работе, о футболе, о новых тачках. Обычный мужской треп. Ничего.
И вот теперь, держа в руках эту ледяную записку, Андрей вспоминал именно этот разговор. Слово «наверняка» жгло его. Он вспомнил мое тогдашнее, спокойное упрямство и понял: если я писал «встреча выглядит подставой», значит, у меня были серьезные основания. Его собственная память о моей дотошности, которую он иногда высмеивал, теперь заставляла его отнестись к этой мистической записке со всей серьезностью. Скепсис рухнул не под грузом мистики, а под давлением старой, невысказанной вины. За пять лет до этого, его первый напарник, такой же молодой и горячий, полез в подвал за наркодилером без оглядки. Андрей, тогда ещё зелёный оперативник, на секунду замешкался, проверяя тылы. Этой секунды хватило, чтобы прозвучал выстрел. Он вытащил того парня, но пуля оказалась разрывной. С тех пор Андрей ненавидел хаос и непроверенные данные. Его прагматизм был не врождённым качеством, а шрамом, выжженным на психике. И теперь, глядя на истеричную одержимость Алисы, он видел в ней того самого юного оперативника, лезущего в тёмный подвал. Он не мог допустить этого снова. Он должен был быть тем, кто проверяет тылы, даже если все остальные уже рвутся в бой.
Он скомкал записку, сделал движение, чтобы зашвырнуть её в урну, но остановился. Разгладил листок и спрятал во внутренний карман пиджака. "Галлюцинации. Стресс. Недостаток сна", – твердил он себе. Разум отказывался принимать иное объяснение. Но та часть его сознания, что годами вынюхивала ложь и строчила оперативные сводки, уже вывела жирный заголовок: "СОБЫТИЕ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ В ОФИЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ". И с этим предстояло жить. Память о нашем братстве, о доверии, которое было между нами, оказалась сильнее голого рационализма. Она заставила его сделать выбор – поверить призраку, а не протоколу.
Я не мог ответить. Я лишь смотрел, как еще одна трещина, глубокая и неизлечимая, появляется на стене их привычной реальности.
На следующее утро Андрей подошел к Алисе. Его решение было принято.
– По хозяйке квартиры – полный ноль, – тихо сказал он, чтобы не слышали коллеги. – Но ты была права. Личное дело из архива исчезло. В отделе кадров нет даже фотографии. Как будто ее и не было.
– А родственники? Соседи?
– Соседи говорят, что она жила одна, редко выходила. А родных… будто и не существовало. Кто-то поработал на совесть. Стер целого человека.
– Как и Марка, – чуть слышно прошептала Алиса.
В этот момент их личные, болезненные воспоминания – ее о моих предсмертных намеках, его о нашей бане и таинственной записке – слились в единое целое. Разрозненные фрагменты памяти превратились в оружие. Они больше не были просто скорбящими; они стали сообщниками, объединенными тайным знанием, которое жило не в досье, а в их сердцах и головах.
Когда Андрей ушёл, Алиса, всё ещё находясь под впечатлением от вчерашнего, машинально включила свой компьютер. Система загрузилась, и на несколько секунд экран погас, а затем посреди чёрного поля ярко-зелёными, пиксельными буквами, словно из далёких 90-х, возникла фраза: «ОН СЛЫШИТ ТЕБЯ. ОНИ СЛЫШАТ ТЕБЯ». Сообщение исчезло так же внезапно, как и появилось, сменившись обычным рабочим столом. Алиса замёрла, и по её спине медленно пополз холодный пот. Это было уже не предчувствие. Это был ответный выстрел. Память, которую они пытались использовать как инструмент, сама стала мишенью. Кто-то знал об их внутреннем мире, об их тихих диалогах с призраком, и теперь атаковал их через самое святое – через их мысли.
А в доме Ольги царила тяжёлая, гнетущая тишина. Она не плакала. Она действовала. Разобрала мои старые коробки, которые я оставил у неё «на время». И нашла. Старый потрёпанный дневник, который я вёл в академии. На первый взгляд – ничего особенного. Но её взгляд, привыкший к шифрам и конспирации (она же жена и мать оперативников), уловил нестыковки. В обычных, бытовых записях некоторые слова были подчёркнуты едва заметной точкой. Собранные вместе, они складывались во фразу: «Коршунов боится не тех, кого видит».
Её рука, держащая дневник, дрогнула. Она поняла – я копал слишком глубоко. И кто-то это заметил. И тут ее собственная память нанесла ответный удар. Она вспомнила, как годами отмахивалась от «фантазий» мужа, как призывала меня «быть прагматичнее, не лезть на рожон». Ее материнская и супружеская любовь всегда была окрашена в цвета тревоги и желания оградить нас от опасности.
Ночью, разбирая коробки, она наткнулась на старую школьную тетрадь Марка по литературе. На полях, рядом с анализом «Героя нашего времени», он детским почерком нарисовал маленький истребитель и подписал: «Как папа». В тот момент что-то в груди сжалось с такой невыносимой болью, что ей пришлось сесть. Она всегда считала, что растит следователя, продолжателя династии. А он просто хотел быть похожим на отца. Её строгость, её требования, её вечные упрёки за «недостаточную серьёзность» – всё это было не во благо, а против. Против той самой живой, лёгкой, мальчишеской сути, которую она пыталась выжечь калёным железом долга, думая, что так спасёт.
И теперь, читая мои старые, зашифрованные строки, она с ужасом осознала, что ее прагматизм, ее вера в систему, возможно, лишили нас последнего шанса. Ее память о собственной осторожности превратилась в обвинительный приговор самой себе. И этот «кто-то», судя по всему, был совсем не человеком.
И тут, как вспышка, память выбросила обломок. Я увидел себя за день до… всего. Я стоял перед Алисой у кофемашины, и моё лицо было напряжённым.
– Слушай, насчёт этого старого дела, – говорил я ей, понизив голос. – Тут что-то не сходится. Совсем. Как будто мы видим только верхушку, а под ней…
Я не договорил. Тогда, при жизни, я ещё не знал, насколько глубока кроличья нора. Теперь знал. Но было поздно. Я был лишь эхом, бессильным свидетелем того, как мои близкие начали собирать пазл, центральная часть которого – я сам – была навсегда утеряна. Но теперь, глядя на них, я понимал – они уже не просто искали моих убийц. Их собственная, живая и болезненная память обо мне, друг о друге и о самих себе, стала полем битвы. Одни воспоминания вели их к свету, другие – толкали в пропасть. И Тьма, с которой они вступили в бой, отлично это понимала и била именно по швам, сшитым из прошлого.
Глава 3. Они видят меня. Но это не те, кого я ждал
Потребовалось время, чтобы понять – моё новое существование подчиняется своим, чуждым здравому смыслу, законам. Я был не призраком из страшных сказок, а скорее сгустком воли, застрявшим в реальности, как заноза в теле мира. Если бы Ольга Викторовна увидела меня сейчас, наверное, сказала бы: «Соколов, даже в посмертии нужно соблюдать субординацию и методичку». Теперь же моей задачей было понять устав того измерения, в котором я оказался.
Как-то поздним вечером, когда последние сотрудники уже покинули здание, а в коридорах повисла зыбкая, пульсирующая тишина, я решился на отчаянный шаг. Алиса осталась работать допоздна, её силуэт под абажуром настольной лампы был единственным островком жизни в море мёртвого офисного пространства. Я выбрал момент, когда она, уставшая и притихшая, отложила папку и уставилась в окно на тёмный город. В её глазах читалась такая тоска, такое одиночество, что моё бесплотное естество сжалось от боли, острой и живой, как в те времена, когда у меня ещё было тело, которое могло страдать.
Я устроился в своём старом кресле, на том самом, где когда-то оставлял отпечаток своего веса, и начал сосредотачиваться.
Но это не было простым «пожелал – и появился». Это был мучительный, изнурительный акт творения заново самого себя, оплачиваемый самой сутью того, кем я был.
Сначала – лишь намерение, сжатое в тугой, раскалённый шар в том месте, где когда-то была душа. Потом – боль. Не физическая, ибо тела не было, а нечто худшее: экзистенциальная агония, чувство, будто тебя выворачивают наизнанку, собирая по атомам из разрозненного тумана небытия. Каждая частица моей сущности кричала от чудовищного напряжения, сопротивляясь возвращению в форму, которую сама же и забыла.
И тогда началась расплата.
С первым проблеском моей формы в реальном мире что-то щёлкнуло внутри, как перегоревшая лампочка. Исчезло воспоминание. Не образ, не картинка – а целый пласт ощущений. Запах материнских духов «Красная Москва», который она всегда надевала по праздникам, смешанный с ароматом её пирогов. Он был со мной всегда, даже здесь, в небытии – тёплый, неуловимый фон моего детства. И вот его не стало. На его месте зияла пустота, холодная и беззвучная.
Я заставил себя продолжить, чувствуя, как что-то вроде ледяных мурашек, миллиарды острых иголок, бежит по моему несуществующему позвоночнику, собирая меня, склеивая в подобие фигуры.
Воздух в кабинете зашевелился первым. Не сквозняк, а медленное, тягучее движение, будто пространство само по себе густело. Температура рухнула за несколько секунд – с комнатной до леденящего холода заброшенного склепа. Пыль, кружившая в луче настольной лампы, замерла, а затем тяжело осела на книги и папки.
Алиса сидела, уставясь в одну точку, и сначала её тело среагировало раньше разума. Она инстинктивно обхватила себя за плечи, поёжилась, и губы её посинели. Дыхание превратилось в клубы пара. Потом её взгляд стал остекленевшим – она почувствовала. Не видела еще, но чувствовала кожей. По её рукам побежали мурашки, волосы на затылке медленно поднялись. В ушах у неё начался тонкий, высокий звон.
Я собрался с силами, чтобы обрести голос, и снова – щелчок, обжигающий внутреннюю пустоту. Пропал вкус того первого, горького и тёплого пива, что мы распили с Андреем на крыше общаги после первой же сданной сессии. Исчезло чувство братского плеча, единения, той бесшабашной радости, что сближает навсегда. Ещё один кусочек моего «я» был стёрт, как рисунок мелом на асфальте под дождём.
И только тогда, сквозь эту физиологическую бурю, сквозь слезу, выступившую на глазах от холода и непонятного страха, она разглядела.
В старом моём кресле воздух дрожал, как над раскалённым асфальтом. Внутри этой дрожи клубилась, обретая смутные очертания, бледная субстанция. Это не была тень и не был свет. Это было нечто вроде тумана, но плотного, непрозрачного, с трудом удерживающего человеческие черты. Лицо угадывалось лишь как намёк – впадины на месте глаз, щель рта. Я был похож на незаконченный эскиз, на грубый слепок с того, кем когда-то был.
Она смотрела, не дыша, и я видел, как в её глазах читался не только ужас, но и та самая, дикая, почти животная надежда, ради которой я и решился на эту пытку.
– Марк?.. – дрогнул её голос, сорвавшийся на шёпот. Звук был таким тихим, что его едва не поглотило гулкое безмолвие комнаты.
Мне пришлось собрать все силы, все остатки воли, которые не съела боль материализации, чтобы просто прошептать ответ. Говорить в моём состоянии оказалось сложнее всего. Каждое слово было похоже на камень, который я выталкивал из небытия. И за каждое я платил.
– Папка… – выдохнул я, и мой голос прозвучал как скрип ржавой петли в пустом доме. – Синяя. На столе.
Третий щелчок. Исчезло воспоминание о том, как пахнет дождь на горячем асфальте в нашем дворе, где мы гоняли в футбол до темноты. Обычный, ничем не примечательный момент. Теперь – выжженное пятно.
Она послушно, движением лунатика, взяла папку с делом Коршунова. В её движениях сквозила та осторожность, с которой имеешь дело с чем-то хрупким, необъяснимым и опасным. Её пальцы чуть тряслись.
– Что с тобой? Почему ты здесь? – её голос был полон смятения.
– Не помню, как умер, – признался я честно, чувствуя, как моя форма начинает плыть, расползаться по краям. Каждое слово отдавалось новой внутренней пустотой. Ушло ощущение от первой полученной зарплаты – тяжести купюр в кармане и щемящего чувства взрослой самостоятельности. – Но уверен… это связано с делом. Они что-то скрывают.
