Всё, о чем я не хотел знать
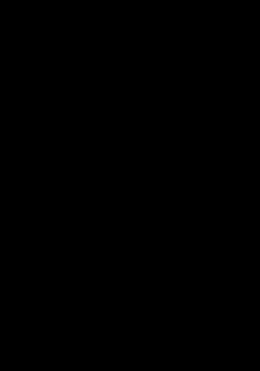
ПРОЛОГ
Я не хочу рассказывать вам эту историю. Четыре года я хранил ее внутри себя. Она может показаться вам выдуманной. Пусть так и будет.
Я не хочу вспоминать то, что произошло со мной. Постоянные походы к психотерапевтам ни к чему не привели. Мой давний друг (единственный, кто не отвернулся от меня в моменты моего лечения и который не считал меня сумасшедшим) посоветовал мне изложить все в компьютер и передать ему. Нет ни одной лучшей методики, чем та, которая позволяет человеку остаться наедине со своими мыслями, говорил он. Он заведовал журналом «Мистика всегда с нами» и обещал опубликовать мой рассказ. Его, скорее всего, будут оценивать с художественной точки зрения, и меня теперь это уже не огорчает. Безденежье, которое преследует меня после сокращения с работы, вынуждает использовать все доступные методы заработка. Долг за квартплату у меня нехилый.
Но говорить обо всем этом мне не хочется. Но придется. Этим я бросаю вызов самому себе, своей сущности. Это мой первый и последний рассказ.
ГЛАВА I
Пасмурным июньским утром я получил письмо:
«Дорогой мистер Новович!
Я долго думал, писать ли вам это письмо, но желание выполнить последнюю волю моего горячо любимого друга – вашего отца – перевесило собственные прерогативы и гордость. Вы, вероятно, меня не помните; когда вы уехали из Даниловграда – города, в котором прошло ваше детство и отрочество, – я часто захаживал к вам на изумительный вишневый пирог, который готовила ваша мама каждую пятницу. Мы с вашим отцом обсуждали рабочие вопросы, а вы в это время прятались у себя в комнате, по-видимому, играя в приставку. Кстати, а кто вам ее подарил? Это был я. Вспомнили? Это был славный девяносто третий год.
Ваш отец все свои оставшиеся годы с момента разлуки с вами и вашей матерью не мог найти себе места. Я знаю, это звучит слишком наигранно и вы вправе тотчас же в клочья разорвать это письмо, но если бы я – человек, уважающий себя – смог преступить через грань морали и взять на душу грех, называемый ложью, то пусть я буду отвечать перед Богом после смерти и не буду я молить о прощении.
Какой он был человек! Последние пять лет он играл в труппе театра, и весьма успешно. София, Белград, Гамбург, Вена, Турин – эти города были покорены этой славной труппой. А какие спектакли они ставили! «Вишневый сад» Чехова, «Кентервильское привидение» Уайльда, «На дне» Горького, «Будденброки» Манна, «Ночь перед рождеством» Гоголя… И список можно продолжать!
Семнадцать лет! Целых семнадцать лет он постоянно твердил мне о вас; а теперь, когда его не стало, я считаю своим долгом выполнить его просьбу и связаться с вами по вопросу передачи заверенного вам его наследства.
Как, кстати, ваша мама? Она была прекрасной женщиной! Я помню ее.
Также немаловажным пунктом хочу заметить, что по удачному (для вас) стечению обстоятельств, я, являясь помимо того, лучшим другом вашего ныне покоившегося отца, еще и занимаю должность единственного нотариуса нашего городка.
В завершении своего письма хочу сказать, что если вы решитесь приезжать – захватите с собой зонт – у нас обещают недельные дожди.
Свяжитесь со мной по электронному адресу, написанному на обратной стороне листа.
С уважением,
Михаил Балич»
Тяжелым вздохом я наполнил свои легкие воздухом, и лицо мое приняло томное выражение. Я помолчал немного, держа шероховатый лист бумаги в руке и внутри у меня ощущалось то состояние, когда ты не знаешь, как тебе поступать, когда перед тобою захлопывают дверь в магазине, куда ты пришел голодный за… буханкой хлеба. И вроде бы стол уже накрыт, но хлеба не хватает. Как тебе быть: дать волю гневу и поругаться, либо от отчаяния ухватить голову двумя руками, опуститься на корточки и упасть глазами в землю? Я положил письмо на тумбочку и медленно опустился на мягкое бескаркасное кресло.
И кто такой, кстати, этот Михаил?
Вечером я еще раз перечитал письмо и остался в весьма странном ощущении: мне казалось, будто автор сознательно что-то недоговаривает; он не описал ни обстоятельства смерти моего отца, ни себя, не указал, какое именно наследство причитается мне. Впрочем, я слишком требователен?!
На следующий день я написал ответ.
«Здравствуйте, Михаил!
Ваше письмо было доставлено мне вчера утром, и, признаюсь, выбило меня из колеи на весь день…
Прошло, конечно, много лет, и я могу многого не помнить, но память моя не так уж и замшела и, насколько мне известно из немногочисленных рассказов моей матери (а она о нем не очень любила говорить), отец мой был интроверт и не имел друзей, разве что пару-тройку приятелей, с которыми он побывал, пожалуй, во всех кабаках Даниловграда. И нотариусов у него в друзьях точно не было, а были одни лишь забулдыги и пьяницы (вы ведь не такой?).
Я не могу читать без напряжения скул ваши строки о душевном беспокойстве за судьбу моей матери и меня. Что вы такое говорите? Я очень надеюсь, что вы несете ответственность за свои слова и сможете подтвердить их мне обоснованными аргументами.
Мой отец всю мою жизнь был воплощением полного отсутствия! Вы знаете, многие моменты из моих детских субъективных наблюдений до сих пор живо стоят перед глазами: я помню, когда мы с мальчишками играли во дворе (играли с самого утра и до захода солнца), были ситуации, когда их отцы возвращались с работы домой, – и эти мальчишки, словно обезумевшие, бросали все и с криками бежали к ним. В эти моменты на моих глазах выступали слезы, и я отворачивался или делал вид, что не обращаю внимания. Так продолжалось очень долго, пока я собственноручно, хладнокровно не задушил в себе эту бессмысленную, разрушающую сентиментальность. И с этого момента я стал ненавидеть его. Да, именно – ненавидеть! Я не могу простить ему слезы моей матери, ее унижение, ее моральную боль. И даже теперь, когда он лежит под землей, я ненавижу его.
Не сочтите за бестактность, но отец мой ни разу не побывал в театре за все мое проживание в Даниловграде, ему это просто неинтересно! А вы говорите, что он выступал там в качестве актера! Да бросьте, Михаил! Он же обыватель! Если он и выступал там, то только для того, чтобы был повод приударить за очередной самкой! Простая, как монета, фривольность. И я не верю в его талант. Зрители не совсем безвкусны, чтобы не отличить игру Мастера от проходимца. Ах! Как же я мог забыть! Ввиду его сущности, я могу предположить причину, корень его «успеха»… уж ни клакёры ли сидели в зрителях?
В завершении своего письма я прошу вас прислать мне копии тех бумаг для моего ознакомления, которые необходимы для совершения данной юридической операции.
Ник Новович».
«Ник!
Я очень рад, что вы дали свое согласие, – это много говорит о вас как о личности. В свою очередь, прошу простить меня за мою немногословность, ибо не люблю болтать попусту, а люблю лаконичность.
Не волнуйтесь, все интересующее вас я непременно поведаю при личной встрече!
Вы упомянули слово “обыватель”. Интересно, что же оно значит с вашей точки зрения? Я был бы не против поговорить об этом при нашей встрече! Все признаки “обывателя” в вашем отце, к счастью, отсутствовали.
Вероятно, вас интересует вопрос: как добраться? Так. Вы приземляетесь в аэропорту Подгорицы, там вас встретит мой садовник Богдан. У аэропорта есть кафе “Десетом Росе Гарден” (“Сад десятой розы”, по-нашему); стойте там, он вас увидит».
Не знаю что, но моя симпатия к авантюрам взяла верх. Я известил маму, что еду на неделю по работе в Гамбург, а сам взял недельный отпуск за свой счет и купил билеты. Через два дня я собрал все имеющиеся у себя документы вылетел в Черногорию первым рейсом.
ГЛАВА 2
Парень в зеленой кепке быстро катил трап в мое направление. Прилетели.
Новый, свежий, туманный, резкий черногорский воздух чуть не свалил меня с ног. В сознании моем начали всплывать картинки прошлых лет – эта местность, и я невольно улыбнулся. Я бы хотел сравнить их… но вспомнить все отчетливо не представляется возможным. Может быть, это и к лучшему.
Я зашел в здание аэропорта – огромное, красивое, c небесного цвета бамбуковой крышей, высокой аркой и залитым солнечным светом просторным залом. Искать глазами садовника Богдана было бессмысленно – в переписке я допустил оплошность: совершенно не поинтересовался какими-то формальностями относительно того, как можно нам будет узнать друг друга. У аэропорта стояло несколько автобусов и минивэнов. Как оказалось, практически все пассажиры моего самолета – туристы. Бесконечная толпа спешила занять места в автобусах (бедные, без них бы ведь уехали!). Стояла жара. Окна были закрыты. С минивэнами лучше – все окна открыты, но ощущение какой-то близости из-за маленького размера машины не может не смущать. А самолеты все прилетали, и новые туристы из разных стран направлялись кто куда. Кто-то к морю; а кто-то – посмотреть город.
Я оглядел глазами все вокруг. Найти кафе не составило труда, ведь оно всего одно. Но никого рядом с ним не было. Более – кафе пустовало. И это ли в такое время! Кивком головы поприветствовав усатого господина в костюме, я попытался заказать себе чашку чая, но старания мои потерпели фиаско. Хозяин кафе, или кто он там, не знает русский язык. Но почему-то понял, что я из России. Но буквально через несколько секунд, когда я вновь огляделся по сторонам, и снова никого не увидев, господин в костюме уже заваривал мне чай – черный пакетик плавно топился в кипятке, а затем выжимался его толстыми пальцами. Той же рукой он сделал мне жест, который я не понял: он повертел кистью. А потом пальцем показал на прозрачную небольшую пластиковую банку, доверху усыпанную белыми маленькими тоненькими пакетиками; по-видимому – сахаром. На банке черным маркером было написано: «Шећер. Бесплатно». Я отрицательно закачал головой, показывая, тем самым, что отказываюсь от сахара, за что был удостоен удивленно-тяжелого взгляда. Вообще, к удивленным взглядам людей, узнающих, что я не переношу сахар в чае или кофе, я привык.
– Ви – Ник? – послышался сзади резкий мужской баритон.
Я увидел перед собой высокого, под два метра, худощавого мужчину лет тридцати с вьющимися до плеч волосами, убранными в хвост. Кожа его была цвета копченой колбасы. Длинная пыльная серая майка, размера на три меньше его характеристик, висела на нем как-то нелепо и неуклюже, а шорты в белый горошек были как будто приклеены. На ногах – шлепанцы, надетые на коричневый носок. Глаза его были искренни и в ожидании смотрели на меня.
– Я – Богдан, – сказал он и протянул свою длинную, как у богомола, руку.
Если бы я был высокомерен и чванлив, я бы и не подумал здороваться с садовником, у которого руки и одежда пахли земляной сыростью и под ногтями спокойно располагалась грязь. Это упрек себе или похвала?..
– Ник. Можете взять мои сумки?
Садовник повиновался, и через несколько минут я уже сидел в его огненно-рыжем Фиат Регата. Багажник машины оказался забит мешками с землей, и мне пришлось разместить свои вещи сзади, на сидениях, поверх пластиковых бутылок, автомобильной карты Черногории (на русском языке), эротических журналах, тряпках, емкостях машинного масла и еще чем-то, чего разглядеть не удалось. В салоне пахло сырой рыбой и стоял устойчивый запах пластика. Мои лакированные туфли вмиг стали пыльными из-за обилия песка на коврике пола. На секунду я поймал себя на мысли, что этот Богдан напоминает мне современного черногорского Плюшкина. Единственное, впечатление скупого он не производил.
– Мища очень ждеть вас! – сказал он, поворачивая ключ зажигания… – Ну, в Колашинь!
И мы поехали.
Удивительно – столько лет я пытался забыть про эту страну, утопить ее, убить в своем сознании; но стоило только ступить на порог этой земли, как я тотчас, в тот же миг невольно стал пленником ее магии, ее… метафизики, что ли… Это ли не удивительно!
– Право! Право! – кричал Богдан.
– Какое еще право? – удивился я.
Он ответил на сербском. Я ничего не понял.
– Право!
– Вы кричите «браво» или что-то хотите сказать о моем праве на что-то?
– Я едь прямо, Ник! Все хоросе!
Право – это значит прямо, черт бы его побрал. Полагаю, он хочет развеселить меня после перелета? Шуток Богдана, которых было достаточно, я не понимал. Мне оставалось лишь только заставлять себя устало улыбаться, заключить юридическую операцию и улететь домой.
Далее, по совсем неожиданному для меня сценарию, Богдан, видимо, осознав, что его шутки совсем не влияют на меня, переключился на себя и достал из бардачка, заваленного пакетами, кассету. Это оказался… сербский реп! Право, он так же отвратителен, как и русский. Богдан подпевал и стучал в такт пальцами по пластиковому рулю, на котором была наклейка эмблемы «Мерседеса». Пытаясь абстрагироваться, я достал телефон, вставил наушники, включил свою музыку и, поудобнее усевшись на жестком изодранном сидении, уставился в окно…
Я ехал по красивой Черногории; дорога, состоявшая из частых подъемов и спусков, вела меня побегом каштана, ярким солнцем и ясным голубым небом. Затем, проехав несколько маленьких деревень, численность которых частенько могла не превышать даже и трех домов, я оказался на пустой дороге с окружающими меня плато и удивительнейшей красотой кристально чистых девственных озер, цвет которых казался голубее и даже отчетливее цвета неба. Плоды граната и инжира спели на обочинах дорог. Мы оставляли за собой многочисленные туннели – дырки в скалах – которых здесь множество. Увидев яблоню, я попросил его остановиться и нарвал штук двадцать. Кучка туристов, стоявшая на хребте, что-то кричала мне и махала рукой. Недалеко журчала река. Высокие ели стояли стеной; рельсы железной дороги уходили в эту стену и теряли след, растворяясь в далекой зеленой арке. Полонины манили своей бесконечностью, своей красотой, мощью и жизнью. Кизил поспевал к осени. Я сел обратно в машину, и мы поехали дальше.
Грунтовка, уходящая в лес, вывела нас на отдельный домик со своим пастбищем. Богдан остановился, чтобы покурить. Он, наверное, просто не хотел курить за рулем. И из-за этого нужно было сворачивать на проселочную дорогу!?
Окурок потушен. Мы развернулись и снова выехали на дорогу. Ощущения мои, когда мы ехали по каньону, не передать словами; ибо прекрасное выше слов. Слева – скалистая стена; справа – большой, резкий спуск к реке с кристально чистой прозрачной водой, на которой едва заметна точка плывущих рафтеров. И бесподобный загадочный лес. А выше – небо.
Мы проехали монастырь. Мы проехали несколько селений. Мосты, красивые мосты, под которым проходили реки. Мы уже едем около часа. А мне кажется, что я только что захлопнул дверь этой ржавой тарантайки! Я попросил у Богдана воды. Он понял с третьего раза, что я имею в виду и сделал свой рэп потише. У себя под сиденьем он вытащил мятую пластиковую бутылку, в которой осталось воды только на дне. Теплой.
Спасибо, пей сам.
Меня мучила жажда, и я ждал скорейшего приезда к Михаилу.
Нас обгоняли велосипедисты – у них сейчас сезон, или как он там называется.
Нас обгоняли автобусы с туристами. Некоторые пассажиры вели себя очень вызывающе: высовывались по пояс в окна; вертели руками; лысые парни в черных очках зачем-то пытались нас спровоцировать, показывая средний палец, а затем и вовсе кинули пустую пластиковую бутылку нам в ветровое окно; кричали, высунув голову в люк и махали какой-то тряпкой. Я прищурился: это был разноцветный флаг. Но причастность его к какой-то стране мне определить не удалось – солнце было уж слишком яркое.
И зачем я поехал на один из самых популярных мест в мире в самое горячее туристическое время?..
Богдан внимательно посмотрел через лобовое стекло, длинная трещина которого располагалась как раз в верхней части и отчасти мешала обзору, на небо, то ли пытаясь показать мне свою сдержанность, то ли уже привык встречать на дороге идиотов-туристов.
– Один один дня! Се сухо!
– Что, простите?
Он замахал рукой, пытаясь что-то сказать. Показал два пальца, затем один. Глупая была затея.
«Один один день – что это? Два дня? Нет, криптоаналитик из меня никакой».
– Не было доща двадцать одинь день!
Через минут десять я обратил внимание на следующее: солнце тускнело, и яркий, теплый свет сменялся темным, пасмурным. Восточный ветер тащил серые густые тучи в нашу сторону. Небо становилось чернее, и резко ухудшающаяся погода нагнетала томную обстановку. Воздух свежел по минутам. Темная туча залила полнеба. Ветер нарастал с такой силой и влетал в наши окна, что косичка Богдана перелетела на правое плечо. Богдан медленно, со скрежетом, вертел ручку – закрывал окно – и каждый раз, когда ее кончик опускался вниз, он слегка приподымался, чтобы освободить место для следующего круга своей длинной руки. Но ручка не поворачивалась, чтоб ее… Точнее, поворачивалась, но до определенного момента: когда оставалось совсем чуть-чуть для полностью закрытого окна – она встала. Пришлось ехать с не до конца закрытым окном. Эта машина была не его размера. И не моей ауры.
Сверкнуло высоко на горизонте. Еще молния. Темная стена, по-видимому, беспрекословно шла на нас. И пришла. Начался дождь, мгновенно перешедший в ливень. Крупные капли барабанили по лобовому стеклу, которое (надеюсь, мне это все-таки показалось) вот-вот упадет на нас. Скотч по краям стекла пропускал воду (это мне не показалось), и она собиралась на запыленной приборной панели.
Молния сверкнула ярче, и сверху донесся грозный рев неба. Нам оставалась пара километров. Люди в деревнях бежали в свои жилища, накрыв голову пакетами. А одна женщина, торговавшая сливами у дороги, высыпала все содержимое своей корзины прямо на землю, накрыла ею голову и побежала в сторону мелкой линии домов. Она была похожа на Дарта Вейдера. Ее темное платье развивалось по ветру.
Когда мы подъезжали к городу, – а этому способствовали уже видневшиеся серые башни, – я глубоко вздохнул и на секунду закрыл глаза. Сердце мое стучало от взявшейся ниоткуда внутренней свободе. Казалось, прошлое снова вселилось в меня гремучей змеею, сдавило шею и начало душить. Но удушье это было божественно-приятным; и яд, который можно назвать метафорой этой внутренней свободы, проник в меня, отравил кровь и заставил ее течь по моим венам еще быстрее. Иногда человек бежит от прошлого, надеясь, что если он спрячется в темной коробочке, оно не достанет его; но как быть, когда прошлое может оказаться этой темнотою?..
Город встречал меня жутким ливнем. Солнце спряталось и не хотело выходить и, казалось, никакая приманка не вызволит его оттуда. Через тьму практически невозможно было разглядеть улицы; дальше метров двадцати наблюдалась пустота. «Двадцать минут по городу – и мы дома» – пролепетал Богдан, и я только потом понял, что сказал он это без акцента. «Ну когда они уже кончатся?! Десять, двадцать, сорок, час! Невыносимо!» Мой пот со лба, образовавшийся еще с жары, высох, и теперь у меня на лбу что-то вроде скопления пыли и пота. Очень неприятное ощущение. Тело мое также высохло от пота, и теперь ждало принятия душа.
Я даже и не заметил, как наступил вечер. В принципе, та темнота, что окутывала нас, говорила об этом, но вечер, который наступает всегда сам собой, сегодня был запасным, суфлером, и место его занимал другой король – ливень. Восходящая молодая луна узким серым серпом вырисовывалась на небе. Богдан намекнул мне, что ехать осталось совсем немного. Сколько этих «немного» я уже услышал?! Я посмотрел назад и увидел, как что-то большое, темно-серое склонилось над всем тем, что совсем недавно поражало меня своим великолепием и радужной красотою. Оно своим брюхом уничтожало и закрывало все живое и оставляло после себя лишь бесконечную пустоту. Ливень стучал пулеметом.
В машине все заметнее чувствовался запах дождя. Он перебивал обосновавшийся здесь запах рыбы, и мне это обстоятельство казалось единственно радостным.
Мы остановились. Я заметил, как по дорожке к нам приближался какой-то силуэт, напоминающий женщину. Это оказалась Марта – приветливая, открытая женщина с овальным лицом и добрыми глубоко посаженными глазами. Она бежала и махала нам, придерживая одной рукой свою манишку.
– Ну вот, наконец-то! Я уже заждалась вас! Ник, добро вам пожаловать! Давно не были в Черногории? Ах, этот дождь! Если бы не он, вы бы приехали раньше и пирожки бы не остыли.
Она дала мне большой зонт с изображением роз и велела Богдану забрать мой багаж и отнести его в дом. И поторапливаться, а то мои вещи промокнут. Богдан, естественно, повиновался и, дождавшись затылка Марты, оскалил лицо и скривил его так, будто во рту у него находился свежий лимон. Капли воды били мне по глазам, стоило только мне посмотреть вверх или перед собой; пришлось идти, склонив голову вниз. Но не заметить, к чему я приближаюсь, было нельзя – двухэтажный кирпичный дом с серой кровлей и высокой металлической дверной аркой с выпирающими львами на окнах производил на меня впечатление несколько обыденное, въевшееся скукой, равнодушное. Он стоял последним в цепочке домов. По двору бегали декоративные куры Брама.
Дождь стучал по кровле, и вода ровными волнами стекала на газон.
– Миша скоро будет! Вы располагайтесь! Богдан, унеси вещи Ника на второй этаж, в кладовую. Там первые три полочки свободны как раз для багажа нашего далекого друга, – сказала Марта и приобняла меня за шею, – ну, точнее сказать, уже не такого далекого.
Я улыбнулся. Я был вынужден улыбнуться.
Она взяла мое пальто, унесла ботинки и провела меня через длинный коридор с мягким малиновым светом и коричневым ламинатом.
– Проходите на кухню… Пойдемте… Ах, как же мне обидно, что пирожки уже остыли! В России любят пирожки? – спросила она, надевая кухонные рукавицы.
Я не до конца расслышал последнюю фразу; она повторила ее, убавляя громко работающий телевизор, навязчивый звук которого я услышал еще в коридоре.
– Пирожочки, наверно, и в России любят? Что я говорю! В России просто обязаны их любить!
– Да, конечно любят. Но я их не очень часто ем.
От нервозности я потирал запотевшие ладони.
– Да я и не сомневалась! В России любят деньги, власть и пирожки.
Тут Богдан принес мне махровое полотенце, чтобы я смог вытереть голову.
– Ой, ой! Вот старая кляча! Забыла совсем! Ник, простите вы меня уж! Я совсем не подумала о вашей голове. Вы ведь промокли до нитки! Ну дура-то, а! Да и вы не сказали! Я тут завозилась с пирожками, да с ужином, все из головы повылетало! Ой, боже ж ты мой…
– Все в порядке. У меня не так много волос, – сказал я и заметил нахмурившееся лицо Богдана, который, видимо, понял это на свой счет, и ушел. Я вовсе не пытался задеть его. – Ваши куры совсем не боятся дождя: бегают, как ни в чем не бывало.
