На заре российских систем рукопашного боя
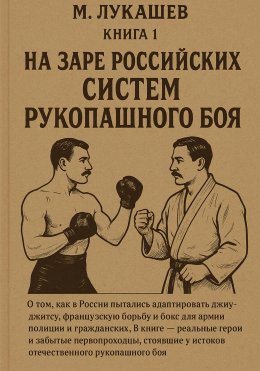
От автора.
Как только не называли очень непростое и многоликое минувшее XX столетие: век электричества, радио, авиации… Телевизионное, атомное, компьютерное, космическое столетие. Любой из этого пышного букета эпитетов является совершенно справедливым. Но я бы добавил еще один: эпоха небывалого увлечения боевыми искусствами!
Ведь еще на заре века, когда не успели отшуметь торжества встречи нового, XX столетия, вспыхнула искорка любопытства к японскому джиу-джитсу. И всего лишь за несколько лет этот слабенький огонек уже забушевал буйным пожаром, опалив пламенем неудержимого интереса сердца людей во всем цивилизованном мире. Это был глобальный и невероятно шумный триумф экзотической восточной системы, «таинственной и неодолимо всемогущей».
И хотя пожар этот вскоре заметно приугас, но всего лишь для того, чтобы в середине века, после Второй Мировой войны, вспыхнуть с новой, неудержимой силой и продолжать бушевать в наши дни – уже в третьем тысячелетии. Да так, что былое триумфальное шествие джиу-джитсу кажется сегодня всего лишь скромненькой прелюдией к нынешнему глобальному всевластию восточных единоборств. Вдогонку за невероятно популярным дзюдо в Европу и Америку хлынули каратэ, ушу, айкидо тхэквондо и прочие боевые искусства. А уже эти «чужеземцы» пробудили у нас вполне естественный интерес и к своему собственному боевому наследию, завещанному многими поколениями героических предков, но, увы, уже сильно подзабытому. Вот здесь-то и было совершенно закономерно востребовано необходимое историческое обоснование, и начались неизбежные несуразности. Если писать о восточных пришельцах можно было, всего лишь пересказывая переводы зарубежных публикаций, то в отношении отечественных систем такой облегченный способ демонстрации своей «эрудиции» никак не «срабатывал». Непосильным оказался не только профессиональный анализ, но даже просто установление элементарных сведений о возникновении этих систем и об их создателях.
Дело в том, что никаких специальных исследований по данной тематике никогда прежде не велось. Случайные, отрывочные сведения, приводившиеся иногда в предисловиях иных старых руководств, были крайне скудны и нередко противоречивы. Даже известные специалисты, которые затрагивали эту тему, лежавшую на обочине их главных, технико-тактических интересов, впадали в серьезные заблуждения. В результате одни из систем знали у нас лишь по названию, другие оказались прочно забыты и вообще оставались неизвестными.
Густо замешанная на крови политическая конъюнктура зачеркнула и работу, и фамилии нескольких репрессированных в тридцатые годы одаренных авторов боевых систем. Очень мешал гриф секретности, закрывавший основные материалы. А некоторые недобросовестные и корыстно заинтересованные лица намеренно вводили в заблуждение читателей и препятствовали установлению подлинных фактов.
Так и пришлось новоявленным летописцам рукопашного боя надеяться лишь на свои скромные силы. Чего только здесь не было: и беспочвенные догадки, и добросовестное заблуждение, и ложь из благих побуждений, и явное корыстно-спекулятивное вранье! Уж очень много появилось излишне самоуверенных «знатоков» явно коммерческого толка!
Публикация исторических «трактатов» стала не только престижным, но и весьма прибыльным делом. Самозванные «историки»-дилетанты не покладая рук трудились, удовлетворяя огромный интерес молодежи к этой почти неизвестной сфере нашей истории. И совсем не требовались для этих скоро спелых «ненаучно-фантастических» откровений ни скрупулезные «археологические раскопки» в архивах и книгохранилищах, ни иные какие-либо обременительные затраты времени и умственной энергии.
Можно было бы подробно и документально перечислить все то бесчисленное множество невежественных ошибок и намеренных подтасовок, которыми успели «накормить» доверчивых читателей наши специалисты коммерчески-боевых искусств за последнее уж очень печальное и позорное десятилетие. Но это потребовало бы целого тома справочника, который просто-напросто не вместился бы в эту книгу. Поэтому о наиболее существенных и распространенных заблуждениях и вредоносных фальсификациях я скажу непосредственно в соответствующих главах книги. А здесь отмечу лишь «особо отличившихся» «героев» нашего рыночноправового времени, свободного от совести и независимого от закона, которые рекордным количеством своих сомнительных публикаций особенно успешно засоряли мозги доверчивых читателей.
Среди всего обилия «творений» минского русофоба А. Тараса, хозяина недавно «почившего» журнала «Кэмпо», яркой звездой горит энциклопедический справочник «Боевые искусства» (Минск, 1996, с. 623). В нем старательно доказывается, вопреки общепризнанному отечественному, мнимое превосходство британской пехоты в штыковом бою. В качестве доказательства «энциклопедист» ссылается при этом на подвиги сынов Альбиона в Битве народов под Лейпцигом, в которой, как нас учили еще в неполной средней школе, англичане… вообще не участвовали. (Не правда ли, остроумная аллюзия старого анекдота, в котором уже надоевшего «боксера-заочника» сменили «заочные штыковые бойцы»?)
Доктор исторических наук, профессор, Генеральный секретарь Международной федерации шаолиньского ушу, обладатель восьмого дэна по кунфу А.А. Маслов, обличая массовое халтурно-плагиаторское поветрие, в качестве наиболее «яркого» образца этого «жанра» прямо назвал вышеупомянутое «творение», отштампованное уже третьим изданием: «Такова работа А.Е. Тараса, по сути, прямой плагиат. Разные части его «Энциклопедии» списывались с различных и зачастую не самых достоверных источников, поэтому порой они полностью противоречат друг другу» (Энциклопедия восточных боевых искусств. Т.1. Традиции и тайны китайского ушу. М., «Гала пресс», с. 15-16)…
А весьма плодовитый «сенсей» А. Медведев умудрился издать толстенный пятисотстраничный том «Как дрались (?! – М.Л.) в НКВД», наивно не ведая даже о существовании трех засекреченных руководств В.А. Спиридонова и руководства В.П. Волкова, по которым только и обучали рукопашному бою в этом ведомстве. Зато в качестве компенсации очень подробно поведал о содержании общедоступных армейских наставлений по преодолению препятствий, метанию гранат, штыковому бою и прочем.
Харьковчанин Г. Панченко совершенно безнаказанно оклеветал отличного специалиста тридцатых годов Н. Н. Ознобишина, облыжно обвинив в том, что он поначалу успешно обучал агентов царской охранки, а затем умело «перекрасился» и бросился «наставлять агентов тайной полиции уже советского образца…».
Я уже не говорю о публикациях, посвященных В.А. Спиридонову и В.С. Ощепкову, с которыми еще 40 лет назад мне довелось познакомить читателей. Вполне естественно, что материалы, только что введенные в научно-спортивный оборот, многократно пересказывались самыми различными авторами. Но, увы, делалось это с неистребимой неряшливостью, перевиранием фактов и даже высосанной из пальца «отсебятиной». Даже «Телестадион» программы ТВЦ удивил миллионы телезрителей фантастическим рассказом о некоем «Иване Спиридонове», который якобы еще в дореволюционные годы создал приемы самозащиты. Встречал я в прессе и «Владимира Спиридонова».
Последним, кто «порадовал» меня безграмотным пересказом на уровне школьного двоечника, стал С. Иванов-Катанский в двух своих абсолютно идентичных книгах, но со спекулятивно разными названиями: «Техника борьбы в одежде» (М., «Фаир-пресс», 2000) и «Джиу-джитсу. Базовая техника борьбы в одежде» (М., «Фаир-пресс», 2002). Сомнительное «историческое» повествование этого «ученого мужа» (в 2000-м году кандидата, а в 2002м – уже доктора наук) назойливо пестрит моими закавыченными и раскавыченными цитатами!..
И все это в то самое время, когда целые пласты истории нашего рукопашного боя продолжали оставаться в полной безвестности! Точно так же, как славные дела и даже сами имена его создателей: А. Демерта, И. В. Лебедева, И. Л. Солоневича, Г. Калачева, И. В. Васильева, В. В. Сидорова, А. М. Ларионова, И. Г. Маркотенко, В. Г. Кузовлева, В. П. Волкова, Н. И. Симкина, Г.Н. Звягинцева, не говоря уже о таинственном, прямо-таки «мистическом» немце Эрихе Ране, которого целых три десятилетия упорно именовали не иначе как «А. Буценко», и многих, многих других. Издавна остается незаполненной, все еще пустует эта существенно важная ниша. А ведь знание о былых боевых системах – это не просто необходимый элемент профессиональной культуры, но еще и гарантия того, что современные специалисты будут избавлены от грустновато-смешной необходимости иной раз изобретать тот самый велосипед, который еще когда-то давным-давно уже лихо пылил на наших дорогах!
Как это ни печально, но за последнее нестабильное десятилетие к истории рукопашного боя успело сложиться совершенно незаслуженное, несерьезное отношение, как к чему-то явно третьестепенному и не слишком нужному. И, как это ни странно, приходится доказывать, что боевые искусства наших предков – это неотъемлемая часть национальной культуры. Конкретная историческая дисциплина, а вовсе не одно из направлений частнопредпринимательской деятельности отдельных доброхотов. Деятельности, которая принесла печальную необходимость не столько отыскивать и исследовать новые сведения, сколько помогать читателям отсеивать добросовестные и недобросовестные заблуждения некоторых обильно публиковавшихся авторов.
Почти полное отсутствие полноценных публикаций по истории отечественных боевых искусств провоцирует ошибки даже в самых капитальных и авторитетных наших справочных изданиях, которые вынуждены черпать исходные сведения по данной теме из многочисленных, но заведомо мутных источников. Так, давно и хорошо известное не только у нас, но и за рубежом научное издательство «Большая российская энциклопедия» в год своего 75-летнего юбилея выпустило «самое полное и новейшее справочно-энциклопедическое издание последнего десятилетия» – «Новый энциклопедическим словарь», из которого можно узнать, что еще с 1980 года борьба самбо… входит в программу Олимпийских игр!!!
В следующем, 2001 году увидел свет «Популярный энциклопедический словарь» того же известнейшего издательства, не только повторивший эту скандальную ошибку, но добавивший к ней и еще одну. Автору соответствующей дефиниции, который утверждает, что дзюдо практикуется «в СССР с качала 1960-х гг.», осталось неизвестным, что
Ощепков начал преподавать эту японскую борьбу в Советском Союзе еще в 20-30-х годах. В связи с этим Федерации борьбы самбо пришлось даже обращаться к руководству издательства с протестующим письмом!
На этом фоне особенно приятно констатировать, что в Российском государственном университете физической культуры данная дисциплина поставлена на строго научную основу, и там уже была успешно защищена не одна диссертация по тематике рукопашного боя.
А вот бесшабашно халтурные и откровенно невежественные измышления некоторых авторов, которым не хватает не только профессиональной, но зачастую и общей культуры, просто невозможно воспринимать иначе, как личное оскорбление. Уж очень много времени и сил довелось мне посвятить воссозданию подлинной истории отечественных боевых искусств, очищенной от глубоко въевшихся в нее несуразностей и фальсификата.
Одним из результатов этой работы стала настоящая серия книг. Насколько мне известно, подобного рода публикаций еще не издавалось ни у нас, ни за рубежом. В ней показаны все системы рукопашного боя, практиковавшиеся в России в первой половине XX века. С профессиональной точки зрения анализируются особенности каждой из них, разбираются отдельные приемы. Рассматривается процесс создания системы, особенности конструирования, ее истоки и исходные элементы, а также дальнейшее развитие, совершенствование, практическое использование и выросшие из нее школы.
Существенной частью темы является вопрос о преемственности, заимствовании, творческой переработке и влиянии более ранних систем на последующие как закономерном цикле постепенного, но постоянного совершенствования искусства рукопашного боя, в котором, разумеется, присутствовали не только достижения, но и неизбежные заблуждения и неудачи.
Кроме того, я привожу биографии авторов, большинство из которых прочно забыты, а об остальных в прессе даются ошибочные, надуманные и даже откровенно лживые сведения. И очень важным было, по справедливости, возвратить истории неблагодарно забытые имена и дела наших замечательных старых специалистов рукопашного боя…
Материалы книги – результат моих более чем полувековых поисков, работы во многих, в том числе и закрытых, архивах (МВД, ФСБ, ГРУ), изучения спецруководств для служебного пользования и непосредственного общения с авторами или их лучшими учениками. Большинство материалов обнародуется впервые. Строгую научно документальную фактуру серии книг я старался сочетать с популярным, увлекательным изложением, избегая официально-казенного стиля. Насколько это удалось – судить читателям. Сокращенные, журнальные варианты некоторых глав были апробированы публикацией в периодическом издании «Боевые искусства планеты» и встречены с интересом.
В качестве иллюстраций использованы редкие фотографии и рисунки из моего архива, многие из которых еще не публиковались.
Когда в семидесятые годы готовилась к изданию моя книга о В. А. Спиридонове, то завредакцией, суровая дама старого советского закала, явно в ущерб содержанию, беспощадно кромсала рукопись, максимально сокращая и безжалостно формируя ее в обязательном тогда «железобетонном стиле». При этом не уставала упрекать меня, как в чем-то совершенно недопустимом и даже криминальном: «Вы хотите написать все, что знаете!!!»
А я и сегодня очень хотел бы рассказать обо всем, что успел познать за свои 77 лет. Слишком много еще неизвестных, но важных и интереснейших материалов у меня накопилось, и слишком мало времени остается для того, чтобы успеть их обнародовать…
Один известный искусствовед очень точно отметил, что старшие поколения, уходя, оставляют своих одиноких часовых. Таким вот часовым я сегодня себя и чувствую. Те, кто знал и тоже мог бы поведать «о делах минувших дней», давно лежат в могилах…
А наши славные мастера былых времен, которые еще много лет назад начинали прокладывать нелегкие пути к высокому совершенству современного рукопашного боя, по-прежнему остаются в обидно неблагодарном, глухом забвении, все еще ожидая своей сильно припоздавшей очереди появиться, наконец, не в засекреченных наставлениях «Только для служебного пользования», а на страницах общедоступных публикаций…
Вот почему я считаю: написать эту серию книг моя прямая моральная обязанность. Современные поколения молодых специалистов должны узнать и только лишь чистую правду! – о славных первопроходцах – своих былых предшественниках!
Теперь остается только сказать несколько необходимых слов о классификации и терминологии, используемых в данной книге.
Сразу же после первых журнальных публикаций мне позвонил старый знакомый, мастер спорта по самбо, опытный специалист рукопашного боя, защитивший на эту тему кандидатскую диссертацию, Б. П. Корякин. Он положительно отозвался о моей работе, но вот в отношении нескольких терминов у нас с ним выявились некоторые расхождения. И я благодарен ему за то, что он поднял этот существенный и актуальный вопрос. Ведь в данной области мы все еще не располагаем единой общепринятой терминологией и классификацией. Хотя на этот счет и существуют различные предложения.
Мне представляются целесообразными следующие соображения. Разумеется, существует немалая разница между рукопашной схваткой солдат воюющих армий и дракой двух ревнивых обывателей или нападением грабителя на свою жертву и задержанием преступника милиционерами. Однако, при всем внешнем различии, каждый из подобных случаев несет определенный признак, объединяющий их в единую общность. Это – непосредственное противоборство определенных людей. А поэтому, абстрагируясь от конкретных обстоятельств, которые помешают увидеть всю картину в целом, имеет смысл воспользоваться универсальным, «широкоохватным» военным термином – «ближний бой». Понимая под этим любую схватку, при которой противников разделяет расстояние, не превышающее дальности действия метательного холодного оружия или заменивших его подручных предметов.
В зависимости от того, ведут ли противники схватку в непосредственном соприкосновении друг с другом или разделены каким-то расстоянием, можно говорить о контактном или бесконтактном ближнем бое.
Наличие или отсутствие оружия или заменяющих его предметов определяют понятия вооруженного или безоружного ближнего боя. При этом вооруженный бой охватывает противостояния как вооруженному, так и безоружному врагу.
Как вооруженный, так и безоружный ближний бой может иметь характер единоборства или массового боя, при котором с одной или с каждой из сторон участвуют двое или более бойцов.
Виды и принципы действия оружия или используемых вместо него средств поражения позволяют классифицировать бесконтактный ближний бой следующим образом.
Огневой бой – использование огнестрельного оружия для стрельбы на близком расстоянии или даже в упор.
Метательный бой – поражение противника на расстоянии с помощью броска (метания) обычного или специально приспособленного холодного оружия (центрированный нож, острие которого специально утяжелено; нож с рукоятью-стабилизатором; нож с залитой в клинок ртутью; стреляющий нож; сюрикэн и т.д.), а также подручных предметов. В особом положении находится здесь специальное ручное метательное оружие – лук, арбалет, праща и прочие, которые способны отправить свой метательный снаряд на расстояние, существенно превышающее дальность обычного броска рукой. Как и в случае с огнестрельным, здесь действие специального метательного оружия имеется в виду только лишь в зоне ближнего боя. За ее пределами речь пойдет уже не о ближнем, а о дистанционном бое.
«Химический» бой – применение различного рода химических веществ для выведения противника из строя с помощью газовых пистолетов и револьверов, газовых баллончиков или простого обливания его лица кислотами и прочими едкими жидкостями.
Термический бой – использование подожженных бутылок с бензином («коктейль Молотова»), факела, головни, кипятка и других обжигающе горячих жидкостей и предметов. При этом если «коктейль» по своему воздействию на человека имеет чисто термический характер, то по способу «доставки» его к противнику вполне может быть отнесен и к средствам метательного боя.
Использование в схватке животных, обычно специально выдрессированных, как правило, собак, представит, своего рода, «биологический» бой. Когда-то кавалерийские лошади тоже помогали всаднику в бою, кусая и топча противников. А в наше время дельфины, обученные и снабженные прикрепленным к морде кинжалом, представляют для вражеских подводных пловцов смертельную опасность. Последние научные достижения в области военной техники в виде создания лазерных пистолетов, которые были задуманы как оружие для космонавтов в «звездных войнах», и вполне земного, ручного электронного оружия, пожалуй, уже позволяют говорить о почти виртуальном лазерном и электронном бое.
Вероятно, следует также упомянуть и о «психологическом бое», то есть воздействии на противника гипнотическими методами и мимически-речевыми средствами. Сюда же будет относиться и боевое использование так называемой «внутренней энергии», если считать подобное воздействие вообще существующим.
Пожалуй, это все, что можно сказать о бесконтактном ближнем бое.
Что же касается контактного ближнего боя, то к нему следует отнести рукопашный бой, в точном смысле этого термина, и фехтовальный бой – бой холодным оружием на расстоянии, позволяющем поразить противника, не выпуская оружия из рук (контакт оружия, в отличие от метательного боя). В зависимости от разновидностей используемого холодного оружия такой бой может принимать форму сабельного фехтовального боя, штыкового, боя ножом, кинжалом, тростью, дубинкой и т.п.
Логично отнести сюда же и бой с помощью подручных предметов (палка, лопата, молоток, стамеска и прочее), учитывая, что применение их в схватке довольно близко технике действия соответствующим холодным оружием.
И еще одну форму контактный бой приобретает при использовании электрических средств поражения: электрошокер, «электрические перчатки» и прочее.
И, наконец, рукопашный бой – бой голыми руками с безоружным или вооруженным противником. Принятие этого термина именно с данным смысловым наполнением явилось бы возвратом к его первоначальному, исконному смыслу, который придавали этим словам наши далекие предки. Бой холодным оружием они называли «сеча», а схватку голыми руками – «рукопашная», «рукопашка», «борьба рукопашечная». Сейчас у нас, говоря о рукопашном бое, частенько называют его самозащитой. Это слово является калькой английского «selfdefense». В терминологическом смысле это не совсем правильно. Так как приемы «самозащиты» предназначены не только для защиты, но и для нападения. Вместе с тем, слово это настолько прочно вошло в широкий обиход, что иногда я тоже позволяю себе использовать его в своих работах. Ведь бесконечное повторение одного и того же выражения «рукопашный бой» в стилистическом отношении крайне нежелательно. Однако при этом все-таки стараюсь говорить «самозащита», «самооборона» только там, где сами авторы именовали так свою систему или где речь идет о бытовых потасовках и понятие «защита» наиболее соответствует реальному положению вещей.
В заключение необходимо отметить, что отдельные формы ближнего боя могут сочетаться между собой и переходить одна в другую.
Существует и еще один немаловажный вопрос: на какие виды можно подразделить ближний бой и особенно его рукопашную форму? Что именно должно послужить здесь критерием?
М. Колесников на страницах журнала «Кэмпо» утверждал, что виды рукопашного боя определяются в зависимости от «профессионально решаемых ими задач». При этом перечислил все четыре существующие, по его мнению, вида, именуя их почему-то стилями. А в их числе «спортивный стиль» и даже «оздоровительный» (вообще никакого контакта с противником). Против того, что в любом случае какие-то задачи решаются, не поспоришь. Только вот каким образом мальчишки из детских спортсекций или старички, исповедующие «оздоровительный бесконтактный стиль», умудряются решать именно «профессиональные» задачи, автор классификации объяснить воздержался.
В действительности вид любого рукопашного боя определяется той социальной сферой, в которой он реализуется. Это позволяет выделить 7 видов рукопашного боя:
1)воинский (военный, армейский);
2)полицейский (милицейский);
3)спортивный;
4)криминальный;
5)бытовой;
6)сценический; 7) демонстрационный.
Чаще говорят не о «воинском», а об «армейском» виде рукопашного боя, но мне кажется, что такой термин менее точен, так как этот вид практикуется не только в армии, но еще в десантных частях военно-воздушных сил и военно-морского флота, а также в пограничных войсках и войсках Министерства внутренних дел.
Технико-тактические особенности каждого из видов рукопашного боя, естественно, имеют свою специфику, определяемую стоящими перед ними задачами. Хотя провести безупречно четкую границу здесь едва ли возможно, так как ряд приемов могут использоваться в каждом из видов. Однако степень опасности для противника приемов, доминирующих в любом из названных видов рукопашного боя, выявляется вполне очевидно и продиктована тем вредом, который необходимо и достаточно причинить врагу.
Так, воинский и полицейский бой довольно близки по своему техническому характеру, но в то же время являются как бы зеркальным отражением друг друга. В военной схватке главное – уничтожить врага или хотя бы надежно вывести его из строя, причинив серьезное повреждение. А подчинение своей воле живого и, желательно, «неповрежденного» противника – всего лишь частная, хотя и очень важная задача при взятии «языка». При милицейской акции – обратная картина: главное – захват живого преступника и только в самых крайних случаях его травмирование или даже уничтожение. Это, соответственно, и определяет особенности соотношения технического арсенала рукопашного боя милиции и вооруженных сил.
Криминальный бой – оружие преступного мира не имеет, да и не может иметь того организованно-выстроенного характера и единообразия, как воинские, полицейские (милицейские) или спортивные системы, хотя и использует некоторые их приемы. Чаще всего наиболее простые и «испорченные», то есть утратившие технически правильный рисунок и немаловажные детали. Обычно источниками подобных «познаний» служат телеэкран или наставления таких же «знающих» приятелей. Впрочем, за последние десять демократических лет в криминалитет было «выдавлено» и немало классных военных, милицейских и спортивных специалистов рукопашного боя. Здесь уже свой и достаточно высокий уровень.
Кроме упомянутых приемов «общего употребления», уголовники располагают также рядом собственных специфических и нередко действенных приемов, перенимаемых в «тюремной академии».
В спортивном рукопашном бою обычно используется лишь определенный круг приемов (только броски и болевые определенного характера, только удары кулаком или кулаком и ногами и т.д.) при строгом соблюдении правил, исключающих серьезные травмы спортсменов. И даже рекламно-коммерческие «бои без правил» в действительности имеют пусть куцые, но, тем не менее, правила, запрещающие выдавливать глаза, бить по половым органам, использовать пальцевые удушения и прочие.
Сейчас можно услышать разговоры об устройстве коммерческих боев, в которых действительно не будет никаких запретов. В этом не слишком отрадном случае придется предусмотреть еще один вид рукопашного боя – «гладиаторский».
Бытовой бой характеризует крайняя пестрота боевых средств и столь же крайняя их неравноценность. Начиная с беспорядочного обмена неточными кулачными ударами и пинками до попыток использовать увиденные где-то настоящие боевые приемы. Но чаще всего повторяется лишь внешний рисунок «подсмотренного» приема, потерявшего большую часть своей эффективности. Так, апперкот может наноситься только усилием бьющей руки, без включения веса корпуса. Попытки уличных драчунов наносить каратистские удары ногой, особенно «верхние», замедленны, искажены и зачастую представляют большую опасность для наносящего их, чем для противника. Чистое исполнение приемов можно отметить только тогда, когда в бытовой бой вмешивается боец, подготовленный по какой-либо определенной системе. Нередко бытовая схватка принимает характер неумелой силовой борьбы, с целью свалить противника и, прижимая к земле, наносить удары.
Сценический рукопашный бой – имитация боя в рамках театральной или телевизионной постановки или в кинематографе. Используя общие характерные черты приемов определенной эпохи и стиля, имеет задачей не только воссоздать специфическое впечатление лихих и ярких схваток того времени, но, главное, передать определенные нюансы режиссерского замысла. Так, сценический бой предоставляет отличную возможность показать мастерство, отвагу и высокое благородство или, наоборот, подлое коварство сражающихся персонажей.
Близким «родственником» сценического рукопашного боя является демонстрационный рукопашный бой – заранее оговоренный и отрепетированный публичный показ техники той или иной боевой системы, при котором приемы не доводятся до своего критического предела, грозящего травмой. Это как бы эстрадное проявление воинской, полицейской или спортивной системы, не имеющее ее боевых или спортивных задач, как и своих собственных технико-стилистических особенностей, а демонстрирующее особенности одной из трех упомянутых систем. Целью такого показа является ознакомление зрителей с определенной системой рукопашного боя, ее популяризация и пропаганда.
В заключение приходится коснуться еще одного существенного вопроса терминологии боевой техники. Сейчас утвердилась практика недифференцированного наименования болевых приемов. Любой их них перекрывается стандартным термином «рычаг». Нечто похожее уже существовало у нас в тридцатых годах, когда все болевые приемы именовались японским термином «гяку».
Мне кажется, что имеет смысл возвратиться к той терминологической системе, которую создавал В. А. Спиридонов. Он не «сваливал» болевые в одну общую кучу, а классифицировал в зависимости от характера воздействия на сустав.
Чрезмерное сгибание сустава в направлении естественного сгиба он назвал «дожимом». Выкручивание сустава – «вывертом». Перегибание сустава против естественного сгиба получило название «рычаг». При этом, в зависимости от направленности давления на сустав, Виктор Афанасьевич различал «рычаги вверх» и «рычаги вниз».
В отличие от практикуемой ныне, спиридоновская терминология дает максимум информации о болевом приеме, достаточно точно и понятно характеризуя его. В то время как принятая сейчас вполне способна дезориентировать недостаточно знающего читателя. Так, например, под термином «рычаг кисти» могут «скрываться» три совершенно различных болевых приема: рычаг, дожим и выверт кисти, да еще с несколькими своими вариантами. Вот почему я отдаю предпочтение старой спиридоновской терминологии и именно ее использую в настоящей книге.
Рисунки Альбрехта Дюрера из его рукописи, посвященной фехтованию и искусству самозащиты.
Глава 1 Системы, но… не рукопашного боя
ДЛЯ ТОГО, чтобы в XIX веке возникла необходимость создания систем физического воспитания военной направленности и появилась реальная возможность сделать это, потребовалась определенная степень развития двух совершенно разнородных отраслей знания: военно-стратегической и медико-биологической. В течение нескольких столетий они существовали и развивались обособленно, имея свои собственные методы и задачи. И лишь на ближних подступах к позапрошлому веку наглядно обозначилась необходимость их сотрудничества. При этом военный фактор, несомненно, являлся доминирующим, а физически-воспитательный, хотя и приобрел достаточно важное значение, оставался всего лишь служебным, подсобным Наполеоновские войны показали всему миру необходимость и превосходство массовых армий, каких до этого еще не бывало. Но такие армии требовали большого количества здоровых и физически хорошо подготовленных мужчин. Вместе с тем, к тому времени уже не только понимали благотворное влияние физических упражнений, но даже успели создать в этой области кое-какие научные предпосылки.
Если обратить ретроспективный взгляд на конец XIV – начало XV века, то в глаза бросится, как все более развивающееся искусство рукопашного боя начинает выплескиваться на страницы рукописных манускриптов – «кодексов» (сборников, объединяющих описания приемов), а затем и первопечатных книг. Практическая востребованность действенных приемов, от которых зависела жизнь бойца, породила целую библиотеку, весьма солидную и очень интересную. Блестящий парад авторов – таких великолепных мастеров, как Отт, Тальгофер, Ганс Вурм, Фабиан фон Ауэрсвальд, Иохим Мейер и даже сам великий художник Альбрехт Дюрер – продолжался более двух столетий. Но чем более совершенствовалось огнестрельное оружие, чем сильнее возрастала его огневая мощь и скорострельность, тем все меньше внимания уделялось в армиях обучению рукопашному бою. И во второй половине XVII века появляется всего лишь только одна яркая работа – «Искусный борец» голландского мастера Николаса Петтерса. Да и то, посвященная не военному, а спортивно-бытовому рукопашному бою. Казавшийся до тех пор неиссякаемым книжный рог изобилия явно оскудевал.
Постоянное развитие военного дела неумолимо диктовало свои непременные условия, сделав ставку на колонны слаженно марширующих стрелков и все заметнее отодвигая на задний план искусных бойцов-одиночек.
Народные состязательные единоборства тоже приобретали все более мягкий, спортивный характер, устраняя наиболее ценные в боевой схватке приемы, которые угрожали состязающимся повреждениями. Но даже и в таком, более цивилизованном, виде они постоянно подвергались гонению и осуждению как дело богопротивное, как варварское развлечение, простительное лишь простонародью, но никак не человеку образованному и уж особенно «из высшего света».
Европа все стремительнее продвигалась к вершинам промышленной цивилизации и все сильнее отставала от Восточной Азии в области старинных боевых искусств. Европейское мастерство рукопашного боя, стоявшее в XVII столетии столь же высоко, как в той же Японии, утрачивая свою актуальность, все более терялось, вырождалось, размывалось стремительно текущим временем и напрочь забывалось.
В сочетании с пренебрежением к подвижным простонародным забавам может показаться противоречивым и странным тот интерес и внимание к здоровому физическому воспитанию, которые медленно, но неуклонно формировались в европейских странах. Эпоха Возрождения – Ренессанс – действительно стала временем возрождения неукротимого интереса к забытой было и даже проклятой католической церковью великой античной культуре. А в частности, и к богатой греко-римской атлетической практике. Почетная роль принадлежала здесь итальянскому доктору философии и врачу Иеронимо Меркуриарису. Один из образованнейших и передовых людей своего времени, свободно владевших древними языками, он годами работал в богатейших библиотеках Венеции, Вероны, Милана, изучал древнейшие рукописи Византии и дополнял свои книжные изыскания обильными археологическими данными. Его благородным заветным желанием было разгадать все утраченные тайны античного физического воспитания, которое он именовал словом «гимнастика». Снова вдохнуть в него жизнь и подарить своим современникам «это высокое и благородное искусство, ранее процветавшее, а ныне умершее и позабытое».
Книга Меркуриалиса «Об искусстве гимнастики» была опубликована в 1569 году и в течение двух столетий оставалась основным руководством в области физического воспитания для европейских стран. Автор не просто описал античные упражнения, он проанализировал и классифицировал их, сделав самый первый шаг к созданию научно обоснованной системы физического воспитания. Все упражнения были подразделены на несколько соответствующих групп. Военные упражнения оценивались как «необходимые», то есть полезные для общества, но не очень нужные для здоровья. А вот упражнения, полезные для здоровья, Иеронимо считал наиболее важными и называл их «истинными». Разумеется, не мог он пройти мимо весьма популярных в древности борьбы и кулачного боя. Однако рекомендовал не сами кулачные схватки, а лишь своеобразный бой с тенью, так как он не может повлечь нежелательного «чрезмерного напряжения сил».
Рисунок Кристофоро Кориолано из книги Меркуриалиса «Об искусстве гимнастики»
Четыре года спустя «Искусство гимнастики» было в первый, но далеко не в последний раз переиздано. Венецианский художник Кристофоро Кориолано, снабдивший книгу отличными гравюрами, изобразил и два сложных болевых приема в схватке панкратиона на земле.
На протяжении последующих трех столетий в различных европейских странах возникают свои системы, однако любая из них ставила целью только физическое развитие, но отнюдь не воспитание боевых навыков. И если даже в систему включалась борьба, как правило, незамысловатая и «бережливо мягкая», то только в качестве средства физического развития, а не прикладного упражнения.
Одним из наиболее значительных новых направлений стала гимнастическая практика в германских государствах, возглавлявшаяся такими известными специалистами, как Фит (1763-1836) и Гутс-Мутс (1759-1836). Под гимнастикой тогда понимались любые физические упражнения. После сокрушительного разгрома прусской армии под Иеной в 1806 году Гимнастическое движение молодежи стало одной из форм протеста против наполеоновской оккупации. Лидером движения стал ярый националист и пруссаман Фридрих Ян (1778-1852). Слово «гимнастика» он заменил немецким словом «турнкунст» («искусство изворотливости»), а гимнастов стал именовать «турнерами». Ян не только обучал своих воспитанников работе на различных гимнастических снарядах, но и приучал к военному строю, проводил военные игры и устраивал «полувоенные-полутуристические» походы. Подготовка немецкой молодежи к будущей борьбе за национальное освобождение виделась во всем этом столь прозрачно, что однажды Наполеон даже запретил аналогичное движение.
Одним из интересных и значительных моментов в деятельности Яна было, как мне представляется, то, что на службу своим освободительным целям он старался поставить еще и приемы старонемецкой борьбы, базируясь на боевой технике Ауэрсвальда и Дюрера. Тогда, в первых десятилетиях XIX века, немцы имели отличную возможность, возродив свое богатейшее средневековое наследие, создать прикладную борьбу и систему самозащиты, ни в чем не уступающие японским и даже превосходящие их. Но этот поистине уникальный шанс они неосмотрительно и досадно упустили. Ян попытался создать правила борьбы, которые должны были смягчить ее жесткий боевой характер. Но то ли этот специалист гимнастики был не слишком искушен в вопросах единоборства, то ли его турнеры оказались недостаточно сообразительными в отношении богатейших борцовских перспектив. Однако борьба по правилам Яна не только не вдохновила, но, совсем наоборот, решительно отвратила их от этого полезного занятия. Причем такое странное отторжение продолжалось очень долго. И даже уже в начале XX века известный немецкий цирковой борец, чемпион мира и Европы Якоб Кох сетовал «на один весьма важный недостаток немецкой гимнастики, а именно то, что она относится с пренебрежением к борьбе…».
В 1887 году в Берлине произошел случай, довольно редкий в мировой издательской практике: в свет была заново выпущена книга, имевшая уже трехсотпятидесятилетний возраст. За эти три с половиной столетия даже сам немецкий язык успел претерпеть существенные изменения, тем не менее, книга вышла в своем первозданном виде: не только без перевода, но даже и без каких-либо пояснений и комментария. Впрочем, главным в ней был даже не текст, довольно-таки краткий, а отличные гравюры на дереве Лукаса Кранаха Старшего, во всех деталях запечатлевшего все восемьдесят пять приемов из боевого арсенала Фабиана фон Ауэрсвальда. Книга Фабиана, изданная в 1539 году, так и называется – «Искусство борьбы. Восемьдесят пять приемов».
Гравюры на дереве Лукаса Кранаха Старшего иллюстрации к книге Фабиана фон
Ауэрсвальда «Искусство борьбы. Восемьдесят пять приемов»
Каким это ни покажется невероятным, но выпуск этой антикварной «новинки» вполне мог дать необходимый импульс в развитии европейского искусства самозащиты. Ведь английский бокс предлагал только технику ударов кулаками и две-три подножки. Французский бокс был еще не слишком развит и носил чисто локальный характер. Французская борьба уже приобрела условно-спортивный характер и обладала не очень большой прикладной ценностью. А с японскими приемами Европа тогда вообще еще не была знакома. Так что боевая техника неожиданно «воскресшего» средневекового мэтра являлась в те годы наиболее эффективной, хотя и требовала необходимой довольно тщательной доработки.
Расщедрившаяся судьба в лице анонимного издателя-мецената вторично попыталась подарить Германии возможность создания своей собственной отличной спортивно-боевой системы, но недальновидные немецкие спортсмены и на этот раз бездумно и равнодушно прошли мимо этого поистине королевского подарка! На титуле книги меценат начертал: «На пользу и благо всем германским турнерам». Однако же, ни на пользу, ни на благо книга им так и не пошла! Не вдохновила на возрождение замечательного наследия своих предков.
«Турнферейны» – союзы турнеров появлялись и у нас, объединяя, в основном, российских немцев. Поначалу там, как и в частных гимнастических залах, занимались и некоторые русские, но затем, в 1883 году, они создали свое Русское гимнастическое общество, в числе учредителей которого были В.А. Гиляровский и А.П. Чехов. Кроме гимнастики практиковались в Обществе фехтование и борьба.
Однако значительно больше, чем немецкому турнкунсту, в России повезло шведской гимнастике. На Скандинавском полуострове национальную систему, которая, по мнению француза Демени, «обладает всей точностью науки», создал выпускник Лундского университета, известный шведский поэт и искусный фехтовальщик Пер Линг (1776-1839). Опираясь на немецкий опыт, а также практику древних греков и своих предков – викингов, он основал то, что во всем мире стали называть «шведской гимнастикой». Пер выполнял заказ правительства и, главным образом, работал в области военной гимнастики.
Небезынтересно отметить, что через восемьдесят лет после смерти Линга немецкий специалист Дебонне обвинил шведа в том, что тот якобы тайно «позаимствовал свою систему, слово в слово, из древнейших китайских лечебных приемов Тонг-Фу». Впрочем, эти весьма сомнительные и бездоказательные обвинения в любом случае могли касаться только лечебного раздела гимнастики Линга, но никак не военного.
В отличие от немецкой гимнастики, шведской заинтересовался наш генералитет. И в 1838 году император Николай I отдал приказ ввести в гвардейских полках занятия гимнастикой, а для руководства этим новым делом в Петербург был приглашен де Паули. К счастью, этот выпускник шведского гимнастического института Пера Линга успел поработать во Франции под руководством полковника Франциско Амориса. Как ни странно, но именно этот испанец и офицер испанской армии явился основоположником французской гимнастической системы, которая с самого начала получила военно-прикладной характер. В отличие от шведов, французы непрерывно, в течение целой четверти века, провоевали, участвуя в самых больших и кровавых сражениях. Так что понимали кое-что и в рукопашном бое. К тому же, как утверждают, испанско-французский полковник не чуждался и известных суворовских указаний по боевой подготовке войск, вызывавших большой интерес на Западе. Между прочим, уже одно это доказывает, что русская армия, только что разгромившая сильнейшую в мире «всеевропейскую, великую армию Наполеона», еще с суворовских времен располагала собственным ценнейшим опытом боевой подготовки. И вполне могла бы обойтись в обучении своими силами. Только вот взгляды хозяев России испокон веку (да и доныне) устремляются лишь на Запад в полной убежденности, что в своем Отечестве пророков никак быть не может, да и не должно быть.
Впрочем, деятельность де Паули в России нельзя не признать полезной. Свои взгляды он изложил в работе «Военная гимнастика и фехтование на штыках и саблях верхом». Рекруты получали у него хорошую физическую подготовку и навыки преодоления препятствий различными способами. Краткую, но исчерпывающую характеристику его системы дал наш старый специалист, доктор медицины В. Е. Игнатьев: «При военной гимнастике имеет место фехтование и борьба, другими словами, учатся пользоваться своей силой и развивают умение владеть оружием». Творческое мышление в сочетании со смелостью подлинного новатора позволили де Паули поколебать общепринятые, но уже явно устаревшие каноны, отвергнув неоправданно усложненные традиционные шведские методы фехтования на штыках. О своих преобразованиях он сказал так: «Это составляет шесть маневров вместо прежних тридцати или даже пятидесяти, из которых один запутаннее другого». Шведская гимнастика оставила заметный след в русской специальной литературе. Особенно заинтересовался ей и пропагандировал, посвятив описанию этой гимнастики две своих книги, один из учредителей Международного Олимпийского Комитета, представлявший в нем Россию, генерал АД. Бутовский.
Научно доказанная необходимость физического воспитания молодежи породила в позапрошлом веке и еще ряд специальных систем, призванных выполнять эту задачу. Их создатели ставили целью воспитание физически и психически здоровой, гармонично развитой личности, а подобная личность, разумеется, не могла существовать без умения защитить саму себя. И вот в системах физического развития начинают появляться разделы самозащиты. Первой из них, наиболее известной и популярной в России, стала чешская сокольская гимнастика. В то время западными и частично южными славянами все еще повелевали австрийцы, и Сокольское спортивное движение явилось одной из весьма заметных форм протеста против чужеземного владычества. В Австро-Венгерской империи насаждалась немецкая гимнастика «турнер». Вот ей-то чехи и противопоставили свое сокольство. Оно стало славным движением людей, гордившихся своим славянским происхождением и нипочем не желавших променять его на австрийскую чечевичную похлебку. Сокольство способствовало возрождению и развитию чешской культуры и несло национально-освободительные идеи. «Соколы» носили национальные костюмы, вводили в гимнастику движения своих национальных танцев, а кроме обычных гимнастических снарядов использовали еще пики, кии, палицы и цепы, которые когда-то были грозным антирыцарским оружием в руках восставших чешских «таборитов». Называли они друг друга «брат» или «сестра», а обращались только на «ты». И даже само название – «Сокол» символизировало славянское понимание свободы и мужества.
Создана сокольская гимнастика была в шестидесятые годы XIX века. Ее автором, хотя и не единоличным, стал, как это ни странно, не спортсмен, а доктор философии Мирослав Тырш (1832-1884). Задачи своей системы он сформулировал так: «Укрепить и сохранить человеку здоровье, сделать его неуязвимым, дать ему отвагу и хладнокровие, силу и ловкость, проворство, решительность, смелость…». При конструировании своей гимнастики Тырш использовал наиболее удачные элементы других гимнастических систем, но при этом сумел создать достаточно самостоятельную систему, привнеся немало нового, самобытного и оригинального. Так, в наше время ни одно из крупнейших международных состязаний не обходится без того, чтобы на его открытии не демонстрировались массовые гимнастические выступления. А они, как и многое другое, пришли в мировую гимнастику именно из сокольства. Такие выступления, собиравшие до 20 тысяч участников, имели не только чисто зрелищное, но еще воспитательное и политико-пропагандистское значение, позволяя гимнастам ощутить сплоченность и приверженность общей идее. И не случайно Всесокольские слеты, проводившиеся с 1882 года, всегда проходили с огромным успехом и собирали не только чешско-моравских «соколов», но и «соколов» из других славянских стран, в том числе и из России. На одном из таких слетов лучшим – «наибольшим витязем» – был признан знаменитый русский журналист и силач В. А. Гиляровский.
Сокольская гимнастика состояла из четырех отделов, и четвертый, последний, отдел был посвящен «боевым упражнениям». В него входили фехтование эспадроном, рапирой или шпагой, посохом и тростью, которая тогда зачастую дополняла мужской костюм и использование ее в качестве оружия имело прикладной характер в рамках бытовой самозащиты. Кроме того, «соколы» овладевали приемами французской, а иногда и некой древнегреческой борьбы «с хватами за все тело» и французского бокса, который в те годы являлся наиболее эффективным из известных в Европе способов рукопашного боя. Однако у «соколов» это был весьма своеобразный бокс. Тырш признавал нежелательной любую спортивную состязательность. И даже в физкультурной терминологии «спорт» и «гимнастика» существовали тогда в качестве двух противоположных понятий, так как соревнования в сокольской гимнастике не проводились.
И вот, в соответствии с этими Сокольскими принципами, сформировалась своеобразная разновидность французского бокса. Своего рода «бокс с тенью», в котором удары и защиты только разучивались и отрабатывались, но никаких спаррингов – «ассо» – не проводилось. И хотя это избавляло от ушибов, разбитых носов и синяков под глазами, отсутствие непосредственной практики боя, как реального контакта с соперником, снижало ценность получаемых «соколами» боевых навыков, негативно влияло на них.
Впоследствии подобные упражнения стали фигурировать даже в виде самостоятельной дисциплины – «гимнастического бокса». Именно под таким названием выпустил свою книгу тифлисский преподаватель сокольства А. Лукеш. Она явилась единственной работой по данной теме и выходила тремя изданиями, последнее из которых увидело свет в Петрограде в военном 1914 году.
В конце двадцатых годов у нас еще помнили о «гимнастическом боксе», хотя уже едва ли практиковали его. Известный историк спорта и старейший спортивный журналист Б. М. Чесноков привел в своем «Энциклопедическом словаре по физической культуре» (1928 год) следующую дефиницию: «За основу гимнастического бокса взят французский бокс, с его приемами нападения и защиты не только руками, но и ногами. Цель гимнастического бокса – обучить занимающегося всевозможным приемам нанесения ударов противнику, а также способам защиты от ударов, но главная ценность гимнастического бокса – в равномерном физическом развитии, так как при гимнастическом боксе в равной степени упражняются как правой, так и левой рукой, как правой, так и левой ногой».
Российские реформы второй половины XIX века коснулись и физического воспитания учащейся молодежи, правда, только лишь из привилегированных сословий. Новый школьный устав предусматривал введение гимнастики в гимназиях и прогимназиях. Однако же катастрофическая нехватка знающих преподавателей оттянула воплощение этих благих намерений на долгие годы. Те из гимназий, которые располагали достаточными финансовыми средствами, стали приглашать для преподавания чешских специалистов Сокольской гимнастики. Некоторые из них обучали не только гимнастике в полном объеме, но, в частном порядке, и отдельно только французскому боксу, войдя в число пионеров этого боевого вида спорта в России.
Одним из первых и наиболее известным из них стал видный деятель пражского «Сокола» Ф.И. Ольшанник. Когда члены Московского клуба велосипедистов соблазнились боксерской практикой своих соседей из Атлетического кружка под управлением барона Кистера, они тоже надели перчатки, а одним из преподавателей стал у них Ольшанник. Не ограничиваясь всего лишь обучением, летом 1896 г. он даже сам вышел на ринг в показательном матче на московском «Циклодроме» (как именовали тогда велодром). Репортер журнала «Циклист», писавший под велосипедным псевдонимом «Руль», вот так, не без ехидства, прокомментировал это, еще не привычное в России, зрелище: «Перед началом гонки господа Ольшанник и Смоленский демонстрируют бокс. Хорошо боксируют!.. Я думаю, самому Расплюеву не пришлось такого бокса испытывать!.. Погрозив друг другу кулаками и смазав друг друга по нескольку раз подошвами, уступили место велосипедистам».
В моем архиве сохранились уникальные и сегодня уже слегка комичные фотографии, где этот ветеран демонстрирует для сокольского журнала начала XX века технику французского бокса. Его перчатки с длиннейшими, чуть ли не по локоть, крагами столь же забавно-архаичны, как и удары с фехтовальным выпадом и повернутыми ногтями вверх кулаками.
Ф. И. Ольшанник демонстрирует для сокольского журнала технику французского бокса
Тот же Ольшанник, придя в Русское гимнастическое общество, преобразовал его по чешскому образцу в Первое Русское Гимнастическое Общество «Сокол» в Москве, где занятия проводились по всем разделам, в том числе и по боевому.
В начале века сокольство прочно утвердилось у нас как основной вид гимнастики и не только оставило заметный след в терминологии, но и вообще стало основой современной спортивной гимнастики. В России выпускался специальный журнал «Сокол». А в 1912 году штабс-капитан Марков выпустил в Петербурге «Руководство для изучения сокольской гимнастики и постановки ее в войсках».
В первые послереволюционные годы сокольские общества еще продолжали существовать в ряде городов, а Сокольская гимнастика была обязательным предметом даже в Главной военной школе физического образования трудящихся. Но очень скоро эта «подозрительная иностранка» оказалась под яростным огнем критики как буржуазная система, идеологически вредная и проповедующая патриотические убеждения. А патриотизм тогда был таким же точно подозрительным и гонимым, как и у нас в течение всех десяти последних лет. Только тогда ему противопоставляли не «западные, общечеловеческие ценности», а железный пролетарский интернационализм и братский союз трудящихся всех стран и народов!
Бывший член Олимпийского Комитета Российской империи, крупнейший деятель физической культуры дореволюционной, а затем и советской России Г. А. Дюперрон в своем популярнейшем и очень ценном труде сказал об этом очень смело для тех лет и осуждающе резко: «За последние годы в СССР Сокольская гимнастика не пользуется любовью тех, кто ею не занимается. Если откинуть соображения шкурного свойства, чаще всего на Сокольскую гимнастику нападают не как на гимнастическую систему, а как на явление слишком тесно связанное с сокольством, то есть с идеологическим направлением. В наших целях нужно раз навсегда откинуть эти соображения, и нужно решиться смотреть на сокольскую гимнастику только как на определенную систему физического развития».
Нет нужды объяснять, что это так и осталось всего лишь гласом вопиющего в пустыне. Дни «буржуазного и идеологически чуждого» сокольства были уже сочтены. Ведь на подходе уже маячили родные советские и «свои в доску» пролетарские поделки. Впрочем, при этом, как ни странно, все еще продолжали пользоваться у нас признанием и успехом целых две известных во всем мире французских и заведомо «буржуазных» системы – Демени и Эбера.
Что касается вообще французских систем, которые начали формироваться еще в революционном 1795 году в рядах «юношеских батальонов надежды», то они являлись наиболее продвинутыми в интересующем нас смысле. Между прочим, ряд специалистов считает, что де Паули преподавал не столько шведскую, сколько французскую военную гимнастику. Именно Франция в 1852 году организовала первое в мире специализированное военно-спортивное учебное заведение в Жуанвиль ле Понт. В Жуанвильской фехтовально-гимнастической школе преподавали не только военную гимнастику и фехтование, которое в то время еще было вполне реальной воинской дисциплиной. Школа также являлась одним из основных центров французского бокса. И именно выпускник этой школы Эрнест Лустало стал основоположником как французского, так и английского бокса в Петербурге в конце XIX века.
Однако до этого французские новации долгое время игнорировались у нас по чисто политическим причинам: наша дремучая монархия с истеричной нервозностью прямо-таки на дух не принимала любые «республиканские» достижения. Только в середине XIX века в Москве открылся частный гимнастический зал француза В.Я. Пуаре, пользовавшийся определенной популярностью. Пуаре перевел и в семидесятых-восьмидесятых годах дважды опубликовал капитальный труд «профессора гимнастики в Париже Наполеона Лэнэ». Разумеется, в этой, более чем пятисотстраничной книге совсем нетрудно отыскать вполне понятные недочеты, с современной точки зрения. Но, думаю, что тому, кто освоил все приведенные там упражнения, было бы не так уж сложно постигнуть и нынешние спецназовские премудрости. В числе «упражнений, которыми может заниматься юношество», рекомендовались «Бокс (кулачный бой)», «Драка ногами (la savete)», «Фехтование. Бой на палках». Скорее всего, Пуаре тоже преподавал все это своим ученикам.
Однако странным диссонансом здесь выступает то, что старый национальный французский вид спорта борьба – решительно отвергнут. В предисловии к книге Варфоломей Сент-Илер категорически утверждает: «Во всяком случае, должно стараться, чтобы это соревнование не заходило слишком далеко, и вот почему я пропустил почти все борьбы, особенно борьбы в обхват, с целью повалить друг друга. Эти последние опасны по чрезвычайным усилиям, которые для них требуются, и потому что, обыкновенно, борцы слишком разгорячаются, и борьба часто превращается в ожесточенный бой. Вместо состязаний борьбою, можно с большим успехом исполнять приступы и состязания в бегании, прыганий и т.п.».
Лэнэ, написав несколько уважительных слов о славном прошлом борьбы, тут же решительно присоединяется к мнению уважаемого Сент-Илера: «По всему, что я заметил в школах, у меня и везде, где я видел занятия гимнастикой, я скажу, что борьбы, в которых противники должны схватываться телом к телу, всегда опасны: порождают задор и мало благоприятствуют порядку, который должно соблюдать при всех упражнениях; и так как есть много других средств, чтобы достигнуть цели, то я их совершенно уничтожил во всех местах, куда я был призываем, чтобы давать уроки».
Я думаю, что разгадка подобной нелогичности лежит в словах Лэнэ:
«…Цель моя – говорить только о тех упражнениях, которые более подходят к нашим нравам…». Хотя борьба уже успела перекочевать из ярмарочных балаганов юга Франции в такие фешенебельные парижские заведения, как «Фоли Бержер» или «Мулен Руж», борцы оставались малопочтенными циркачами, а борьба – грубым занятием простолюдинов. Стоит вспомнить, что даже в 1900 году сами французы не сочли возможным включить ее в программу парижских Олимпийских игр…
Заметным, хотя и весьма запоздалым признанием французских успехов стало в 1909 году учреждение в Петербурге Главной гимнастически-фехтовальной школы по образцу Жуанвильской с перенесением основных ее методов. А ровно через год открылась в Москве и вторая такая школа, где известный фехтовальщик Александр Люгарр преподавал не только классическое фехтование, но еще штыковой бой и французский бокс.
А несколько ранее, в конце XIX – начале XX века, во всем мире приобрели известность и первостепенное значение две системы французских ученых – Демени и Эбера. Наши специалисты старой школы, свободно владевшие иностранными языками, знакомились с их трудами прямо по мере публикации в оригинале на французском языке. А уже в 1899 году в Петербурге был издан первый русский перевод одной из работ Демени, положивший начало обширной библиотеке его переводов, продолжавших выходить и в советское время вплоть до 1930 года.
Такими схематическими «человечками» Ж . Демени обозначал свои боевые упражнения: удары палкой тростью), кулаками ногами – из французского бокса
Ту же самую судьбу разделили и публикации лейтенанта французского военного флота Эбера. Однако главная его работа – «Естественный метод физического воспитания» – пришла к русскому читателю с некоторым опозданием из-за Первой Мировой, а затем Гражданской войны. Но уже в 1923 году эта книга появилась на советских книжных прилавках. Спрос на нее был столь велик, что всего за два последующих года вышли в свет еще два издания, во всех подробностях излагавшие этот новый метод француза.
По сравнению с системой его учителя Демени, методика Эбера получила у нас более широкое практическое использование из-за своей новизны и благодаря массовому развитию физической культуры с первых же лет Советской власти. Хотя их использование имело несколько своеобразный, я бы сказал, плагиаторски-пролетарский характер. Признавая бесспорную ценность обоих методов, особенно естественного, наши ортодоксальные идеологи от физкультуры сильно смущались их «буржуазным происхождением». Поэтому пролетарские умельцы «творчески» вдыхали в эти классово чуждые системы истинно революционный дух и уверенно публиковали их под своими фамилиями. Но об этом я поведаю в следующей книге. А сейчас самое время рассказать о самих этих двух специалистах, оказавшихся в центре внимания всего физкультурного мира.
Жорж Демени (1850-1917) – ученый-физиолог, вдумчивый исследователь, ставший основателем «новой французской школы физического воспитания». Для своего времени гимнастика Демени явилась наиболее научно обоснованной. Он преподавал в знаменитой Жуанвильской военной фехтовально-гимнастической школе, и под его руководством составлялись наставления по физической подготовке для французской армии. Главным в методе Демени было использование не искусственно надуманных, а чисто утилитарных движений, необходимых в реальной жизни. Именно он ввел термин «суплес», то есть гибкость, ловкость, и придавал этому качеству большее значение, чем наращиванию мускулатуры. Первый раздел его системы состоял из подготовительных упражнений, развивающих такую гибкость, а второй давал прикладные упражнения, в числе которых были приемы защиты и нападения. В качестве таковых предлагалось фехтование палкой (тростью) и наиболее действенные удары руками и ногами из французского бокса. В эту же группу, как и в других системах, входили парные упражнения с сопротивлением.
Ученик Демени Жорж Эбер (1875-1957) был одним из наиболее талантливых выпускников Жуанвильской школы. Его «естественный метод физического воспитания» тоже делится на две части: воспитательную и прикладную. Одна из задач прикладной части состояла «в выработке умения выпутаться из тяжелых условий». А перечисляя «жизненно необходимые упражнения», Эбер называл знание приемов бокса и борьбы, умение пользоваться ими в случае внезапного нападения. Еще в воспитательной части им давались элементы самозащиты, а прикладная уже предусматривала вольные схватки по французскому боксу и двум видам борьбы. Кроме того, ученики овладевали фехтованием холодным оружием, посохом и тростью, а также стрельбой из револьвера и винтовки.
Из всех названных систем «естественный метод» Эбера был наиболее насыщен боевыми видами спорта, но он явно хватил через край, утверждая, что уже десятилетний ребенок «должен уметь… выполнять простые приемы борьбы и бокса» и «привести в беспомощное состояние вредного или опасного субъекта».
Французский бокс Эбер преподносил как две раздельные части: «бокс руками» и «бокс ногами». Это не могло не повлиять на оптимальное освоение комбинаций этих двух видов ударов. Довольно большим количеством приемов была представлена французская борьба. Но, вероятно, Эбер понимал не слишком большое значение этого, в значительной степени условного, единоборства и поэтому ввел в свою систему еще один вид борьбы – бретонскую. Эта национальная борьба в одежде, малоизвестная за пределами Франции, нашим специалистам не известна вообще. Между тем, она заслуживает того, чтобы с ней познакомиться поближе.
Приемы бретонской борьбы
Бретонскую борьбу обычно считают национальной борьбой французов, но это не совсем правильно. Бретонцы действительно граждане Франции, но считать себя этническими французами нипочем не желают и на самом деле таковыми не являются. Бретонцы – последние сохранившиеся в континентальной Европе потомки кельтов, как именовали их древние греки, или галлов – в латинском варианте. Сегодня о них справедливо говорят, как о вымирающем племени Европы. Но когда-то это был великий народ, владевший землями, разбросанными от Британских островов до Карпат и от Пиренейского полуострова до Ближнего Востока. Внушавшие страх всей Европе и даже взявшие однажды великий Рим воинственные племена, чьи боевые топорики с узким лезвием археологи так и называют – «кельты», умели не только воевать, но и создали еще замечательную, во многом загадочную культуру. Даже уже в Средние века у прославленных бретонских сказителей и бардов французы заимствовали многие сюжеты для своих популярнейших романов о рыцарях Круглого стола, волшебниках, коварных злодеях и прекрасных дамах. Да и сам институт рыцарства с его высоким понятием чести, рыцарскими турнирами и культом прекрасной дамы сердца тоже пришел в средневековую Европу из глубин кельтской истории. Мистические хэллоуины современных англичан и американцев тоже имеют кельтские корни.
Смертельные удары железных легионов Юлия Цезаря, а затем нашествие германских племен не только разрушили былое кельтское могущество, но и почти уничтожили этот древний народ или привели к его полной ассимиляции.
Бретонцы, или бритты, издавна обитали на Британских островах, что отражено в самом географическом названии. Но в V – VI вв. под неудержимым натиском германоязычных англосаксов они были вынуждены навсегда покинуть свои родные земли: Уэльс и Корнуолл. Переплыв Ла-Манш, бритты подчинили себе такую же кельтскую, но уже романизированную Арморику, принеся и на этот полуостров свое племенное имя – Бретань. А еще через тысячу лет эта последняя на континенте кельтская земля, в силу династических браков, оказалась поглощенной соседней и более могущественной Францией со всеми вытекающими из этого тягостными последствиями. Бретонцы, так же, как и их кельтские братья – шотландцы и валлийцы, на своей собственной земле превратились в национальные меньшинства, а ирландцы, и того хуже, – в колониальный народ. Новые английские и французские хозяева, не стесняясь в средствах, навязывали свои порядки и свои, чуждые кельтам, обычаи. А старинные кельтские традиции беззастенчиво и грубо попирались. Доходило даже до запретов изучения родного языка.
Ирландский профессор Маиртин О'Марчу по горькому опыту своего народа хорошо знал, о чем говорит, когда выдвинул обвинения англичанам и французам в традиционной враждебности к кельтской самобытности, этноциде и уничтожении национальных культур. На этом малопочтенном поприще великие державы – Англия и Франция – весьма преуспели. И, пожалуй, одним из сравнительно благополучно сохранившихся островков кельтской культуры остается спорт. Здесь они вполне успешно могут поспорить в древности не только с римлянами, но даже и с греками. Во французской прессе мне встретилось утверждение, что кельты еще в XVIII веке до новой эры уже проводили свои «Таильтианские игры» – более чем на целое тысячелетие раньше первых достоверно известных нам Олимпийских игр! Стоит ли верить подобному смелому утверждению или нет, трудно сказать, но остается фактом, что состязания в силе, ловкости, выносливости и быстроте издревле являлись доброй традицией этого народа. И дело было вовсе не в развлекательно-зрелищной стороне, а в насущной необходимости боевой подготовки молодежи.
Еще девятьсот лет назад шотландский король Мальком III приказал своим подданным состязаться в беге. В гористой местности это было совсем не легким испытанием, и Мальком наградил победителя высокой должностью королевского посла. Можно много говорить о старинных состязаниях кельтов, но я ограничусь всего лишь одним, но очень показательным примером.
Во втором десятилетии XIV века в кровавой битве при Баннокберне шотландцы наголову разгромили напавшую на них английскую армию Эдуарда II. А в 1332 году десятки шотландских кланов, как обычно, съехались в тогдашнюю столицу Инвернесс. На таких народных собраниях, подобных нашему вечу, издревле сообща обсуждались наиболее важные вопросы, и принятые решения обретали неколебимую силу закона. А по окончании собрания непременно устраивались молодежные состязания. Но теперь было решено, что отныне будут это не обычные, рядовые соревнования, а своего рода торжественный спортивный праздник в честь и в память одержанной важнейшей победы. Так было положено начало Северошотландским играм, которые не случайно называют еще «кельтскими Олимпиадами». Впоследствии их перенесли в близлежащий городок Бреймар, и название его означает для шотландцев то же самое, что и Олимпия для греков.
Наверное, это не очень легко представить, но вот уже почти семь столетий подряд из года в год в первую субботу сентября в эту почти безлюдную горную местность съезжается множество людей – участников игр и азартных зрителей.
Точно такие же, но более скромных масштабов, народные олимпиады – Горские игры – можно увидеть еще и в Абоине, и в Кирримьюре, где тоже собираются сильнейшие атлеты шотландских городов и поселков. И любое из таких состязаний непременно начинается с традиционного красочного парада горных кланов. Потомки знатных родов Шотландии с торжественной неторопливостью проходят перед зрителями, и те по расцветке и характеру клетчатого узора короткой – до колена – юбочки-кильта и небрежно наброшенного на плечо пледа сразу же узнают, какой именно клан вышагивает по стадиону. И только после этого под продолжающийся аккомпанемент шотландских волынок начинаются сами состязания. Однако по весьма своеобразной программе, резко отличной от того, к чему мы с вами издавна привыкли. Впрочем, стоит напомнить, что и вполне привычные нам такие номера легкой атлетики, как тройной прыжок и метание молота, тоже оставались непривычными до тех пор, пока их в позапрошлом веке не позаимствовали у шотландцев. Этот кельтский метательный снаряд был прямым потомком боевого молота с деревянной рукоятью и каменным навершием. И это не удивительно: любое упражнение было так или иначе связано с военным делом. Переноска больших валунов и метание тяжелых камней тоже были полезным боевым навыком. Особенно в горной местности, богатой камнями, которые всегда можно было обрушить на вражеские головы.
Есть в программе и такое совсем уже уникальное упражнение – метание с разбега лиственничного бревна длиной до 6 с половиной метров и весом до 72 килограммов. Бревно, описав в воздухе плавную дугу, должно удариться о землю тяжелым толстым концом и лечь строго по направлению бега метателя. При этом броски менее чем на двенадцать с половиной метров просто не засчитываются. А предания утверждают, что легендарный кельтский герой Кухулин мог швырнуть такое бревно на пятьдесят метров. Когда-то в древности кельтские воины таким необычным способом наводили переправы через пропасти и горные реки.
Прыжки с шестом тоже служили для преодоления подобных препятствий, а шестом вполне могло служить древко копья. Это отложилось в программе игр в виде прыжков с шестом, но не в высоту, а в длину.
И, конечно же, непременным видом состязаний является кельтская борьба. Чтобы участвовать в таком единоборстве, на ежегодные соревнования в Эдинбург собираются не только шотландцы, но еще и ирландцы, и валлийцы. И хотя скептики острят, что кельтского в этой борьбе остались всего-навсего лишь юбочки-кильты, в действительности она располагает эффективной техникой, сохраненной народом на протяжении многих столетий, а может быть, и тысячелетий.
Кельтская борьба
Как показательный пример можно привести древнюю боевую практику одного из ирландских племен. Воинскими премудростями там начинали овладевать с младенческих лет. Нужно было не только точно метать дротик, но еще уметь уклониться и даже поймать дротик врага и тут же отправить его обратно. Воины, сумевшие обзавестись дорогостоящим мечом, умели сражаться, держа его как в правой, так и в левой руке. Ирландские хроники говорят о героях, «работавших» двумя мечами одновременно.
А вот основой обучения безоружному бою являлась именно борьба, в которой использовались не только броски, но и такой болевой прием, как рычаг локтя.
Когда говорят о различных видах английской национальной борьбы, которых насчитывается целых шесть, то среди них непременно упоминают и корнуоллскую борьбу «корнишхью». Здесь, однако, возникает необходимость проверить подлинность ее английской генеалогии. Корнуоллская борьба, как говорит само ее название, зародилась и доныне практикуется на земле современного английского графства Корнуолл. Но давайте припомним, что именно Корнуоллский полуостров был родиной бретонцев, которую они вынуждены были покинуть пятнадцать веков назад. Так вот, захватив их земли, англосаксы «приватизировали» и такое кельтское наследие, как «корнишхью», которое заметно отличается от других английских видов борьбы в смысле техники и правил.
Корнуоллская борьба имеет и еще одно название – «за рубашку». В отличие от английской ланкаширской борьбы, где борцы выходили с обнаженным торсом, корнишхью – это борьба в одежде. Там облачались в подпоясанные рубахи из прочной грубой материи. Еще два вида старинной английской борьбы – кумберлендская и вестморлендская, хотя и велись в одежде, но там боролись в обхват. А в корнуоллской захваты делались именно за одежду – «за рубашку». Сопоставляя корнишхью с бретонской борьбой и обнаруживая в них много общего, можно утверждать, что это не просто «родственники», а что древняя коренная корнуоллская борьба являлась архетипом бретонской, тем древним кельтским корнем, из которого выросла бретонская ветвь.
Небезынтересно отметить, что еще один зеленый побег старинной борьбы умудрился проклюнуться даже и по другую сторону Атлантического океана – в США. Известный специалист двадцатых-тридцатых годов Н. Н. Ознобишин сказал об этом в своей книге: «Американской национальной системой самозащиты является «кэтч-эз-кэтчкэн» (поймай, как сумеешь), представляющий один их типов свободной (вольной – М. Л.) борьбы… Немалое влияние на образование американского стиля борьбы оказала и завезенная в Штаты из Англии система борьбы «подножками», так называемая корнишхью», родившаяся в Корнуэльсе». По принятой тогда классификации бретонская борьба, как и корнуоллская, в отличие от классической, греко-римской, считалась одним из видов вольной борьбы, поскольку там допускались броски, исполняемые с помощью ног. Такой более широкий технический диапазон, а также ведение схватки в одежде, а не в условном спортивном трико, давали бретонской борьбе значительно большую прикладную ценность по сравнению с ее французской сестрой. Это не мог не оценить автор «естественного метода» Эбер.
Его ученики, как и настоящие бретонцы, боролись босиком, но просторные бретонские рубахи заменили более доступными им короткими и узкими матросскими курточками. Здесь, несомненно повлияло то, что Эдер вел работу именно в военном флоте. По своему техническому характеру бретонская борьба напоминала старую русскую борьбу «не в схватку», «за вороток». Боролись только в стойке, и победу приносила касание партнера обеими лопатками земли.
Многолетнее соседство с французской борьбой не могло не повлиять на бретонскую в способах захватов не только за одежду. Но ее основой являлись именно захваты за одежду и пояс в следующих шести вариантах: одной рукой за одежду на плече; обеими за одно и то же плечо; одной за одежду у локтя, другой – у плеча; одной за ворот или за шею сгибом локтя, другой – за одежду у локтя; одной за пояс, другой – за одежду на плече или локте; обеими за пояс.
Для большей прочности, захватив одежду, следовало повернуть кисть большим пальцем вверх, как бы навернув захваченную ткань на кулак.
В качестве бросков использовались различные варианты подножек: задняя, боковая и даже «внутренняя» с подставлением ноги, пронося и ставя ее между ногами соперника; подсечки и обвивы изнутри и снаружи, называвшиеся «крючками». Бросковая техника, хотя и достаточно разнообразная, по степени отработанности заметно уступала японской. Но в то время, когда Эбер создавал свой «естественный метод», дзюдо еще не было известно в Европе, а еще только появлявшееся жестокое джиу джитсу было едва ли пригодно для использования в рамках массовой европейской системы физической культуры.
«Естественный метод» имел большой успех не только во Франции, но и в других странах, где использовался в целях допризывной подготовки юношей. Разработанная Эйбером система специальных физических упражнений нашла применение также и во французском военном флоте.
Глава 2 Шумный мировой триумф джиу-джитсу
За последнее десятилетие о джиу-джитсу было написано, пожалуй, даже побольше, чем о «юбилейном» Александре Сергеевиче. Но я что-то не припомню, чтобы хоть кто-нибудь смог сказать, когда и в связи с чем в России появились самые первые сведения об этом боевом искусстве Востока.
У филологов принято определять время появления в языке нового слова, ориентируясь на словари. Год издания словаря, впервые зафиксировавшего новое слово, признается и годом рождения этого слова. Понятно, что при таком довольно условном способе неизбежен разрыв между реальным появлением слова и его словарной фиксацией. Поэтому филологи особенно ценят весьма редкую возможность уловить действительный «день рождения» слова, а не всего лишь его словарную тень. И хотя я был очень далек от специальных языковых исследований, мне выпала удача отыскать то самое – первое употребление слова «джиу-джитсу», точнее его начального варианта. Это не просто появление еще неизвестного слова, но и весьма своеобразная попытка описать то, что стояло за ним. И случай этот не только примечательный, но и довольно забавный. Связан он с именем старинного и полузабытого писателя и большого японофила Лафкадио Херна.
После того, как в середине XIX века правительство Мэйдзи под военным давлением Запада было вынуждено открыть доступ в свою страну «белым варварам», одним из первых смельчаков, воспользовавшихся этим, стал Лафкадио. Живя в Стране Восходящего Солнца, он настолько хорошо познал местные предания о нечистой силе, что написал сугубо мистические новеллы, в которых повествуется о трагических встречах людей с привидениями, духами, женщиной-оборотнем. Новеллы оказались столь близки японским сердцам, что вольная их экранизация фильм «Квайдан» стал классикой японского кино, был номинирован на Оскара и удостоен специального приза жюри Каннского фестиваля.
Писал Херн, точнее: пытался писать, и о японских боевых искусствах, несмотря на то, что здесь его познания не шли ни в какое сравнение с тем, что было ему известно о фольклоре. Так или иначе, но его книга «Очерки неизвестной Японии», вышедшая в свет в Лондоне в девяностых годах позапрошлого века, стала одним из первых свидетельств о джиу-джитсу на Западе, а у нас – самым первым. Книга попала в поле зрения популярной петербургской газеты «Новое время». Это был 1895 год, и в России уже функционировали первые спортивные кружки, насчет которых газеты не скупились состязаться в насмешливом дешевом остроумии («У отца было три сына. Двое – умные, а один – спортсмен». – Это плод как раз такого юмора «высоколобых» заморышей и слабаков!). Особенно доставалось наиболее успешному и известному атлетическому кружку «отца русской тяжелой атлетики» доктора В.Ф. Краевского.
И вот один из присяжных редакционных остряков, скрывшийся под рафинированно-манерным и многозначительным псевдонимом «Петербуржец», посмеиваясь над спортивной молодежью, не смог не «подковырнуть» своим критическим пером и «старого доктора».
«Петербуржец», со слов Лафкадио, поведал читателям о «замечательных достоинствах японской атлетической борьбы, называемой «юютсу» («youyoytsu») в таких словах: «В противоположность французской и римской борьбе, а также английскому боксу, японский «юютсу» есть как бы борьба в поддавки, но только кажущиеся, с девизом «выжидать, чтобы победить». В то время как тренировка всех прочих атлетов направлена к развитию мускулов и устранению жира, тренировка японских атлетов, наоборот, ведет к безобразному ожирению и к увеличению веса атлета. Но это не все. Постепенно жирея, японский атлет должен прилежно изучать анатомию, дабы под жиром противника уметь нащупать слабое место его сложения и в него противника поразить. Жир, таким образом, броня, оборонительное средство борца, анатомия – наступательное. Выступив на арену, японские борцы не сразу начинают бороться: сперва они очень долго и, по-видимому, без всякого насилия ощупывают друг друга, проводя своими толстыми пальцами по жирному телу противника, пробуя сквозь толстый слой жира его связки и мускулы, нащупывая кости. Решительный момент борьбы наступает только тогда, когда один из борцов, более счастливый или более сведущий в анатомии, нащупает какой-нибудь недостаток в противнике: он тогда сразу бросается на него и, пустив в ход свои сильные руки, ломает ключицу, раздробляет пальцами позвонок или производит вывих плеча. Если же, что тоже случается, борец в своем анатомическом диагнозе ошибся или не так рассчитал, то напрасная трата сил при нападении из победителя превращает его иногда в побежденного. Вот что такое «юютсу», который рекомендую вниманию кружка атлетов г. Краевского».
Вы, конечно, уже поняли, что Херн, вероятно, весьма далекий от спорта, живописуя ужасающие кровавые и даже смертоносные повреждения борцов, безбожно путает боевое джиу-джитсу с довольно безобидной борьбой чудовищно толстых мужчин – сумо, в котором вообще запрещены болевые приемы. Тем не менее, именно в таком надуманном и пугающе кровожадном обличий предстало японское джиу-джитсу при первом знакомстве с ним русских читателей.
Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что уже в 1894 г. в своей книге «Взгляд на Восток со стороны», познакомившись с Кано Дзигоро, Лафкадио Херн написал о японской борьбе очень достоверно и интересно…
Исход сражений уже давным-давно перестал решаться в рукопашной схватке, но, как это ни удивительно, японской системе самозащиты джиу-джитсу выпала поистине необычайная судьба… На рубеже XX столетия джиу-джитсу начало свой шумный триумфальный марш по Европе и Америке, привлекая к себе всеобщее внимание, завоевывая признание во всем мире. Его беззастенчиво расхваливали, приписывая прямо-таки фантастические достоинства, которыми оно, естественно, никогда не обладало. Столь же бездоказательно критиковали, отрицая какую бы то ни было пользу и даже в полной запальчивости объявляя японскую самозащиту всего лишь хитроумной мошеннической фальсификацией.
Разумеется, поначалу джиу-джитсу было всего лишь криком моды, и этим без труда объясняется его неумеренно громкий успех. Но проходили годы, десятилетия, а эту систему так и не постиг горький удел любой вчерашней моды – неминуемое и прочное забвение. Какими-то неведомыми путями джиу-джитсу удалось удержать изрядную долю былой популярности. Даже сейчас, через сто с лишним лет, это жестко звучащее экзотическое слово все еще сохраняет свою притягательную магию, свой ореол таинственного «невидимого оружия». И разве сегодня слабосильный обиженный подросток, точь-в-точь как когда-то в начале века его прадед, не мечтает раздобыть книгу секретных и, конечно, совершенно неотразимых японских приемов? При ретроспективном взгляде на первые годы европейского триумфа джиуджитсу представляется, что его раздутая рекламой популярность вспыхнула внезапно, как лесной пожар. Но так только кажется, потому что яркий успех неизбежно затеняет предшествовавшие ему будничные годы, исподволь подготовившие для него благоприятную почву. К тому же предыстория появления джиуджитсу в Европе и Америке совсем не привлекала к себе внимания и осталась почти неизвестной.
Первые по времени сведения, которые европейцы и американцы получили о японской самозащите, имели характер довольно плачевного опыта. А в качестве подопытных лиц выступали подвыпившие моряки, сошедшие на японский берег, или хулиганы, пытавшиеся позабавиться над низкорослым «желтым» в многонациональных американских городах. Но так как джиу-джитсу – все-таки не волшебная палочка, победа в таких конфликтах могла оказаться как у одной, так и у другой стороны. Если одолевал более рослый и крепкий европеец, это воспринималось как само собой разумеющееся. Но вот когда низкорослый и слабый на вид японец ловким броском опрокидывал здоровенного детину или болевым приемом приводил его в совершенно беспомощное состояние, это производило впечатление чего-то необъяснимого. Надолго запоминалось и рождало первые образы легенды о неотразимости таинственных японских приемов. Испытавшие первыми на себе силу джиу-джитсу были, однако, заведомо не теми людьми, которые могли бы его разгадать и, изучив, принести своим соотечественникам. Для своего «наступления» джиу-джитсу ждало других, более благоприятных, обстоятельств и совсем других людей.
Как это ни удивительно, особый интерес к японской самозащите возник в Старом и Новом Свете в связи с военными успехами Японии. Строго говоря, он явился, так сказать, «побочным продуктом», всего лишь следствием, небольшой частью пристального внимания Запада к вооруженным силам Японии молодого, но потенциально опасного империалистического конкурента. Страна Восходящего Солнца проводила ускоренную европеизацию во всех сферах, и особенно в армии и флоте, меньше всего желая разделить грозившую и ей судьбу соседних колониальных и полуколониальных народов. Совсем наоборот: припоздавший японский милитаризм спешил занять свое место среди колониальных держав, стараясь наверстать упущенное в дележе колониальных земель.
В 1894 году японцы затевают войну с Китаем, чтобы обеспечить свое влияние в Корее и на части китайской территории. Результат военных действий стал настоящей политической сенсацией: небольшая Япония наголову разгромила войска огромной полуфеодальной Поднебесной империи. Сейчас это кажется всего лишь комичным, но тогда сенсационную, с точки зрения соотношения сил, победу всерьез пытались объяснить только тем, что японская политика проникнута «коварным духом джиу-джитсу».
Тот же Лафкадио Херн, силясь хоть как-то осознать и разгадать такой ошеломляюще непонятный военный успех, на правах старого знатока Страны Восходящего Солнца растолковывал: «Борьба Японии с Китаем… была таким же «юютсу», в увеличенном только масштабе. В свою дипломатию и политику, в свое войско и флот японцы с успехом перенесли все приемы юютсу; в военных действиях и внешних сношениях японцы усвоили себе тактику терпеливого выжидания и кажущейся уступчивости, чтобы вернее добиться победы; отменно прилежными анатомами изучили они… административную и военную организацию Китая. Они нашли и тщательно отметили все слабые места Китайской империи. По этому огромному рыхлому телу японцы, проведя ряд сильных ударов, искусно подготовленных и ловко нанесенных, одолели противника».
Херн был всего лишь дилетантом в политике, но ему вторили и профессионалы. Такие, как опытный немецкий ученый Эрнест фон Гессе-Вартег, который в своей книге «Япония и японцы» посвятил джиу-джитсу специальную главу, говоря: «Японское слово джиуджитсу знакомо, наверное, очень, немногим… Но это странное, незнакомое слово очень скоро станет, вероятно, известным и в Европе, потому что джиуджитсу – это ключ к уразумению характера японского народа в его отношении к чужим странам; в этом слове – тайна успеха этой удаленной за тысячи миль от Европы страны. Джиуджитсу – значит: «победить подчинением»».
Какими заумными ни казались бы эти квазиполитические элоквенции, но рост интереса к джиу-джитсу по мере японских военных успехов был очевидным фактом.
И снова рекламе японской системы самозащиты и физического воспитания служит очередной военный конфликт. Выплата непомерно большой контрибуции победителю усугубила и без того тяжелое положение нищего Китая. И в самом конце девяностых годов там яростно вспыхнуло народное Ихэтуаньское восстание, несколько неожиданно названное европейскими историками «Боксерским». Случилось так, потому что восстание возглавили общества Ихэцюань («Кулак во имя справедливости и гармонии») и Дацюаньхуэй («Общество большого кулака»). И изображение кулака украшало знамена повстанцев, а в английском сознании кулак твердо ассоциировался только лишь с боксом. Они и нарекли восстание «Боксерским». Вероятно, по аналогичной причине китайские боевые искусства тоже поначалу получили неточное европейское название «китайский бокс». Однако поднятый на знамена кулак был отнюдь не боксерским, а чисто китайским – символизирующим древнее национальное боевое искусство.
Руководящее общество Ихэцюань считалось прямой наследницей старинной религиозной секты Байляньцзяо («Учение Белого лотоса»), прославившейся своей борьбой за независимость Китая с маньчжурскими завоевателями.
Фанатичные ушуистские главари, идеологи восстания, внушали своим приверженцам, что с помощью магических заклинаний те обретут сверхъестественные способности, в первую очередь – неуязвимость не только от холодного, но и от огнестрельного оружия. Эта слепая фанатичная вера очень дорого стоила доверчивым повстанцам. Считая виновниками всех своих бед иностранцев – «белых дьяволов», они начали беспощадно убивать их. Шесть европейских держав, США и Япония немедленно направили свои войска в Китай и жестоко подавили восстание. И вот тогда-то на китайской земле военные специалисты обратили серьезное внимание на отличную физическую подготовку и большую выносливость японских солдат по сравнению с европейскими и американскими.
Дело в том, что европейцы понимали джиу-джитсу не только как самозащиту, но как экзотическую и совершенно незнакомую в Европе систему физического воспитания, составлявшую некий здоровый образ жизни. Именно так джиуджитсу и рекламировалось: «источник японской силы», «система физического развития и атлетики», «наука о здоровом человеке, методическое укрепление тела и атлетические приемы японцев». Действительно, в издававшихся руководствах приводились некоторые рекомендации о рациональном питании, элементарной дыхательной гимнастике на свежем воздухе («глубоком дыхании»), своеобразном осторожном закаливании и прочих гигиенических элементах.
Однако, несколько забегая вперед, можно утверждать, что здесь ничем особо новым удивить европейцев японцы не смогли, так как сами являлись всего лишь учениками тех же европейцев и в области физического воспитания. Вполне естественно, что все эти гигиенические рекомендации отпали сами собой. А вот боевые приемы безоружной борьбы оказались весьма к месту и в Старом, и в Новом Свете.
Но все это наступит позднее, а тогда, во время подавления «Боксерского восстания», западных военных специалистов не могла не удивить поразительная выносливость низкорослых и на вид слабосильных японских солдат, живущих, в основном, на скудном рисовом пайке. Однако же в походе на Пекин эти «слабосильные» японские пехотинцы с полной боевой выкладкой без труда одолевали в полтора раза большие расстояния, чем их «белые» коллеги. Именно это и стало причиной того, что интерес к японской системе физического развития и самозащиты получает практическое разрешение.
В один из сырых и туманных сентябрьских дней 1899 года на дебаркадер шумного лондонского порта сошли с парохода два молодых низкорослых, но коренастых японца: Тани Юкио и его брат, которым довелось стать пионерами европейского джиу-джитсу. Японская система начинает преподаваться в Главной военно-гимнастической школе и учебном заведении Королевского военноморского флота. Одна за другой открываются в Лондоне и респектабельные частные школы: на площади Пикадили, на Оксфорд-стрит, в Политехническом институте. И очень скоро вслед за братьями двинулись на Британские острова и другие сэнсэи.
Японские борцы, гастролировавшие в Европе, демонстрируют свое атлетическое сложение. Фото из немецкого спортивного журнала. 1901 год
