Родословная Самбо
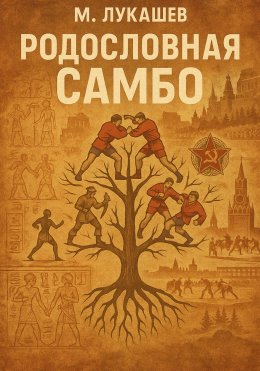
Глава 1 ВМЕСТО ПРОЛОГА
Когда Исао Окано вышел на татами, десять тысяч зрителей устроили ему настоящую овацию. Это было не удивительно, ведь у Окано целая коллекция высших спортивных титулов: абсолютный чемпион Японии, чемпион Олимпийских игр 1964 года, чемпион мира… Он стоял напротив Бориса Мищенко очень спокойный, не сомневающийся в успехе.
О достоинствах противника Борис имел представление и, конечно, не мог быть абсолютно уверенным в своей победе, но он твердо знал, что для чемпиона мира это в любом случае не будет легкий выигрыш. Несмотря на еще непривычные ему условия дзюдоистской схватки, Борис был полон решимости вести борьбу без оглядок на высокие звания Окано.
Едва прозвучала команда судьи к началу схватки, как Окано начал легко и стремительно кружить вокруг Мищенко. Невысокий, с необъятно широкими плечами, он держался прямо, настороженно, выставив вперед готовые к захвату большие короткопалые руки. Выбрав момент, мгновенно захватил борта кимоно Мищенко, и тот почувствовал в хватке Окано такую мощь, которая даже не снится простачкам, верящим, что в дзюдо не нужна физическая сила.
Настойчиво осуществляя свой тактический замысел, Окано стал отходить к углу татами, увлекая за собой Мищенко. И тогда чутьем, без которого просто немыслим большой мастер борцовского ковра, Борис понял, что именно сейчас, в это мгновение нужно провести прием. Оборона неминуемо обречет на поражение. Имея инициативу, Окано наверняка реализует ее. Только лишь нападение, решительное и агрессивное, может сломать его планы. К тому же сейчас, когда Окано поглощен подготовкой решительной атаки, он психологически наиболее уязвим. Думая о нападении, чемпион невольно ослабляет бдительность в защите.
Действия Мищенко в конечном счете были определены этими громоздкими выкладками, но в ту секунду его мозг сработал как точно запрограммированная электронно-вычислительная машина, в одно мгновение выдав тактически верное решение.
И он тотчас стремительно опустился на татами, подбив ногу Окано и увлекая его за собой. В ту долю секунды, когда, потеряв равновесие, японец падал, Мищенко, действуя только ногами, успел перевернуть его в воздухе так, что тот упал на спину, а его рука оказалась крепко зажатой ногами Бориса. Перегибая руку соперника в локтевом сгибе, наш борец мгновенно провел болевой прием.
Помешала ли Окано гордость или просто все произошло ошеломляюще быстро, но чемпион мира не произнес рокового слова «маита» – «сдаюсь». Он только громко вскрикнул от боли, и Мищенко тотчас отпустил его руку.
Объективные и знающие толк в дзюдо японские болельщики по достоинству оценили эту красивую победу и приветствовали Бориса даже еще более бурно, чем его именитого соперника перед началом схватки. И конечно, не только в Осака, где в 1967 году проходила матчевая встреча советских и японских дзюдоистов, но и по всей Японии газеты печатали фотографии, кинограммы и оживленно комментировали сокрушительное поражение чемпиона мира всего лишь на двадцатой секунде схватки…
Как это ни странно, но отнюдь не дзюдо было основной спортивной специальностью «цеэсковца» – старшего лейтенанта Мищенко, свои симпатии он отдавал борьбе самбо. Дзюдо Борис начал осваивать всего лишь «по совместительству». В 60-х годах возникла необходимость защищать спортивную честь страны в этом малоизвестном тогда у нас экзотическом японском единоборстве. Лучше всех, разумеется, это могли сделать самбисты, имевшие необходимую подготовку. Сильнейшие из них и вышли тогда на татами, облачившись в еще непривычные японские кимоно и длинные брюки. Среди них, естественно, оказался и двукратный чемпион Советского Союза Мищенко.
И прием, которым он поверг прославленного японского чемпиона, – подготовленный из стойки рычаг локтя с захватом руки между ногами, – тоже был разработан в творческой лаборатории борьбы самбо. Дзюдоистам он был тогда незнаком и непривычен. Техника борьбы лежа, и особенно подготовки и исполнения болевых приемов, в дзюдо уступала тому, что было известно в борьбе самбо.
Многими ценными качествами наделяет самбо своих верных последователей. Это динамичное, увлекательное единоборство прочно завоевало сердца многих тысяч спортсменов и в Советском Союзе, и за рубежом.
Самбо родилось в нашей стране в результате творческих исканий советских тренеров и спортсменов. Советское по рождению и интернациональное по самой своей сущности, оно объединило тысячелетний опыт разных народов в области борьбы и самозащиты. В спортивном самбо может быть использован любой прием любого национального или международного вида борьбы, а его боевой раздел включает лучшие достижения различных систем самозащиты. Такой широкий принцип отбора приемов позволил сформировать богатейший технический арсенал самбо, который вполне заслуженно называют «невидимым оружием». Оружием, которое всегда с собой.
Борьба самбо – один из молодых наших видов спорта, однако едва ли можно найти какой-либо другой, чья история была бы столь же интересной, но вместе с тем сложной и запутанной.
Самбо произрастало не из одного, а сразу из нескольких корней, порой совсем разнородных. Даже само название нашей борьбы, как и ее отдаленных прототипов, неоднократно изменялось как будто бы специально для того, чтобы усложнить труд будущих историков спорта: «самозащита», «самоз», система «сам», «самбо», «вольная борьба», «борьба вольного стиля», «вольная борьба самбо» и только затем – привычное нам «борьба самбо».
Точно так же существует и несколько вариантов исчисления возраста этого вида единоборства. Одни склонны начинать историю самбо с ноября 1938 года, когда оно было официально введено в число культивировавшихся тогда в Советском Союзе видов спорта. Другие вполне резонно замечают, что состязания по этой борьбе проводились и ранее осени 1938 года, а складывалась она уже в начале 30-х. Третьи же справедливо указывают на то, что прообраз самбо стал формироваться еще ранее – в начале 20-х годов.
При этом, говоря о рождении самбо, его возникновение, как правило, связывают с именами различных наших спортивных специалистов. Традиционно считается, что у колыбели самбо стоят три выдающиеся личности: В. А. Спиридонов, В. С. Ощепков и А. А. Харлампиев. Действительно, деятельность каждого из них – целый этап в становлении этой борьбы. И все-таки было бы неправильно рассматривать историю создания самбо в первую очередь под углом личностного вклада этих замечательных деятелей советской физической культуры. Их заслуги несомненны и поистине огромны. Тем не менее подобный внеисторический подход неминуемо скроет от нашего внимания два весьма важных обстоятельства. Во-первых, и это самое главное, такая деятельность осуществлялась не просто в силу замысла какого-то одного лица, а в тесной связи и под непосредственным воздействием определенной внутри- и внешнеполитической обстановки. Ее порождал именно «социальный заказ» данного времени. И заказ этот, всегда направленный на достижение поставленных партией и правительством целей, имел задачей помочь в решении проблем, возникавших перед нашей страной в различные периоды ее истории. В этом мы с вами еще не раз убедимся.
Во-вторых, в реальной действительности работа по созданию нового вида борьбы на любом этапе непременно принимала коллективный характер. В ней, разумеется, в разной степени, участвовало множество людей.
Известный советский ученый, академик Б. А. Рыбаков очень точно заметил, что каждое поколение историков строит свой новый этаж в величественном здании истории нашей Родины. Такой же точно процесс происходил и при создании борьбы самбо: каждое поколение спортивных специалистов, тренеров и самих спортсменов возводило очередной этаж в этом сложном спортивном сооружении. Одним удалось построить целую крепкую стену, другие смогли заложить всего лишь один-два кирпичика. Но при этом творческие усилия каждого неизменно служили на благо общему делу, неизменно продвигали вперед нелегкий процесс создания, становления, а затем и постоянного совершенствования нового увлекательного единоборства.
Несколько лет назад в одной из своих книг я рассказал об удивительном хитросплетении обстоятельств, в которых сформировалось и само самбо, и даже представления о его рождении. Книжка была рассчитана только на молодежь, и меня немало удивило, что она всерьез заинтересовала многих ветеранов этого вида спорта – тех, кто внес немалый личный вклад в дело пропаганды, широкого распространения и совершенствования его. И самое главное, что интерес ветеранов имел отнюдь не пассивно-теоретический характер. Вовсе нет! Они поднимали свои личные архивы, обращались в государственные хранилища старых документов, отыскивали своих бывших коллег по спорту, которых осталось, к сожалению, совсем немного, списывались с музейными работниками даже таких отдаленных местностей, как остров Сахалин. И совсем не удивительно, что им удалось обнаружить целый пласт новых и очень ценных документов. Материалы, поднятые ими «на-гора», оказались на редкость интересными. Они позволили мне не только существенно уточнить и расширить уже имевшиеся у меня сведения, но и открыть совершенно неизвестные ранее факты. Все это дало возможность заново и со значительно большей точностью проанализировать биографию самбо.
Материалы, относящиеся к истории самбо, я отыскиваю и изучаю уже несколько десятилетий, собрал уже немало ценных данных, но, положа руку на сердце, скажу, что в одиночку я никогда не достиг бы того, что помогли мне сделать доблестные и бескорыстные рыцари истории самбо. Вот почему и считаю приятной обязанностью выразить свою искреннюю и глубочайшую благодарность чемпионам СССР «первого призыва»– мастеру спорта А. А. Будзинскому, который собрал уже целый музей самбо, заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру СССР, профессору Е. М. Чумакову; ветеранам самбо: заслуженному тренеру СССР Н. М. Галковскому, заслуженному тренеру СССР В. М. Андрееву; одному из основоположников ленинградского самбо и неоднократному чемпиону этого города А. М. Ларионову, кандидату педагогических наук Б. А. Сагателяну, первому московскому ученику Ощепкова – В. В. Сидорову, старейшему ди намовскому самбисту В. С. Харитонову, а также знатоку истории самбо, энтузиасту Л. С. Матвееву.
Однако, прежде чем начать повествование о всех перипетиях рождения самбо, давайте сначала окинем взглядом не только его отдаленные истоки на нашей почве, но еще и то, как исторически складывалось искусство самозащиты и что представлял собой его международный уровень к концу прошлого – началу нынешнего века. То есть к тому времени, с которого я поведу свой основной рассказ непосредственно о биографии самбо.
Обычно, когда речь заходит о существующих в мире прикладных видах борьбы и системах самозащиты, то называют лишь исключительно японские – джиу-джитсу, сумо, дзюдо, ниндзядо, айкидо, каратэ или родственные ему китайское кун-фу и корейское таэквондо. Благодаря многолетней и не слишком скромной рекламе японские системы оказались больше всего известными широкой публике. Мне не раз приходилось даже слышать такой недоуменный вопрос: «Но почему же именно японцам и только японцам удавалось изобретать эффективные боевые приемы?!» И на это я всегда отвечаю так: «Потому что не только и не именно».
Ведь в действительности каждый народ на определенных этапах своего исторического развития непременно создавал приемы борьбы, обезоруживания, которые были жизненно необходимы в бесчисленных войнах, междоусобицах и случайных схватках. Немало таких приемов родилось задолго до появления японских систем и нередко даже в значительно более целесообразных вариантах.
Для того чтобы наглядно убедиться в этом, давайте совершим путешествие по различным эпохам и странам, вообразив себя в любимом средстве передвижения авторов научно-фантастических романов – машине времени.
Древний Египет. Время, отдаленное от нас более чем четырьмя тысячами лет. Под палящим тропическим солнцем, утопая по щиколотку в раскаленном песке, Камес – начальник отряда копейщиков вел своих людей краем Нубийской пустыни. Нубийские племена совершили набег на южно-египетские селения, и Камее получил приказ найти и разгромить один из отрядов врага. Весь день продолжалось преследование, и только к вечеру они увидели частокол нубийских копий за отдаленным барханом.
Заметив преследователей, нубийская ватага с криками ринулась на них. Впереди всех бежал богатырского сложения предводитель, размахивая тяжелой палицей. По деревянным обитым шкурами щитам египтян забарабанили швыряемые нубийцами камни. Камее успел построить своих воинов в плотную боевую шеренгу, но очень скоро общая схватка распалась на отдельные очаги рукопашного боя. Начальник отряда сражался рядом со своими копейщиками, от метких и сильных ударов его булавы с каменным навершием – знаком воинского достоинства – упал уже не один враг. Вот только последнего мощного удара не выдержало древко старой булавы и сломалось. Камес бросился к валявшемуся на песке египетскому копью с медным наконечником, но чья-то огромная босая ступня наступила на древко и не позволила поднять оружие. Камес вскинул голову и увидел над собой вождя нубийцев. Силач замахивался своей огромной палицей, а левой рукой пытался схватить Камеса, чтобы не дать тому увернуться от смертельного удара. Но Камес и не собирался бежать. Он крепко схватил за запястье протянутую к нему ручищу богатыря, повернувшись к нему спиной, забросил ее на свое плечо и резко наклонился. Ноги нубийца описали в воздухе широкую дугу, и он тяжело грохнулся о землю. Выпавшая из руки дубина отлетела в сторону.
В этот момент, когда Камесу уже казалось, что он спасен, другой нубиец сзади схватил его, крепко прижав руки к бокам. Но начальника копейщиков даже безоружного не так-то просто было захватить в плен. Он умело зацепил своей ногой ногу нападавшего и опрокинул его навзничь. Однако на помощь товарищу уже бросился еще один нубийский воин. Уж очень заманчиво было взять в плен вражеского начальника, и мускулистый нубиец, наскочив на Камеса спереди, как клещами ухватил его за руки повыше локтей. Камее сразу почувствовал мощь хватки врага и не стал вырываться. Наоборот, он поддался напору нападавшего, быстро сел на песок, а затем повалился на спину, упершись в то же время ногами в живот нубийца и использовав его же собственный натиск, с силой перебросил через голову. Мгновенно вскочил на ноги и наконец смог поднять с песка то самое, спасительное копье…
Вы, конечно, вправе спросить: а насколько достоверна нарисованная мною картина? Стычки древних египтян со своими южными соседями – нубийцами были самым обычным явлением на протяжении многих столетий, но имена начальников отдельных египетских отрядов и иные сведения о них до нас, разумеется, не дошли. Так что мне пришлось просто вообразить себе такого человека, но вот все приемы, которые использует в опасной схватке мой Камес, абсолютно достоверны и являются именно теми, какие действительно знали в Древнем Египте.
Дело в том, что у египетского селения Бени-Хасан археологи раскопали гробницу, относящуюся к третьему тысячелетию до нашей эры. Настенная живопись гробницы воспроизводит батальные сцены. Кроме того, она донесла до нас более трехсот изображений борющейся пары – египтянина и чернокожего атлета. И тот и другой проделывают самые разнообразные приемы, которые и сейчас можно встретить в различных видах борьбы и самозащиты. Эти изображения позволили ученым сделать вывод, что борьба с применением ударов и болевых приемов являлась составной частью боевого искусства Древнего Египта. И именно этой настенной живописью руководствовался я, давая описание приемов, использованных Каме- сом в бою с нубийцами. А теперь давайте пересечем Средиземное море и перенесемся на два тысячелетия ближе к нашему времени так, чтобы из Древнего Египта попасть в античную Грецию VI века до нашей эры…
Среди беломраморных статуй и колонн афинского гимнасия, посвященного Аполлону Ликийскому, идут два человека. Один из них, крепкий еще старик в белом хитоне и голубом плаще, мудрый греческий законодатель Солон. Другой, в рубахе из овечьей шкуры, – явно варвар, как называли греки чужестранцев. На поясе у него короткий скифский меч-акинак. Это скиф Анахарсис, проделавший далекое и опасное путешествие, чтобы узнать и понять обычаи просвещенных эллинов, познать их законы.
Солон и скиф пришли в гимнасий в тот момент, когда ученики готовились к атлетическим упражнениям. Раздевшись донага и весело переговариваясь, эти мускулистые статные юноши начали растираться оливковым маслом.
Потом руководитель разделил их на три группы, одна из которых направилась в помещение, где на полу изумленный скиф увидел толстый слой жидко замешенной глины. Однако юноши отнюдь не собирались лепить из нее остродонные сосуды – амфоры. Нет, они занялись делом, казалось бы, менее всего подходящим для этого места: разбившись на пары, стали бороться. Начинали схватку они, низко наклонившись и даже упершись головой о голову. («Бодаются совсем как бараны»,– подумал скиф, но мы с вами сразу бы вспомнили, что видели нечто подобное и на современном борцовском ковре). Схватки протекали скоротечно: один из борцов сделал подножку, другой подхватил соперника под коленки и опрокинул в жидкую грязь. Тот попытался подняться, однако победитель навалился на пего и снова опрокинул. Неудачник, барахтаясь в глине, всеми силами старался освободиться, но партнер сел ему на спину, крепко обхватил его талию обеими ногами и, захватив шею в локтевой сгиб, начал душить. А после этого соперники как ни в чем не бывало поднялись на ноги и снова вступили в единоборство.
Другая группа юношей занималась тем же самым, но уже во дворе и не на жидкой глине, а на чистом сухом песке, которым они обильно посыпали свои обнаженные тела перед тем, как начать борьбу друг с другом.
Но совсем уж удивительные вещи делали атлеты в третьей группе. Тоже разбившись на пары, они вступили в беспощадный рукопашный бой. Слышалось лишь горячее дыхание бойцов и звуки ударов руками и ногами. От точного удара кулаком в челюсть на лице одного из юных бойцов кровь перемешалась с песком.
«Сейчас бедняге придется выплюнуть десяток выбитых зубов», – сочувственно подумал Анахарсис, но юноша по-прежнему уверенно продолжал бой и, подпрыгнув, ответил партнеру точным ударом ноги в живот. А в стороне паренек, которому не хватило пары, высоко подпрыгивал и наносил удары ногой в воздух.
И опять, наверное, мы с вами подивились бы, сравнив такие удары с приемами кун-фу или каратэ, но простодушный скиф уже не выдержал и взволнованно спросил у Солона:
– Эти несчастные юноши, наверное, безумны? Ведь я видел сам, как по-дружески помогали они один другому умащивать тела маслом, а потом вдруг ни с того ни с сего начали терзать друг друга, валяясь, словно свиньи, в грязи и совсем не жалея истраченного масла. Или колошматить на песке, где надзиратель, вместо того чтобы разнять их, громко восхваляет каждый удачный удар. Зачем позорят они свою стать и красоту?!
– Нет, это не безумцы, и действительно бьются они не со зла,– улыбнулся Солон. Ты сильный и ловкий человек, и, я думаю, если подольше побудешь в Греции, то и сам станешь одним из таких испачканных глиной и песком, настолько приятным и полезным покажется тебе это занятие.
– Ну нет, если бы кто-нибудь посмел поступить так со мной, он тотчас бы убедился, что я не зря опоясан акинаком! —горячо возразил скиф, но Солон продолжал:
– Они умащивают тело маслом, потому что это полезно для кожи. Борются в жидкой глине, так как от этого тело делается скользким и держать соперника очень трудно. Это дает навык особенно сильно и умело схватывать. Песок же, наоборот, делает тело сухим и позволяет держать партнера более прочно, так что очень трудно вырваться. Это научит юношей освобождаться от самых крепких захватов. Еще они учатся падать, не причиняя себе вреда, легко подниматься на ноги и легко переносить, когда их сжимают руками, гнут и душат, а также сами учатся бросать противника.
Панкратион же, так мы называем кулачный бой, в котором разрешены удары ногами, подножки и выламывание рук, дает навык наносить сильные и точные удары, а также терпеливо сносить их. Мы обучаем юношей самому трудному, чтобы потом им было легко.
Конечно же, вступив в рукопашный бой с врагами, привычный скорее вырвется и сделает подножку или, оказавшись под врагом, скорее сумеет встать на ноги. Я думаю, ты понимаешь, Анахарсис, насколько хорош будет в доспехах и с оружием тот, кто даже нагой способен внушать ужас противнику. Кроме того, благодаря этим упражнениям наши юноши здоровы и очень выносливы в трудах. Более всего мы стараемся, чтобы наши граждане были прекрасны душой и сильны телом: ибо именно такие люди хорошо живут вместе и во время войны спасают государство, охраняют его свободу и счастье.
Вот почему, Анахарсис, я прежде всего привел тебя в гимнасий…
И снова должен сказать тебе, мой читатель, что эта сцена в афинском гимнасии отнюдь не выдумана мною, а взята в точности из произведения известного античного писателя Лукиана «Анахарсис, или об упражнении тела», в котором именно так описаны изучавшиеся юношами приемы.
И как бы мы ни меняли маршрут машины времени, путешествуя по древнему миру, везде встретим боевые атлетические единоборства. Вавилон оставил нам высеченные на камне барельефы кулачных бойцов и борющихся атлетов. На острове Крит кулачный бой существовал еще ранее, чем в Древней Греции, и кулачные бойцы там тоже принимали стойку, похожую на положение воина в бою: левая рука, словно щит, разрушала атаки соперника, а правая наносила удары. Наскальные изображения в Тассили донесли до нас упражнения древних африканских племен, среди которых также практиковались и борьба, и кулачный бой – даже в своеобразных перчатках.
Так было везде, и если бы мы не только пересекли Средиземное море, но еще переплыли Тихий океан, то убедились бы, что одни туземцы Океании устраивали празднества, непременной частью которых являлась борьба, а другие состязались в кулачном бою. Что еще не вышедшие из рамок родового общества аборигены Австралии признавали мужчиной лишь того юношу, который наряду с иными полезными навыками овладевал и искусством борьбы. А ряд приемов союза ирокезских племен был настолько хорош, что американские переселенцы стали использовать их в своей разновидности вольной борьбы, вывезенной из Англии.
Конечно же мы не можем не побывать в Древней Руси. И снова былины, сказания и расцвеченные затейливыми буквицами пергаментные страницы летописей донесут до нас немало и боевых, и спортивных приемов, которыми в совершенстве владели наши предки. Былины, наш героический древний эпос, воспевающий многовековую кровавую борьбу с разбойничьими набегами беспощадных диких кочевников – «поганых», буквально пестрят описаниями ловких бросков, использовавшихся в богатырских единоборствах. «Спущать с носка», – то есть сделать переднюю подсечку, «взять на косу бедру» – бедровый бросок, «согнуть корчагою» – силовой прием с обхватом туловища спереди, обратный захват туловища, бросок захватом обеих ног, подхват, удержание верхом и уход от него – все это хорошо знали и сноровисто проделывали, повергая ворогов наземь, добрые молодцы русских былин.
А вот одно из летописных описаний приема обезоруживания врага.
Тихой июньской ночью 1174 года по каменным ступеням винтовой лестницы в башне княжеского замка в Боголюбове осторожно, стараясь не шуметь, поднимались вооруженные мечами и копьями люди. У дверей опочивальни князя Андрея Боголюбского они приостановились и чутко прислушались к ночной тишине: все спокойно. Значит, никто не подозревает о задуманном вероломном убийстве, и никто не помешает им. Князь спит один, а его оружие предатель-слуга еще загодя тайно вынес из опочивальни. Высадить дверь было минутным делом, и вскочивший с постели
Андрей уже окружен вооруженными изменниками. Но одинокий и безоружный князь, осыпаемый со всех сторон ударами, вовсе не подумал просить пощады. Бывалый воин, он с голыми руками отважно вступил в такую неравную и ставшую последней в его жизни схватку. Уже раненый, умело уклоняясь от ударов вражеского оружия, он ловким приемом обезоружил близстоящего изменника и так сноровисто рубился с толпой заговорщиков, что, уходя, пришлось им одного своего товарища даже уносить на руках…
Ну а какой же вклад в развитие борьбы внесла средневековая Центральная Европа? Пожалуй, лучше всего оценить его позволил такой факт. Когда в Германии в конце прошлого века решили выпустить руководство по самозащите без оружия, то совершенно неожиданно пришли к выводу, что наиболее эффективные, многочисленные и разнообразные приемы содержатся в одной средневековой книге. И вот в Берлине в 1887 году в качестве наиболее современного и практичного пособия по самозащите «на пользу и благо всем германским турнерам» (то есть гимнастам) выпускается без каких-либо изменений и даже без комментариев книга старого немецкого мастера борьбы и самозащиты Фабиана фон Ауэрсвальда «Искусство борьбы. Восемьдесят пять приемов», впервые увидевшая свет еще в 1539 году и давным-давно превратившаяся в антикварную редкость. Это был единственный в своем роде случай во всей мировой книгоиздательской практике.
Каким это ни покажется невероятным, но выпуск этой «новинки» трехсотпятидесятилетией давности стал безусловно прогрессивным явлением в развитии искусства самозащиты. Ведь старый английский бокс предлагал только технику ударов кулаками и две-три подножки; французская борьба уже приобрела условно-спортивный характер и обладала не очень большой прикладной ценностью. А с японскими приемами Европа в то время еще не была знакома. Да стоит и сказать, справедливости ради, что старик Фабиан по действенности и разнообразию приемов не только не уступал японцам, но, пожалуй, даже порой превосходил их.
Когда основоположник европейского дзюдо японский преподаватель Г. Коизуми ознакомился с работами Ауэрсвальда и других средневековых европейских гроссмейстеров борьбы, он не без удивления констатировал в своей книге: «В XVI веке в Европе знали джиу-джитсу». Для японского дзюдоиста любой прием самозащиты воспринимался только как джиу-джитсу и ничего более, но то, что он видел на гравюрных листах старинных книг, не только не являлось знаменитым японским «утонченным искусством ловкости», но и вообще не имело с ним никакой связи. Европейцы в те годы не знали, да и не могли ничего знать о японских боевых системах, ведь даже о самой Японии они если и имели представление, то самое туманное.
Лет шестьдесят назад по этому поводу вспыхнула горячая дискуссия. Некий доктор Фогт в средневековых книгах и манускриптах Мюнхенской библиотеки отыскал сотни изображений боевых приемов. Обнародовав их, доктор со всей ученой компетентностью доказывал не только полную самостоятельность и независимость европейских систем самозащиты, но и их приоритет по сравнению с японской.
Не знаю, право, была ли нужда в таких доказательствах. Когда вспоминаешь не слишком счастливую, полную войн и кровавых раздоров историю средневековой Европы, то становится ясно, что никак не могли европейцы сидеть и ждать, когда привезут им из неведомой Страны восходящего солнца столь необходимые во всех жестоких схватках приемы самозащиты.
Мы знаем, что в средние века практиковались турниры вооруженных и облаченных в латы рыцарей, но существовали еще и не менее популярные борцовские турниры, в которых в основном участвовали горожане, простонародье. Приемы на этих состязаниях были нередко жестокими, сегодня их ни в коем случае не допустили бы на борцовском ковре, а отнесли бы к боевым приемам самозащиты. Таких действенных приемов немало было разработано и бережно сохранялось мастерами как ценное наследие.
И нет ничего удивительного, что в числе первых печатных книг оказалось руководство под названием «Борьба», которое вообще стало самой первой спортивной книгой в мире. Его еще в 1511 году напечатал в собственной типографии в городе Ландегут (Нижняя Бавария) некий Ганс Вурм. Он правильно рассчитал, что спрос на такую книгу будет немалый. Вслед за этой первой книгой увидела свет уже упомянутая работа Фабиана фон Ауэрсвальда, выпущенная в университетском городе Виттенберге с отличным гравированным портретом автора на фронтисписе и с множеством гравюр, изображающих исполняемые им приемы.
Затем страсбургский преподаватель фехтования Иохим Мейер опубликовал толстенный том «Подробное описание благородного искусства фехтования», на страницах которого можно было видеть почтенных средневековых бородачей, с хитроумными уловками выкручивающих руки своих противников, дабы отнять у них кинжал, нож, дагу или повергнуть наземь в безоружном единоборстве.
Словно стараясь превзойти своего страсбургского коллегу, почти одновременно с ним на суд читателей представил свою работу итальянец Сальватор Фабрис, глава фехтовального ордена Семи сердец, владевший не только всеми тонкостями боя на шпагах, но и многими замысловатыми приемами обезоруживания.
Наконец, в 1674 году прославленный голландский мастер борьбы Николас Петтер выпустил в Амстердаме руководство с многозначительным названием «Искусный борец». Эта интереснейшая книга была заключительным аккордом в средневековом искусстве самозащиты. После этого оно явно пошло на убыль, стало забываться.
Но самой интересной работой в этом блестящем параде средневековых учебников борьбы стала обширная рукопись, найденная почти двести лет назад в одной из старинных монастырских библиотек профессором Вроцлавского университета Иоганном Бюшингом. Ни мало ни много сто двадцать рисунков, изображающих приемы борьбы, и восемьдесят, воспроизводящих технику фехтования, содержалось в этой рукописи. Этот факт, сам по себе достаточно любопытный, приобрел особое значение, когда ученые установили, что не только искусно выполненные иллюстрации, но и сам текст рукописи сделан рукой великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Великолепные работы Дюрера, на которых с большим знанием дела изображались самого различного рода доспехи и оружие, были известны давно. Теперь можно было утверждать, что художник отлично разбирался и в тонкостях использования «невидимого оружия» – приемов самозащиты, изображенных им с полным пониманием всех их особенностей.
Глубина познаний Дюрера давала все основания предполагать, что художник не был лишь теоретиком в этой области. И действительно, сейчас уже есть сведения, что сильные руки художника умели не только держать кисть или карандаш, но могли еще и искусно проделать самый хитроумный прием. Оказалось, что Дюрер участвовал в турнирах борцов и даже выходил из них победителем.
Когда император так называемой Священной Римской империи Максимилиан I увидел, насколько искусен художник в борцовском поединке, он предложил Дюреру запечатлеть на бумаге все тонкости фехтовального и безоружного единоборства. И Дюрер вы полнил этот немалый, труд, создав в 1512 году обширную рукопись и собственноручно проиллюстрировав ее. А после этого рукопись три столетия пролежала в безвестности на библиотечных полках. Едва ли это было случайностью, ведь наиболее действенные приемы боя должны были составлять тогда своего рода военную тайну и хранили их в секрете. Ничего удивительного в этом, конечно, не было. Уж очень существенную роль играли они в то время.
Даже сейчас, в современной цивилизованной жизни конца XX века, боевые приемы все еще не утратили своего прикладного значения. В беспокойной же древности и столь же неспокойном средневековье они вообще являлись насущно важным боевым средством наравне с оружием. Приемы широко использовались не только в безоружных единоборствах, но и в схватках вооруженных противников, где фехтовальные атаки активно дополнялись ударами ноги, подножками, а левая невооруженная рука проводила сковывающие захваты и обезоруживание. Но конечно же особое значение приемы приобретали там, где безоружный противопоставлял их вооруженному противнику. Здесь они выступали в качестве единственного средства, спасающего жизнь человека, который попал, казалось бы, в совершенно безнадежное положение.
Над полем боя стоял тогда, по выражению летописца, «треск от ломления копий»; копья ломались в самом буквальном смысле этого слова. В изнурительно долгих сечах тупились и переламывались клинки мечей и сабель, оставляя бойцов безоружными… А на пустынной ночной дороге перед одиноким путником возникали вдруг темные силуэты вооруженных грабителей… И всякий раз на помощь безоружному приходили надежные приемы: броски, удары, выкручивания рук. Приемы эти разрабатывались годами, а потом передавались из поколения в поколение как грозное и секретное невидимое оружие. И конечно же приемы самозащиты точно так же, как и борьбы, не были изобретены каким-то одним якобы особенно одаренным в этой области народом, они существовали всегда, в любой стране и в любую эпоху.
Возьмите, например, такой известный прием, как бросок захватом двух ног. Даже вкратце представив себе почтенную родословную этого простого, но достаточно эффективного броска, вы убедитесь не только в его глубочайшей древности, но и достаточно широкой интернациональной популярности. Впервые его изображение появляется на фресках гробницы Бени- Хасана, то есть относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Но это, разумеется, всего лишь первая документальная фиксация приема, родился он намного ранее.
Читая приведенное выше описание упражнений в древнеафинском гимнасии, вы, наверное, заметили, что и его ученики хорошо знакомы с броском захватом двух ног.
А вот как римский писатель Апулей (II век и. э.) описывает схватку на большой дороге, когда римский легионер пытается ограбить крестьянина-огородника, и тот, видя, что никакие увещевания не помогают, вынужден вступить в схватку с вооруженным солдатом: «…сделав вид, словно для того, чтобы вызвать сострадание, что он хочет коснуться его (солдата – М. Л.) колен, он приседает, нагибается, схватывает за обе ноги, поднимает их высоко вверх – и солдат с грохотом шлепается наземь. И тотчас хозяин мой принимается колотить его по лицу, по рукам, по бокам, работая кулаками и локтями…»
На средневековых рыцарских гербах можно видеть самые различные образцы оружия того времени, но наряду с ними вы найдете и изображение того известного с древности приема, который теперь по достоинству занял место в одном ряду с арбалетами, копьями, мечами. На геральдическом щите герба – два закованных в латы воина. Один из них замахнулся мечом на второго – безоружного. Но тот не спасовал в минуту смертельной опасности и, наклонившись, готовится опрокинуть противника на спину, захватив его ноги. На гербе лишь начальная фаза приема, но можно уверенно утверждать, что безоружный воин успешно провел бросок до конца и остался живым. Иначе не попало бы изображение приема на его герб, напоминавший потомкам о смелости и боевом мастерстве их пращура.
А вот тот же самый прием в русском исполнении. Излюбленный герой наших былин славный богатырь Илья Муромец схватывается с Идолищем поганым, символизировавшим самые темные, страшные силы, предававшие Русь разорению и пожарам:
Старый казак ведь Илья Муромец…
Хватал как его да за ноги
А трапнул его да о кирпичный пол.
Нетрудно представить, что осталось от Идолища после этого богатырского «трапанья»…
Изучая технические арсеналы самых различных международных и национальных видов борьбы, вы непременно обнаружите все тот же древний прием, нередко в самых различных вариантах. Есть он в персидской, турецкой, азербайджанской, в вольной борьбе… Разумеется, вошел он и в интернациональную борьбу самбо. Кто же у кого его заимствовал? Никто и ни у кого! Простой и надежный бросок рождала самостоятельная практика самых различных народов в разные эпохи.
Так продолжалось до тех пор, пока жизнь требовала этого. Но на смену средневековью шло иное время. И вместо прежних воинов, искусных в индивидуальном воинском мастерстве, мы уже видим плотные шеренги вымуштрованных солдат, сильных не каждый поодиночке, а именно в совместном действии всей массой. Развивалась военная техника, в первую очередь – огнестрельное оружие, а вместе с тем падало значений приемов самозащиты. Это столь важное прежде искусство стало увядать. В прошлом веке оно уже потеряло прежнее значение в Европе.
Что же касается Японии, то она заметно отставала в экономическом развитии от европейских стран. В конце прошлого века в Стране восходящего солнца еще ощутимо сказывалось феодальное «наследство». Вот как раз среди этих остатков средневековья и оказались приемы самозащиты, которые в Европе уже почти успели умереть, быть может, незаслуженной, но вполне естественной смертью.
Непосредственной предшественнице борьбы дзюдо – японской системе самозащиты джиу-джитсу – выпала поистине необычайная судьба. На рубеже прошлого и нынешнего столетий джиу-джитсу начало свой шумный триумфальный марш по Европе и Америке, привлекая к себе всеобщее внимание, завоевывая признание во всем мире. Его беззастенчиво расхваливали, приписывая прямо-таки фантастические достоинства. Порой столь же бездоказательно критиковали, отрицая какую бы то ни было его пользу, и даже в запальчивости объявили японскую самозащиту хитроумной мошеннической фальсификацией.
Прошло всего лишь несколько лет, и экзотическая система стала невероятно модной. Ее уже прославляет исконная столица мировой моды – Париж. Под яркий фейерверк беззастенчивой рекламы начинается победное шествие джиу-джитсу по странам Европы и Америки, не минуя даже самые маленькие и захолустные из них. Японской самозащитой увлекаются спортсмены и мюзик-холльные примадонны, полицейские и скучающие аристократы, артисты цирка, литераторы и конечно же всегда поспевающие в ногу с модой вездесущие обыватели. О джиу-джитсу пишут, говорят, спорят. О его приемах, таинственных и неотразимых, рассказывают своим читателям даже самые далекие от спорта издания. И поют при этом восторженную хвалу. Популярность этой системы самозащиты достигла апогея к концу русско-японской войны 1904—1905 годов, ставшей как бы символическим подтверждением преимущества таких приемов, с помощью которых слабый побеждает значительно более сильного.
Азиатский новичок откровенно заставил потесниться и старое «благородное искусство самозащиты» – английский бокс, и его галльского собрата – «сават» – бокс французский. В атмосфере небывалого ажиотажа под спекулятивным девизом «что лучше?» – околоспортивные дельцы устраивают единоборства джиуджитсеров с боксерами, борцами вольного и классического – французского стиля.
Первое десятилетие XX века было на исходе. В самой Японии к этому времени уже прочно утвердилась созданная доктором Дзигаро Кано тридцать лет назад спортивная борьба дзюдо. В жестокой конкурентной войне она разгромила своего почтенного, но архаичного предка – средневековую систему джиу- джитсу. Одержала победу ее же собственным оружием, включив в свой обширный арсенал наряду с другими приемами и лучшие достижения старинной самозащиты. Оттесненное полным сил молодым конкурентом куда-то на самые задворки, джиу-джитсу в Японии захирело.
Тем курьезнее было, что в Европе и Америке оно решительно брало у дзюдо сильно запоздавший реванш. Там никто не хотел даже слышать еще о каком-то новом японском стиле спортивной борьбы. Избалованные европейцы уже видели и тоже не приняли всерьез исландский и кумберлендский, турецкий, швейцарский, индийский и вестморлендский стили борьбы. Место в их сердцах было уже надолго и прочно занято.
В континентальной Европе безраздельно царствовала доведенная до акробатической виртуозности, искусно театрализованная французская борьба – грандиозный спортивно-цирковой аттракцион нашего столетия. В Англии и Америке столь же истово поклонялись борьбе вольно-американской. Этого было более чем достаточно, и никакой иной спортивной борьбы явно не требовалось. Другое дело самозащита! Каждый жаждал познать «смертоносные» приемы несравненного джиу-джитсу. Стать неуязвимым суперменом.
И если в те годы в Британии преподавал ученик Дзигаро Кано опытный Акитаро Оно, имевший высокий четвертый дан, то считалось тем не менее, что обучал он своих воспитанников именно приемам джиу-джитсу и ничему другому. Преподнося ученикам более совершенные приемы дзюдо, тренер был вынужден маскировать их в модные одежды джиу-джитсу.
Даже знаменитая книга Ирвинга Гонкока и Кацукума Осигаши, излагавшая основы дзюдо и ставшая впоследствии источником для огромного количества совершенно безграмотных переводов на многие языки, по безжалостной иронии судьбы носила название «Полное руководство по джиу-джитсу (Метод Кано)».
Немногочисленные «профессора» обучали джиу- джитсу только тех, кто мог оплатить их дорогостоящие услуги. Всем же прочим оставалось только штудировать желанные японские приемы по самоучителям. Неудивительно, что в те годы одна за другой выходили не слишком грамотные коммерческие книжонки, сулившие в кратчайшие сроки преобразить даже самого немощного читателя в отважного и неуязвимого бойца. Спрос рождал предложение. Почуявшие возможность подзаработать дельцы спешили нагреть руки на доходных изданиях. Никто из них, конечно, и не думал обращаться к серьезным японским источникам. Переводили как могли только то скудное, что было издано на английском или французском языках. Эти книги очень многое обещали, но слишком мало могли дать.
Гораздо серьезнее подходили к японской системе полицейские и военные, которые принимали на вооружение наиболее действенные ее приемы.
Отозвалась на общую моду и царская Россия, хотя приемы самозащиты прививались там далеко не всегда удачно. Навыки самозащиты, не считая, конечно, те, что порождались излюбленными видами народного спорта – кулачным боем и борьбой, были распространены в России довольно слабо.
В царской армии при обучении солдат штыковому бою приемы самозащиты не преподавались. Однако большинство этих выходцев из народа обладали навыками кулачного боя и национальной борьбы, которые использовали в случае необходимости. К тому же бывалые воины отлично дополняли действия штыком или прикладом различными ударами ногой и головой.
В полиции же и жандармерии долгое время существовали чисто практические навыки исполнения ряда приемов – таких, как загибы руки за спину, обезоруживание. Специального же обучения в этой области не существовало. Первые сведения о такого рода обучении относятся к 1898 году. Известный борец-профессионал, чемпион мира Владислав Пытлясинский начал в Ревеле (нынешнем Таллине) преподавание приемов самозащиты местной полиции. Скорее всего, он обучал приемам по книге Фабиана фон Ауэрсвальда, приобретенной во время пребывания за границей. Что же касается джиу-джитсу, то В. А. Спиридонов и В. С. Ощепков в своих работах в один голос утверждают, что впервые официальные круги старой России заинтересовались им в 1902 году. Реальных результатов в то время это не дало.
В 1907 году в России обозначился явный интерес полиции к джиу-джитсу. Журнал «Полицейский вестник» рассказал читателям о преподавании этой системы немецким полицейским. Вскоре капитан полиции Демерт выпустил книгу «33 боевых приема нападения, обороны и обезоруживания по Японской системе Жиу-житсу», которая предназначалась для самостоятельного изучения чинами полиции. Затем выходит в свет следующее руководство «Самооборона и арест», принадлежавшее перу атлета, профессионального борца, ведущего антрепренера и знаменитого арбитра цирковых борцовских чемпионатов И. В. Лебедева, широко известного под сценическим именем Дядя Ваня. Почему же этот горячий пропагандист спорта, его меценат и, главное, достаточно интеллигентный человек решился оказать услугу полиции? Трудно заподозрить Дядю Ваню в симпатиях к полиции: в среде русской интеллигенции это считалось в высшей степени неприличным. Однако, оказавшись как антрепренер в зависимости от этого зловещего казенного учреждения, которое имело право запретить любое зрелище, он не мог не считаться с ним. Недаром даже время, в которое обязаны были закончить работу все зрелищные заведения, именовалось в то время «полицейский час». Именно этим объяснялось то, что Лебедев написал руководство и преподавал самооборону петроградским городовым и офицерам полиции.
В обязательном порядке преподавалось дзюдо русской полиции в китайском городе Харбине, где располагалось управление принадлежавшей России Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Необходимость этого вызывалась в первую очередь тем, что полицейским приходилось сталкиваться с китайским уголовным миром, где совсем не редкостью были боевые навыки кун-фу. Сохранилась всего лишь одна фотография 1912 года, запечатлевшая здоровяков- городовых, облаченных в долгополые, почти до коленей, кимоно и нескладные панталоны. В целом же приходится признать, что о самозащите в царской России знали немного.
Глава 2 СИСТЕМА «САМ»
Когда говорят о послевоенной разрухе начала двадцатых годов, представляются обычно полузатопленные шахты, поросшие травой заводские дворы, искалеченные, ржавеющие в тупиках паровозы. Но наследство шести тяжких военных лет этим вовсе не исчерпывалось. Война калечила не только железо. Еще никогда в стране не было такого количества профессиональных преступников. Щедро раскиданное войной оружие оседало в их руках.
Бесчинствовали недобитые банды разных батек, всех этих Ангелов, Огольцов, Марусь. В лесах оседло обитали «зеленые» – диковинный анархистский конгломерат уголовников в бегах и дезертиров. Да и не только леса становились бандитской вотчиной. Надежно скрытые, затерянные в бесчисленных переулках крупных городов, вовсю процветали воровские «малины», где до поры до времени уголовники тоже чувствовали себя довольно уютно.
В свое время одним из прекраснодушных, но не слишком мудрых жестов Временного правительства стала всеобщая и полная амнистия, размашисто распространенная даже на самых опасных из уголовных преступников. После этого «милостивого» деяния все, даже самые закоренелые негодяи и убийцы, оказались на свободе и, поощренные безнаказанностью, с новым пылом принялись за свое привычное грязное ремесло. Бурные события гражданской войны не позволяли организовывать достаточно широкую и эффективную борьбу со всей этой публикой, а бесчисленные ватаги беспризорных являлись для них богатым резервом при вербовке подручных.
Хорошо вооруженные, крепко спаянные угрожающим, густо замешанным на крови авторитетом главаря, банды тех лет представляли очень большую опасность. И все же куда опаснее уголовников были контрреволюционеры. Убежденные и непримиримые враги власти трудящихся, укрывшись в глубоком, подполье, они ни. на минуту не прекращали активной борьбы против Советской Республики. Словно в зловещем калейдоскопе, один за другим мелькали в те годы контрреволюционные заговоры – от махровых верноподданных монархистов до так называемых левых социалистов-революционеров. Все они конечно же получали щедрую помощь и поддержку из-за рубежа. Еще недостаточно надежно охранявшиеся тогда, наши границы переходили не только жаждавшие наживы контрабандисты, но еще и связные заговорщиков, шпионы, террористы…
Просто невероятным кажется нам теперь, что не имевшие специальных познаний и даже достаточного практического опыта чекисты и милиционеры смогли обуздать всю эту преступную свору. Но это было так. Борьба велась отчаянная и беспощадная, она затянулась на несколько лет. И сколько раз оперативным работникам приходилось слышать короткий, всего в два слова, приказ: «Взять живым!»
Взять живым… А брать приходилось и увешанных оружием головорезов, и шпионов, вышколенных японскими профессорами дзюдо. Им нечего было терять, на убийство они шли не задумываясь. Только мелькали лезвия бандитских финок и прямо в глаза заглядывал дульный срез браунинга или нагана…
Очень были нужны в этих смертельных поединках простые, безотказные приемы обезоруживания и задержания. Но сегодня немногим известно имя человека, которому довелось начинать выполнение этой не легкой и непростой работы – Виктора Афанасьевича Спиридонова.
Когда в начале шестидесятых годов я начал собирать материалы о Спиридонове, то рассчитывал прежде всего разыскать его родственников, обстоятельно побеседовать с ними, изучить сохранившиеся у них документы, записи, книги, фотографии. И конечно же в архиве детально ознакомиться со служебным личным делом Виктора Афанасьевича. В то время со дня смерти старого самбиста не прошло даже двух десятилетий, еще были живы многие его ученики, сослуживцы. Казалось, что поиски не должны встретить особых затруднений. Но так, к сожалению, только казалось, и нельзя было не подивиться, как безжалостно стирает иногда время следы даже недавних событий. Конечно, влияло здесь и то, что не только сами чекисты, но и связанные с их работой люди по долгу службы всегда избегают излишней огласки. Но этим дело вовсе не ограничивалось.
Детей у Виктора Афанасьевича не было, а его жены, братьев и сестры уже не оказалось в живых. После долгих розысков в различных архивах и многочисленных запросов я получил официальное сообщение о том, что личное дело, заведенное на Спиридонова, как на работника «Динамо», было уничтожено в военном, сорок первом году. Человеческая память, увы, тоже оказалась не совершенной. От бывших сослуживцев Виктора Афанасьевича я услышал лишь то, что он являлся старейшим советским знатоком самозащиты без оружия и по этой специальности лет двадцать проработал в «Динамо» еще в довоенные времена. И почти абсолютно никаких сведений о дореволюционной биографии Спиридонова. Откуда он был родом, где учился, какую первоначальную имел профессию и еще многое-многое из того, что составляет жизнеописание человека и что рисует нам его характер, оставалось совершенно неизвестным, начисто отсутствовало. А между тем были все основания предполагать, что личность эта была незаурядная и достаточно интересная. Даже один лишь характер проделанной Виктором Афанасьевичем работы красноречиво свидетельствовал об этом…
Но совсем по-разному рассказывали, например, о дореволюционной профессии Спиридонова три хорошо знавших его старых динамовца. «Я считал, что Спиридонов капитан дальнего плавания», – уверенно сказал один из них. А другой – с той же категоричностью: «Он же был полковником гвардии! Я точно знаю… Высокий – два метра роста, выправка отличная!» Третий, хотя и не мог дать точного ответа на мой вопрос, твердо помнил, что Виктор Афанасьевич отлично умел… шить дамские ботинки. («Знаете, такие высокие, почти до колена, как в то время носили».)
Не буду утомлять вас описаниями того, как я отыскал дом, в котором когда-то жил Спиридонов, как с помощью соседей и его бывшей прислуги, уже давно съехавшей со старой квартиры, удалось в конце концов найти в Горьком единственную оставшуюся в живых родственницу моего героя. Пытаться установить степень их родства я, правда, до сих пор не беру на себя смелость: она была падчерицей младшей сестры Виктора Афанасьевича. Помнила, однако, его довольно хорошо, сообщила мне немало интересного, правда, допуская много неточностей в рассказе. Хотя собирать материал пришлось по крохам, восстановит в биографию Спиридонова все-таки удалось.
Лишь разыскав и опросив несколько десятков человек, могущих хоть что-нибудь сообщить о Спиридонове, я ухватил, наконец, путеводную нить. И оказалась она настоящей нитью Ариадны. Я узнал, что до «Динамо» Виктор Афанасьевич преподавал на курсах Всевобуча. Немедленно отправился на Большую Пироговскую в замечательное учреждение – Центральный государственный архив Октябрьской революции.
Тот, кто знает об архивах понаслышке, представляет их скучнейшими полутемными залами, до самого потолка забитыми пропыленными, пожелтевшими бумагами. Ни в коем случае не верьте этому! Когда берешь в руки действительно пожелтевшие, но отнюдь не запыленные архивные документы – «единицы хранения», перед тобой предстают необыкновенно яркие и увлекательные эпизоды, судьбы людей, которых уже не существует, забытые, а то и вообще неизвестные никому, кроме тебя, события…
И наконец, вот он – у меня в руках – послужной список, то есть личное дело работника курсов Всевобуча В. А. Спиридонова. А и а столе горой лежат еще другие «единицы хранения», которые бесстрастным, но точным языком документов рассказывают о жизни этих самых курсов, об учебных дисциплинах, преподавателях, курсантах и многом другом…
Но теперь мне этого уже мало! Собственноручно заполненный Спиридоновым послужной список говорил, что он действительно был офицером старой армии. Значит, необходимо отправляться уже в другое такое же замечательное, но еще более романтичное архивное учреждение – Центральный государственный военно-исторический архив СССР. И снова держу в руках спиридоновский послужной список, теперь – еще более старый – офицерский—1915 года, прошнурованный и скрепленный уже начавшей крошиться сургучной печатью… Виктор Афанасьевич действительно еще до революции был кадровым офицером. Но не полковником, и не гвардии. Служить начал рядовым, уйдя в армию с семнадцати лет – вольноопределяющимся, как теперь мы говорим: добровольцем. Заслужил унтер-офицерские лычки и был командирован в Казанское пехотное училище.
Юнкера еще осваивали тактику и фортификацию, кололи штыком чучело, а над Желтым морем у Чемульпо уже прогремели орудия «Варяга» – крейсера из песни. В 1905 году в новеньких офицерских погонах Спиридонов отправился туда, где разгорались сражения печально знаменитой русско-японской войны, в Маньчжурию. На долю свежеиспеченного офицера выпал совсем недолгий период фронтовой жизни, но, должно быть, у зеленого подпоручика была настоящая солдатская сноровка: домой он возвратился с крестом Станислава на груди.
Многие из тех, с кем мне удалось побеседовать о Викторе Афанасьевиче, считали, что именно тогда, в Маньчжурии, он и ознакомился с джиу-джитсу. Иные утверждали даже, что Спиридонов, будучи раненым, оказался в японском плену и изучил боевые приемы непосредственно в Стране восходящего солнца. Не хотелось бы разрушать такую романтичную версию, но приходится сказать, что она не соответствует действительности. Прежде всего, в плену Спиридонов не был. Это удалось установить совершенно точно по его послужному списку, в котором полагалось отмечать не только пребывание в плену, но даже более или менее длительное отсутствие в части во время отпуска. Что же касается Маньчжурии, то там он находился в течение очень короткого времени, да и сама обстановка едва ли располагала к изучению чего бы то ни было. Но самое главное – это то, что, судя по работам Виктора Афанасьевича, он был знаком только с тем вариантом джиу-джитсу, который оказался занесенным в Европу уже после русско-японской войны, в период небывало шумного мирового триумфа этой системы самозащиты. Время всеобщего увлечения джиу-джитсу отнюдь не прошло для Спиридонова даром. Был он человеком ловким и сильным, большим специалистом в военно-прикладной гимнастике и без особого труда основательно изучил японские приемы, хотя, вероятнее всего, пользовался при этом всего лишь описаниями в различных руководствах, изданных в России и за рубежом. Несмотря на фронтовые заслуги, успехи Спиридонова по службе, как и любого армейского пехотного офицера, провинциального «армеута», были невелики: истекшие десять лет приносят ему повышение всего лишь на один чин. Он даже выходил в отставку, но затем снова вернулся в армию. С первых же дней мировой войны он снова на передовой. Вторая война для командира пехотной роты поручика Спиридонова закончилась в тот самый день, когда в бою под посадом Лашевым над его головой разорвалась австрийская шрапнель. Тяжело контуженный и раненный, он год провалялся в госпиталях, а потом был «уволен от службы с производством в следующий чин и награждением мундиром и пенсией». Пенсия, впрочем, была совсем мизерной: на день приходилось всего по рублю и тридцати копеек, а цены росли, все сильнее обесценивая деньги. Получивший после контузии тяжелое нервное заболевание, Спиридонов обивал пороги военных канцелярий, пытался добиться дополнительного пособия. Лицо его перекашивал нервный тик, а руки тряслись неудержимой дрожью. Мне довелось видеть подшитое к его офицерскому послужному списку ходатайство о пособии, собственноручно написанное Виктором Афанасьевичем. Трудно поверить, что такие пляшущие каракули могли быть выведены рукой взрослого грамотного человека… В выдаче пособия ему отказали. И не в те ли голодные годы пришлось раненому офицеру научиться тачать дамские ботинки? Вообще у него была уверенная хватка хорошего русского мастерового: при случае мог починить водопровод, брался и за другие слесарные работы.
Революцию Спиридонов встретил в Москве. Время было не легким для бывших офицеров: в них видели потенциальных врагов, подозревали в измене. Отставному штабс-капитану пришлось почувствовать это на себе. Но именно тогда он раз и на всю жизнь сделал выбор: с кем идти. В девятнадцатом году он работает в Главном броневом управлении Красной Армии. А вскоре, оправившись от последствий контузии, становится преподавателем Московских окружных курсов инструкторов спорта и допризывной подготовки имени товарища Ленина. Так называлось одно из тех учебных заведений, которым суждено было стоять у самых истоков нашего спорта, рождавшегося в бурное и тяжелое время гражданской войны и иностранной интервенции. Из боевых видов спорта, кроме французской борьбы и английского бокса, был па курсах и такой предмет – защита и нападение без оружия. Его и преподавал Спиридонов…
К названию «борьба самбо» мы настолько привыкли, что совсем не замечаем таящегося в нем явного противоречия. Действительно, ведь борьба – это спортивное единоборство, в котором строжайше запрещены любые приемы, могущие причинить вред здоровью и тем более жизни партнера. А самозащита – это система именно тех приемов, которые предназначены для боевой схватки.
Но есть, пожалуй, в этом противоречии свой глубокий смысл. Ведь исторически нашему прикладному виду борьбы в одежде предшествовало не что иное, как система самозащиты, да и непосредственно сама эта борьба формировалась в значительной степени как спортивная основа той же самозащиты. И были тому далеко не случайные причины.
История Советской России с первых же ее лет складывалась так, что постоянно приходилось думать о защите революции от вооруженных посягательств на нее. Совершенно естественно, что в таких условиях среди множества прочих забот возникала потребность и в надежных приемах рукопашного боя, в том числе и безоружного, в обучении им защитников революции.
Так было в годы гражданской войны и нападений иностранных интервентов, когда формировались подразделения Красной Армии и ее резервы. Так было даже ранее, когда Красной Армии еще не существовало, а был всего лишь далекий ее прообраз – боевые дружины восставших рабочих 1905 года. Ни красноармейцы, ни дружинники, разумеется, не наследовали, да и не могли наследовать даже те скромные познания в области самозащиты, которые существовали у царской полиции. Солдаты революции сами решали свои проблемы.
Еще в самом начале нынешнего века, готовясь к будущим баррикадным боям, члены рабочих боевых дружин тайно овладевали воинскими навыками. Они не только учились метко стрелять и точно бросать самодельные бомбы, но еще и овладевали навыками рукопашного боя без оружия, в первую очередь – обезоруживания. Ведь далеко не все восставшие могли быть к началу боев снабжены оружием. Нередко его приходилось отнимать у своих врагов, обезоруживая главным образом полицию, нередко доводилось вступать в схватки и с черносотенными погромщиками, которых царизм широко использовал для борьбы с революционерами. Черносотенцы не стеснялись пускать в ход колья, железные трости, ножи, кистени.
Пристально следя за разгоравшейся в России революционной борьбой, находившийся тогда в эмиграции В. И. Ленин постоянно давал конкретные указания по скорейшему созданию боевых отрядов революционной армии, о средствах их борьбы. Придавая этим вопросам первостепенное значение, он пишет ряд статей, письмо боевому комитету в Петербурге.
В статье «Задачи отрядов революционной армии», написанной в начале октября 1905 года, в канун Декабрьского вооруженного восстания, Владимир Ильич определяет тактику действий «пионеров вооруженной борьбы» и, в частности, пишет так: «Отряды могли бы быть всяких размеров, начиная от двух-трех человек…
Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 1) руководя толпой; 2) нападая при удобном случае на городового, случайно отбившегося казака (случай в Москве) и т. д. и отнимая оружие; 3) спасая арестованных или раненых, когда полиции очень немного…» .
Впоследствии В. И. Ленин отмечал: «…безоружные рабочие голыми руками гнали погромщиков под страхом быть застреленными полицией».
В распоряжении дружинников имелись только приемы русских народных боевых видов спорта – борьбы, кулачного и «палочного» боя. Было и такое старинное коллективное состязание, которое напоминало фехтование, но в нынешнем веке оно практиковалось уже очень редко. Эти приемы специально разучивались в преддверии декабрьских боев 1905 года. Среди рабочих было немало отличных «стеношных» бойцов и умелых борцов. Они-то и делились с товарищами своими секретами, передавали им полезные навыки рукопашного боя.
Московские дружинники делились на небольшие отряды по 10—12 человек и упражнялись зимой в кулачном бою стенка на стенку на окраинах города: на реке Яузе у Андроникова монастыря, на реке Синичке у бывшего Немецкого рынка и в других местах.
Старый орловский рабочий революционер Г. Ф. Коробков вспоминал: «…я тогда занимался борьбой, принимал участие в дружеских кулачных соревнованиях… Нам дали указание действовать решительно в случаях столкновения с тюремной администрацией, что нами тогда и было выполнено. Благодаря нашей помощи побег из тюрьмы завершился удачей».
Владели приемами самозащиты и некоторые из красногвардейцев 1917 года. Старый большевик, бывший рабочий петроградского завода «Старый Парвиайнен», К. М. Кривоносов сообщил корреспонденту «Правды» такую интересную деталь. Когда В. И. Ленин, приехав в Петроград в 1917 году, с мая по июль жил в доме № 48 на улице Широкой, для его охраны были специально выделены красногвардейцы, не только отлично владевшие портативным огнестрельным оружием, но и знавшие приемы рукопашного боя. Был среди них и К. М. Кривоносов. В условиях, когда бесчисленные ищейки Временного правительства разыскивали вождя революции, такие меры были необходимы и очень своевременны.
Но особенно массовый характер изучение приемов боя без оружия приобрело с 1918 года, когда совсем еще молодой республике рабочих и крестьян была навязана реакционными силами тяжелая изнурительная война. Будущее Советской России решали теперь те новые воинские части, которые можно было двинуть против наседавших со всех сторон белогвардейцев и интервентов. Именно в то время, весной 1918 года, по инициативе Ленина и был организован Всевобуч, который возглавил старый большевик, один из руководителей штурма Зимнего Николай Ильич Подвойский. Всеобщее военное обучение, обеспечивая подготовку необходимых Красной Армии резервов, сыграло свою роль в победе над врагами. Но вместе с тем Всевобучу суждено было стать и колыбелью советского спорта. Физической подготовке будущих красноармейцев уделялось серьезное внимание, а спорт в этом деле был поистине незаменимым помощником. Вот и оказалось, что советский спорт, волею нелегких обстоятельств, появился на свет в военной гимнастерке.
Начавшаяся гражданская война поставила перед спортсменами важные задачи. Лучшие спортивные силы России пришли работать в организации Всевобуча, поставив свои знания на службу Советской Республике.
Годы первой мировой войны уже достаточно наглядно показали, что при боевых столкновениях вплотную важны навыки не только собственно штыкового боя, в узком смысле этого слова, но еще и умение бойца применять в рукопашной схватке удары руками, ногами, подножки; использовать оказавшиеся под рукой предметы: лопату, кирку, даже просто палку или камень, не говоря уже о холодном оружии. Столь же явственно определилась и ценность умения в случае необходимости даже безоружным противостоять вооруженному врагу и обезоруживать его.
Вот почему, стремясь максимально вооружить будущих красноармейцев полезными боевыми навыками, руководство Всевобуча ввело в программу всеобщего военного обучения кроме штыкового боя еще и ознакомление с простейшими приемами бокса и французской борьбы.
В организациях петроградского Всевобуча работал такой опытный старый спортсмен, как доктор Н. Петров, вице-чемпион по борьбе Лондонской олимпиады, знакомый к тому же и с боксом, и с джиу-джитсу. Считая, что некоторые приемы джиу-джитсу могут принести в бою больше пользы, чем французская борьба и даже бокс, он стал знакомить с ними своих учеников. Но местные власти запретили ему делать это, считая недопустимым отступления от утвержденной программы.
