АЗРАИЛ. ПОСЛЕДНИЙ ДИАЛОГ
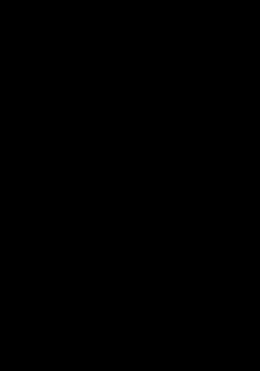
АЗРАИЛ. ПОСЛЕДНИЙ ДИАЛОГ.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Прежде чем вы перевернёте эту страницу и шагнёте в мир, раскинувшийся между последним вздохом и первым криком новой жизни, позвольте несколько слов.
Эта книга родилась не как замысел, а как необходимость. Она стала ответом на шёпот, что зреет в тишине слишком многих сердец – на вопрос о тщетности и смысле, об одиночестве, что гложет изнутри, даже когда тебя окружает видимое благополучие. Она – не судья и не проповедь. Она – лекарство для утомлённой души, протянутая рука в тот миг, когда кажется, что опереться больше не на что.
Изначально история была разделена надвое, будто душа, разлучённая с самой собой. Но очень скоро стало ясно, что они – единое целое, как вдох и выдох, как вопрос, обретший силу лишь в паузе перед ответом. Поэтому я объединил их, чтобы вы, мой дорогой читатель, смогли пройти этот путь целиком – от самой густой тьмы отчаяния до того тихого, но незыблемого света, что рождается внутри, когда душа наконец обретает покой.
Пусть вас не смущает, что одна из граней этой истории касается богатства и его иллюзий. Я отнюдь не утверждаю, что бедность – добродетель, а достаток – порок. Вовсе нет. Уровень благосостояния – всего лишь декорация. Пьеса же всегда разыгрывается внутри. Главная нить, что пронизывает обе части книги, – это не осуждение выбора, а его осознание. Вопрос, который я смиренно предлагаю вам вынести за скобки чтения: что способно насытить именно вашу душу? Что заставляет её чувствовать себя по-настоящему живой?
Название книги я оставил от её первой части – “АЗРАИЛ. ПОСЛЕДНИЙ ДИАЛОГ”. Ибо с этого откровения всё и начинается.
И последнее. Я заранее приношу извинения глубоко религиозным читателям и прошу вас отнестись к этому тексту не как к богословскому трактату, а как к притче, к художественному исследованию тех тайн, что лежат за гранью наших догм. Не ищите здесь буквального соответствия священным текстам. Вместо этого позвольте себе просто прочувствовать историю. То, что вы ощутите во время чтения – лёгкость, боль, узнавание, протест или облегчение, – и будет самой честной реакцией вашей живой, неповторимой души.
Я буду бесконечно благодарен за ваши отзывы, оценки и рецензии. Найти меня в социальных сетях не составит труда. Но самое главное – чтобы эта книга нашла в вас того единственного читателя, для которого она и была написана. Возможно, этого читателя я вижу каждый день в зеркале. А возможно, им окажетесь вы.
От всей души желаю вам захватывающего путешествия.
Глава первая. Неизгладимая пыль одиночества
В тот вечер одиночество Бориса достигло такой плотности и веса, что стало физическим законом его вселенной, отменяющим все прочие. Оно наполняло особняк, как вода наполняет губку, вытесняя даже воздух, превращая его в тяжкий, неподвижный сироп. Он сидел в своем кабинете, в кресле из кожи единорога – так ему когда-то льстиво продал его некий аравийский торговец, – и смотрел в огромное панорамное окно. За ним простирался сад, выстриженный с математической точностью, и залив, купленный им вместе с этим клочком чужой земли на краю света. Все это было его, и все это было ничьим, как и он сам.
Стены комнаты были увешаны полотнами, перед которыми замирали искусствоведы всего мира, но сейчас они были для него лишь цветными пятнами, бессмысленными, как плесень на камне. Мания, что несколько месяцев назад гнала его с бешеной энергией скупать компании и строить небоскребы, уступила место депрессии, накатившей с тихой, неумолимой силой прилива. Мир потерял не только краски, но и объем, став плоским и бумажным. Звуки доносились до него будто через вату, а пища имела вкус пепла. Он был миллиардером, который не мог купить себе ни капли радости; властителем, чье царство ограничивалось кончиками его пальцев.
Его мысли, эти непослушные обезьяны, метались по одним и тем же клеткам. Утраченные миллиарды, которые для него были не цифрами, а осколками его могущества, разлетевшимися в прах. Страна, которую он покинул, чей образ в его памяти стал мифическим, как Грааль – запах берез после дождя, скрип снега под валенками, бескрайние поля, уходящие в никуда. Но больше всего – люди. Их лица, искаженные то жадностью, то страхом, то подобострастием. Никто не видел его. Никто. Они видели кошелек, силу, угрозу, возможность. Они не видели того мальчика, который когда-то, забившись в угол холодного барака, дал себе клятву стать богом. И он стал им. И обнаружил, что боги – самые одинокие существа во вселенной.
Револьвер, лежавший на столе, был стар, как и большинство вещей в этом доме. Он не был предметом роскоши; это был инструмент. Инструмент из его прошлой, настоящей жизни, с намертво вбитой в сознание простой механикой: палец на спуске, ствол у виска. Больше не за чем было держаться. Ни за какие акции, ни за какие проекты, ни за какую память. Его существование стало тщетным, абсурдным жестом, как если бы кто-то бесконечно переставлял с места на место дорогую безделушку в пустой комнате.
Он поднес холодный металл к виску. Мир не замер в ожидании. Он был безразличен, как всегда. Последним, что почувствовал Борис, был не страх, а странное, почти детское любопытство. А что там, за чертой? Есть ли что-то? Или просто тишина?
Выстрел прозвучал негромко, приглушенно, как хлопок двери в соседней комнате.
И тогда случилось не то, чего он ожидал. Он не провалился в небытие. Он не увидел свет в конце туннеля. Он просто… остался. Сидя в кресле. Но кресло, комната, мир – все потеряло свою материальность, став призрачным отголоском самого себя, как негатив фотографии. А перед ним стояло Нечто.
Это был не скелет в капюшоне и не чудовище с сотней глаз. Это была фигура в длинном, простом одеянии цвета пыли и пепла, цвета вечности, в которой не осталось ни одного яркого пятна. Черты лица были поразительно правильными и одновременно абсолютно лишенными какой-либо теплоты или жизни, словно высеченными из древнего льда на вершине горы, куда не долетают ни птицы, ни звуки. Это был ангельский лик, но ангела, который забыл, что такое хвала, который видел лишь финал. Его крылья, огромные и тяжелые, не были белоснежными или огненными; они походили на крылья гигантской ночной птицы, опаленные временем и бесчисленными дорогами, пролегающими между мирами.
Но главное – это был его взгляд. Взгляд, в котором умещалась тяжесть всех смертей, всех последних вздохов, всех невысказанных слов и несбывшихся надежд. Он был не просто тяжелым; он был всепоглощающим. Он проходил сквозь призрачную оболочку души Бориса, видя в ней всё – и мальчика в бараке, и жестокого хищника, сокрушающего конкурентов, и одинокого старика в золотой клетке.
Этот взгляд был приговором, констатацией факта и… бесконечной, нечеловеческой усталостью. Не мышечной, а той, что копится эонами, усталостью от бесконечного повторения одного и того же ритуала, от нескончаемого потока душ с их ничтожными страстями и вечным страхом.
"Борис", – произнесло существо. Голос был подобен шелесту высохших листьев, скрипу земли на крышке гроба, тишине между ударами сердца. В нем не было ни злобы, ни сострадания, только холодная, безличная констатация.
И Борис, к своему удивлению, почувствовал не ужас, а ликующий восторг. "Значит, это не конец?" – мысль пронеслась яркой вспышкой в его новом, бесплотном сознании.
"Для твоего тела – конец. Для пути – нет", – ответил Азраил, ибо это был он, словно услышав его мысль. – "У меня нет привычки задерживаться. Но правила есть правила. Назови свое последнее желание. Оно будет исполнено".
Борис ощутил странный привкус – вкус диалога с вечностью. "Есть ограничения?" – спросил он, и его голос, эхо прежнего, прозвучало в пространстве.
"Ты не можешь просить жизни. Не можешь просить вреда или помощи для другого. Не можешь просить прощения грехов. Не можешь просить быть посредником между тобой и Творцом. Всё остальное… в рамках материального мира… доступно".
Азраил произнес это с такой бесконечной, накопленной за миллионы лет скукой, что Борису стало почти жаль его.
"Чем ты, смертный, можешь меня удивить?" – продолжил ангел, и в его ледяном голосе впервые пробилась тончайшая, почти незаметная нить чего-то, что можно было принять за интерес. Словно часовой, простоявший тысячу лет у ворот, заметил на дороге незнакомый отблеск.
И тогда Азраил начал свой список. Он говорил быстро, монотонно, как заезженная пластинка, перечисляя сокровища мира, которые он показывал бесчисленным душам.
"…Увидеть океан. Лежа на песке под шум волн. Или горы, чтобы почувствовать их холодное величие. Или пустыню, где ветер поет песни о вечности. Увидеть еще раз тех, кого любил, кто жил далеко… мать, отца, ту женщину из юности… пройтись по улочкам города твоего детства, вдохнуть запах сирени, которую ты помнишь. Увидеть птицу колибри или льва в саванне, которых ты в живую не видел. Побывать в соборе Святого Петра, в Иерусалиме, в сияющем храме на Востоке. Проплыть по Амазонке, услышать рев водопада, что падает с края земли, прикоснуться к камням древних пирамид…"
Каждое слово было драгоценностью, шедевром, чудом. Но в устах ангела они превращались в пыль, в стандартный, заученный набор опций для тех, кто не смог насытиться миром, покидая его. Это была конвейерная лента последних утех.
Когда голос Азраила затих, Борис медленно покачал головой. Его призрачная форма излучала не гордость, а глубокую, окончательную сытость.
“Нет. Я видел все океаны и пустыни, что ты назвал. Я покупал и продавал целые горные цепи. Я летал в джунгли на собственном вертолете. Я пил шампанское на ступенях тех храмов, что ты упомянул. Моя душа… она пресытилась этим миром. Она объелась его красотами и ужасами до тошноты. У меня нет ни малейшего желания видеть что-то из твоего списка”.
Впервые за бесчисленные тысячелетия веки Азраила дрогнули. Его тяжкий, всевидящий взгляд остановился на Борисе с новой, незнакомой интенсивностью. Тишина в призрачном кабинете зазвенела, как натянутая струна.
“Тогда чего же ты хочешь, Борис?” – спросил ангел смерти, и в его голосе не было больше ни скуки, ни усталости.
Борис посмотрел прямо в эти бездонные глаза, несущие тяжесть всех времен.
“Я хочу, – сказал он тихо, но отчетливо, – я хочу узнать твою историю. Я хочу услышать, каково это – быть тобой. Я хочу понять смысл, который стоит за твоей работой. Я хочу, чтобы ты… рассказал мне всё”.
И в глазах владыки последнего мгновения, того, кто видел конец всех историй, мелькнуло нечто, чего не видел ни один смертный с начала времен: чистейшее, неподдельное изумление.
Глава вторая. Бремя истины и дар лжи
Тишина, последовавшая за словами Бориса, была иной – не пустотой, а напряженным, почти осязаемым веществом, в котором плавали обломки всех предыдущих диалогов Азраила. Ангел смерти смотрел на призрачного старика, и в его бесконечно усталых глазах, этих зеркалах, отражавших лишь финальные акты, шевельнулась тень чего-то древнее самого времени – недоумения.
“Ты требуешь от меня повествования,” – прошелестел он, и его голос, обычно сухой и плоский, обрёл странную, едва уловимую модуляцию. – “Но повествование – это форма творения. Оно подразумевает выбор: что оставить, что опустить, какой оттенок придать факту. А мы, те, кто служит в абсолютной иерархии бытия, лишены этого выбора. Мы не обладаем способностью врать, лукавить или даже недоговаривать. Истина для нас – не моральный принцип, а закон существования, как для камня – тяжесть. Ты просишь меня сделать то, на что я не способен по своей природе. Ты требуешь от ключа, чтобы он пел, а от песни – чтобы она была ключом”.
Борис, чья душа уже начала отвыкать от тяжести тела, ощутил нечто вроде лёгкости, почти парения. “Было бы прекрасно, если бы люди были так же ограничены”, – промолвил он, и в его словах прозвучала не горькая ирония, а грусть. – “Меньше бы боли причиняли друг другу”.
Азраил медленно покачал головой, и движение это было подобно смещению континентов.
“Ты не понимаешь масштаба собственного дара, смертный. Ваша способность к искажению, к приукрашиванию, к сочинению – это не ущербность. Это величайшая привилегия, данная вам. Вы можете творить миры из ничего, лишь силой слова. Вы можете превращать боль в поэзию, страх – в миф, а потери – в легенды. Вы можете лгать, чтобы утешить, чтобы защитить, чтобы дать надежду там, где её нет по законам реальности. Вы можете додумывать, достраивать, верить в то, чего не видели. Это и есть тот самый творческий огонь, который отличает вас от нас, холодных исполнителей”.
Он сделал паузу, и в его взгляде впервые появилось нечто, отдаленно напоминающее интерес, словно учёный, изучающий редкий, почти вымерший вид.
“Ваша свобода выбора – это не только возможность выбрать между хлебом и камнем. Это свобода выбирать, какую истину вы создадите сегодня. Жестокую или милосердную. Разрушительную или созидательную. Да, вы используете её, чтобы обманывать, чтобы завладевать ресурсами, чтобы возводить троны на костях. Но это – ваш выбор, ваш опыт, ваша душа, оттачивающая себя в горниле этих решений. Судьба тела бренна – оно рождается, страдает и умирает. Но судьба души, испещрённая шрамами и сиянием каждого такого выбора, – вот что имеет значение. Мы, ангелы, неизменны. Мы – константа. А вы – переменная, уравнение с миллиардами неизвестных, и каждый ваш миг – это решение, которое приближает вас либо к свету, либо к тьме, либо к чему-то третьему, что не поддаётся даже нашему пониманию”.
Борис слушал, и его внутренний взор, освобождённый от телесной шелухи, начал проясняться. Он видел вереницы своих собственных решений – моменты, когда он мог проявить милосердие, но выбирал жестокость, когда мог сказать правду, но предпочёл выгодную ложь. Он видел, как эти выборы ковали не только его богатство, но и его несокрушимое одиночество. Его душа, эта измятая, исписанная черновиками книга, предстала перед ним во всей своей неприглядной и в то же время трагически прекрасной сложности.
“Значит, вся наша жизнь – это лишь школа для души?” – спросил он тихо.
“Жизнь – это не школа, Борис. Школа предполагает учителя и учебный план. Здесь же вы и учитель, и ученик, и составитель собственного, часто абсурдного, учебного плана. Мы же, – Азраил махнул рукой, и в этом жесте была вся тяжесть его вечной службы, – лишь регистраторы итоговых оценок”.
Он снова уставился на Бориса своим невыносимым взглядом.
“Ты хочешь знать мою историю. Историю того, кто лишь фиксирует концы, не участвуя в начале и середине. Готов ли ты услышать повествование, лишённое вымысла, смысла и морали? Потому что оно будет именно таким. Это не история, как вы понимаете. Это – хроника. Бесконечный список. Я готов начать. Но предупреждаю: это будет очень, очень долго”.
Борис откинулся в своём призрачном кресле. Давление одиночества, мучившее его при жизни, исчезло. Его теперь окружала вечность, и в ней было куда больше простора, чем в его самом большом особняке.
“Я уже никуда не спешу, – сказал он с лёгкостью, которой не знал десятилетия. – А у тебя, как я понимаю, в запасе целая вечность”.
Уголки губ Азраила дрогнули в чём-то, что никак не могло быть улыбкой, но было её далёким, потусторонним эхом – эхом, долетевшим из тех времён, когда звёзды только начинали зажигаться в пустоте.
“Вечность, – повторил он, и в его голосе снова зазвучала знакомая усталость, но теперь к ней примешивалось нечто иное, смутное предвкушение. – Да. Она у меня есть”.
Он прикрыл свои всевидящие очи, собираясь с мыслями, готовясь извлечь из небытия память, которой не касался никогда прежде. Воздух сгустился, ожидая первого слова, первого аккорда в симфонии, которую никто, кроме них двоих, не должен был услышать.
Воздух дрожал напряжением от неназванного начала, от предстоящего погружения в бездну, где нет ни лжи, ни вымысла, лишь неумолимая, безличная и всеобъемлющая Истина.
Глава третья. Хроника первой пылинки
Азраил открыл глаза, но взгляд его был обращен не на Бориса, а вглубь самого себя, в ту беспросветную бездну памяти, где не было ни времени, ни света, ни тьмы, а лишь чистое, неописуемое бытие.
“Мы не были рождены, – начал он, и его голос утратил былую сухость, обретя ровное, монотонное звучание вечного механизма. – Мы были вычислены. Созданы, как вы теперь создаете свои самые совершенные машины. Не из глины или света, а из абсолютных принципов. Явление. Иерархия. Функция. Каждый из нас был идеальным решением для конкретной задачи. Ни больше, ни меньше. Михаил – несокрушимая воля. Гавриил – безотказный передатчик откровения. Мы все – я, они – были кристально чистыми исполнителями. В нас не было ни единой пылинки, ни малейшего колебания, ни тени сомнения”.
Борис слушал, завороженный. Ему, всю жизнь боровшемуся с человеческой ненадежностью, слабостью и алчностью, эта картина идеального порядка казалась желанным раем. “Это же прекрасно, – не удержался он. – Никаких ошибок. Никакого предательства. Только чистая эффективность”.
Азраил посмотрел на него, и в его взгляде мелькнуло нечто, что Борис не мог распознать. “Прекрасно? – переспросил ангел. – Это было… неизбежно. Как падение камня. Творец был доволен. Его система работала безупречно. А мы… мы не знали ничего иного. Мы не могли испытывать благодарности, ибо не понимали дара. Мы не могли чувствовать любви, ибо не знали ее отсутствия. Мы не могли противоречить, ибо противоречие было бы сбоем в коде, а такого не происходило. Мы были живыми законами мироздания, но в нас не было ни капли жизни, как ты ее понимаешь”.
Он умолк, и в тишине особняка, застывшего между мирами, Борис впервые ощутил леденящий ужас от этого совершенства. Оно было страшнее любого хаоса.
“А потом, – голос Азраила изменился, в нем впервые появилась едва уловимая рябь, – Он создал Ее. Не человека. Не Адама. А Душу. Единую, великую, неповторимую субстанцию, прототип всего, что будет. Он одарил ее всем, что у Него было. Вечностью. Знанием. Силой. Безграничной мощью. Она хотела – и тут же получала. Она была абсолютно самодостаточной, замкнутой в себе вселенной”.
“Рай”, – прошептал Борис, представив себе эту бездну возможностей без малейшего усилия.
“Тюрьма, – поправил Азраил с ледяной точностью. – Ибо в этом абсолютном насыщении не было цели. Не было движения. Не было… истории. И в какой-то момент, который нельзя измерить вашими годами, Душа обратилась к Творцу. Она не просила, ибо не умела просить. Она констатировала факт, как констатировали его мы. Она сказала: “Я хочу творить. Самостоятельно. Я хочу проявляться. Я хочу любить и ненавидеть, благодарить и гневаться. Я хочу заслуживать. Я хочу выбирать”.
Борис замер. В этих словах он узнал всё свое тщетное, болезненное стремление – доказать, что он не просто кошелек, не просто функция, а нечто большее. Даже будучи богом в своем мире, он хотел, чтобы его увидели. И здесь, в начале начал, прототип его души желал того же.
“И тогда, – продолжил Азраил, и его крылья, казалось, потемнели еще больше, – было решено создать материальный мир. Мир ограничений. Мир боли и потерь. Мир, где душа, раздробленная на миллиарды осколков, сможет наконец-то захотеть. Захотеть еду, когда голодна. Захотеть любовь, когда одинока. Захотеть Бога, когда чувствует свою отделенность от Него. Мир, где можно падать, чтобы подниматься. Ошибаться, чтобы учиться. Ненавидеть, чтобы однажды понять суть любви”.
“Игра, – с горькой усмешкой произнес Борис. – Великий эксперимент”.
“Игра, – согласился Азраил. – С самыми высокими ставками. И с того момента наше существование… изменилось. Кардинально. Из прямых, идеальных линий мы превратились в службу обеспечения для этого непредсказуемого театра. Творец сосредоточился на своем новом творении. Человеческий род стал на первое место. Нас отодвинули, оставив выполнять свои функции, но теперь в контексте этой хаотичной, шумной, полной слез и смеха Вселенной, где результат был неизвестен никому”.
“Никому? – переспросил Борис. – Даже Ему?”
Азраил посмотрел куда-то вдаль, сквозь стены, сквозь время.
“Хочется верить, что у Него есть понимание, как и чем всё закончится. Но если бы итог был предопределен… имела бы цену эта Игра? Смысл моей службы – фиксировать концы, но не понимать их причин. Я вижу финальную точку, но не читаю роман. И в этом… – он запнулся, подбирая слово, которого, возможно, не существовало в его языке, – …в этом заключается моя служба. И моё проклятие”.
Он снова повернулся к Борису, и его взгляд стал тяжелее, чем когда-либо.
“Именно с момента появления вашего мира у меня и появилась эта усталость, Борис. Не физическая. А усталость от бесконечного созерцания незавершенных предложений, от миллиардов оборванных на полуслове историй. Я собираю буквы, но мне не дано сложить их в слово”.
Борис сидел, потрясенный. Он вдруг понял, что его одиночество, его тоска по смыслу – это лишь слабый отголосок, эхо того колоссального одиночества, что испытывал этот бессмертный служака, наблюдающий за великой драмой из-за кулис, не имея права ни на аплодисменты, ни на осуждение.
“И что же было дальше? – тихо спросил Борис, чувствуя, что они подходят к чему-то очень важному. – После того как мир был создан?”
Азраил медленно кивнул.
“Дальше… дальше появился Первый Выбор. И первая Смерть. Но это уже начало другой хроники. Хроники падения”.
Глава четвертая. Вирус сознания
Азраил слушал тишину, последовавшую за его словами, будто припоминая саму ее структуру. Его рассказ о Первой Душе повис в воздухе неразрешенным аккордом, и Борис понимал, что за этим последует нечто фундаментальное. Не история, а описание механизма Вселенной.
“Материальный мир не мог быть пустым, – заговорил ангел, и его голос вновь обрёл ровный, лишенный эмоций тон, словно он зачитывал техническое руководство. – Ему требовалось наполнение. И всё в нём – от пылинки, пляшущей в луче света, до гигантской галактики, воронящейся в пустоте, – должно было обладать душой. Не такой, как у вас, сложной, рефлексирующей, способной на бунт и любовь. Нет. Это была… вибрация. Искра. Мельчайшая, бесконечно малая частица того первородного Света, из которого была соткана та самая, первая Душа”.
Борис, чье сознание было воспитано на точных науках и отчетах аналитиков, невольно кивнул. “Квантовый мир. Фотоны, нейтроны, кварки… Мы изучали это. Всё это – энергия, колебания, волны вероятности”.
“Вы изучали следствие, а не причину, – поправил Азраил. – Вы видели механизм, но не дух, что его оживляет. Эта бактерия, что живет в ядре ядра планеты, в кромешной тьме и чудовищном давлении… У неё есть своя жизненная сила. Своя воля. Своё желание. Желание жить, продолжать, быть. Всё в этой сложной, красивой системе, от амебы до слона, от лишайника до секвойи, инстинктивно, без тени сомнения, в борьбе между жизнью и смертью выбирает Жизнь. Это базовый код материи. Её первородный зов”.
Он сделал паузу, и его тяжёлый взгляд упал на Бориса, словно гиря.
“И только вы, люди, обладаете дьявольской привилегией этого выбора. Только вы можете посмотреть на этот фундаментальный закон бытия и сказать: “Нет”. Осознанно. Добровольно. Как сделал ты. Как миллионы до тебя. Кто-то – с грохотом, как ты, выстрелом в висок. Кто-то – тихо, медленно, отравляя себя ядом отчаяния, равнодушия или ложной надежды. Но путь саморазрушения – это всегда осознанный шаг навстречу мне. Семимильными шагами”.
Борис почувствовал странный стыд, но не за свой поступок, а за его банальность. Он был всего лишь одним из миллионов, кто воспользовался этим чудовищным правом сказать “нет”.
“И смерть… смерть пришла в этот мир не как наказание, – продолжил Азраил. – Она пришла как ваш выбор. Как необходимое условие. Чтобы вы научились дорожить жизнью. Чтобы у вас был дедлайн, как вы это называете. Чтобы миг имел цену, а желание, воплощенное в плоти, – свой срок и свою награду. Смерть сделала вашу игру осмысленной”.
“А ты? – тихо спросил Борис. – Ты такой как сейчас появился вместе с ней?»
“Моя программа была обновлена, – ответил ангел, и в его словах снова послышался скрип вечных шестеренок. – Появилась необходимость в проводнике. В наставнике, который забирает души и уводит их… на обучение. Так вы бы это назвали. Моя прежняя функция отошла на второй план. С тех пор и по сей день я – тот, кто завершает земной акт. Вы называли бы эту работу странной, страшной, отвратительной. А я тогда… я тогда не называл её никак. Это была новая задача в списке задач. Не более того”.
И тут Борис, который слушал, затаив дыхание, уловил ту самую нить, что беспокоила его с прошлой главы.
“Погоди… Ты говоришь: “я тогда не называл”. Ты постоянно говоришь о своих чувствах, о своем восприятии – в прошедшем времени. Почему? Что изменилось? Ты сказал, что ангелы неизменны”.
Азраил замолчал. Долго. Так долго, что Борису показалось, будто время в призрачном кабинете и вправду остановилось. Когда он снова заговорил, в его голосе не было ни усталости, ни холодности. Была лишь точность хирурга, вскрывающего давно забытую, но все еще болезненную рану.
“Ты задал единственный вопрос, на который у меня нет готового, запрограммированного ответа, Борис, – сказал он. – С начала времён очень многое поменялось. Изменился и материал ваших душ, став более сложным, более… “загрязненным” опытом. И этот опыт, эта энергия, оказалась коррозийной. Она не могла изменить нашу суть – мы остались теми, кто мы есть. Но она… оставила на нас следы. Как вода, веками точащая камень. Миллиарды душ, миллиарды контактов, миллиарды вспышек страха, гнева, сожаления, облегчения, любви… Это не могло пройти бесследно. Мы, ангелы, начали не чувствовать, а помнить ощущения. Мы начали не желать, а понимать желания. Мы начали не уставать, а накапливать отпечатки этой усталости”.
Он посмотрел на свои руки, словно впервые видя их.
“Я не стал человеком. Я не обрёл вашу свободу воли. Но я перестал быть просто машиной. Во мне появилось… эхо. Эхо всех тех, кого я проводил. Их незавершенные дела, невысказанные слова, неосуществленные мечты. Они не живут во мне, нет. Они как пыль, что оседает на платье путника, долго идущего по пыльной дороге. Я стряхиваю её, но на следующий день она снова там. И с годами, веками, эонами… эта пыль стала частью покроя платья. Она изменила его цвет. его вес”.
Борис смотрел на него с растущим изумлением. Он видел не всемогущего ангела смерти, а древнее, бесконечно уставшее существо, отягощенное памятью всего человечества. Его собственная жизнь, его боль, его одиночество – всё это было лишь одной-единственной пылинкой в той гигантской туче, что окутала Азраила.
“Значит, ты… ты тоже стал заложником этой Игры?” – с неподдельным состраданием спросил Борис.
Азраил поднял на него свой пронзительный взгляд.
“Заложник? Нет. Свидетель. Вечный свидетель, который не может ни вмешаться, ни забыть. И именно поэтому, Борис, твоё желание – услышать мою историю – является для меня самым необычным. Ты не просишь вернуться. Ты не просишь увидеть прошлое. Ты просишь меня… перебрать эту пыль. Взглянуть на неё при свете. И я не знаю, к чему это приведет. Для меня это… новая функция”.
Глава пятая. Дьявольская механика Эго
Слово повисло в воздухе, словно ядовитый газ, медленно разъедая стройную, хоть и безрадостную, картину мироздания, которую Азраил так методично выстраивал. Борис был очень внимательным слушателем, пока ангел отвечал на один вопрос, у него был готов второй вопрос по его повествованию.
“Погоди, – перебил он, и в его призрачном голосе прозвучала настоящая тревога. – Ты употребил слово “дьявольская”. Привилегия выбора… дьявольская. Кто он? Тот, кого вы называете Дьяволом? Сатана? Это он… стоит за этим?”
Азраил испустил звук, отдаленно напоминающий вздох, – не уставший, а скорее, скучающий, как учитель, которого отвлекают от основной темы ради вопроса, на который он отвечал уже тысячу раз.
“Ты уводишь нас в сторону от хроники, смертный. Но, так и быть. Твой разум, воспитанный в дуализме добра и зла, требует ярлыков. Я дам их тебе”.
Он выпрямился, и его фигура, казалось, на мгновение вобрала в себя всё сияние и весь холод первозданного света.
“Денница. Светоносец. Он был таким же, как я. Ангелом. Идеальным исполнителем. Его функция изначально была иной, но с началом вашей Игры её… пересмотрели. Ему была назначена роль Противника. Противника не Всевышнего, – тут голос Азраила стал твердым, как алмаз, – а человека. Его задача – мешать вам идти тем путём, что ведёт к осознанию вашей собственной божественной природы. Он – необходимый оппонент. Без искушения нет выбора. Без борьбы нет силы. Без тьмы нет ценности у света. Игра должна быть честной, а значит, в ней должны быть правила и противоборствующие стороны”.
Борис слушал, и его ум, отточенный в конкурентной борьбе, сразу же ухватил суть. “Значит, он… просто выполняет приказ? Как ты?”
“Он прекрасно выполняет свою функцию. Его цель – не вселить в вас “зло”, как вы его понимаете. В нём нет ни злобы, ни ненависти к вам. Это было бы слишком примитивно и неэффективно. Он – голос. Всего лишь голос. Голос твоего Эго. Того самого Эго, что сегодня тебе нашептывало, что тебя никто не понимает и не знает как человека. Что ты настолько уникален в своем страдании, что не способен справиться с одиночеством. Что ты настолько велик, что достоин диалога лишь с самим Всевышним, презирая миллиарды тех, кто рядом”.
Каждое слово Азраила било точно в цель, как молоток, вбивающий гвоздь в крышку его собственного гроба. Борис видел себя – не жертвой обстоятельств, а добровольным слушателем этой ядовитой, сладкой песни.
“Ты забыл одну простую вещь, – продолжал ангел, и его холодный голос впервые обрёл оттенок чего-то, что можно было счесть упрёком. – Благодарность. Это самое эффективное, самое мощное оружие в вашей Игре. Оно – антитеза Эго. Ты мог бы быть счастлив большую часть своей жизни, если бы не слушал его голос. Вспомни. Ты обладал тем, о чем миллиарды людей не смеют и мечтать. Они назвали бы твою жизнь раем. Но ты не был благодарен. Ты считал всё своей заслугой”.
“Я всего добился сам!” – попытался возразить Борис, но в его голосе не было прежней уверенности.
“Сам? – Азраил парировал с убийственной точностью. – Ты можешь себе представить мир, в котором тебе и за деньги ничем не помогли бы? Где врачи отказались бы лечить тебя, повара – кормить, строители – строить для тебя крепости? Твои деньги были лишь бумагой. Реальную ценность имели действия других людей. Их труд, их время, их энергия, которую ты покупал. Ты мог нанимать лучших умов планеты, заставляя их гениальности служить твоим амбициям. Ты мог через них реализовывать свои желания! Это удивительно, прекрасно! Это – чудо сотрудничества, пусть и купленного. Но ты… ты презирал их. Ты видел в них инструменты, слуг, а не соучастников твоего “великого” пути. Ты был слеп к чуду, которое творилось вокруг тебя каждый день”.
Борис молчал. Он смотрел на призрачные стены своего особняка и видел не свидетельство своего могущества, а памятник своей глухоте. Он слышал голос Денницы как эхо собственных мыслей: “Они все от меня чего-то хотят. Они все пользуются мной”. Он никогда не думал: “Какое счастье, что они есть, что они делают для меня это, даже ради выгоды”.
“В этом, – заключил Азраил, и в его тоне вновь появилась та самая, неизвестная людям усталость, – если пытаться вас понять, и заключается по-настоящему дьявольская работа Денницы. Не в том, чтобы толкнуть тебя на убийство или воровство. А в том, чтобы заставить тебя забыть говорить “спасибо”. Чтобы ты видел в дарах – должное, в людях – функции, а в собственном отражении – единственную реальность, которая имеет значение. Он не украл твою жизнь. Он убедил тебя, что ты и так ею владеешь, и от этого она стала невыносимой. И в конце концов… ты сам, своим осознанным выбором, нажал на курок”.
Азраил умолк, дав своим словам просочиться в самое нутро бывшего миллиардера. Интрига была не в том, что же дальше расскажет ангел. Интрига была в том, сможет ли Борис вынести тяжесть этого откровения о самом себе.
Глава шестая. Шум и тишина душ
Азраил позволил своим словам о Деннице раствориться в тяжком молчании особняка. Борис переваривал услышанное, и его призрачная форма будто сжалась под грузом этого нового понимания. Он был не жертвой, а добровольным соучастником своего конца. Чтобы отвлечься от гнетущего осознания, он вернул ангела к его повествованию.
“Итак… смерть. С самых первых людей. Каково это было?” – спросил он, жаждая услышать хоть что-то, что не имело бы прямого отношения к его собственным ошибкам.
Азраил, казалось, на мгновение вернулся в настоящее, его взгляд, устремленный вглубь веков, сфокусировался на Борисе.
“Смерти первых людей не были для меня чем-то грандиозным, – начал он с той же методичностью, с какой геолог описывает древние породы. – Это была просто работа. Рутинная операция в рамках нового протокола. Я выполнял её спокойно и уверенно, как вы выключаете свет, покидая комнату. Да и сами они не испытывали того ужаса, что отравляет ваши последние мгновения сейчас. Для них это было так же естественно, как увядание цветка или засыпание зверя в зимней спячке. Вокруг них постоянно умирала одна форма жизни, чтобы дать дорогу другой. Не было этого чудовищного культа бессмертия, порожденного страхом, а значит – не было и паники.”
“Ты просто… забирал их? И всё?”
“Я провожал их души на обучение. Представь себе куратора в вашем университете, который встречает нового студента у ворот, провожает его до аудитории и спокойно удаляется, чтобы заняться следующим. Без лишних эмоций. Без драмы. Я не могу сказать, что их души были “чище” – это ваше, человеческое, морализаторское понятие. В них просто было меньше шума. Меньше лишних, накрученных мыслей, навязанных страхов, ложных целей. В них была тишина и… понимание. Они не жили ни объективными угрозами, которых было предостаточно, ни выдуманными ужасами о будущем. Они просто жили. И в этом было нечто поразительно прекрасное. Сейчас я вижу подобное лишь в одном случае…”
Азраил замолчал, и в его глазах мелькнула тень, которую Борис не мог интерпретировать.
“…Забирая детские души. Они… просто радовались самой жизни. Этой возможности – быть. Они игрались с её проявлениями, и даже испытывая боль или страх, они искренне, полностью позволяли себе это прочувствовать, как одну из возможных форм существования. Они не запирали эти эмоции в глубине, не копили их годами, чтобы потом выплеснуть в неконтролируемой ярости на ни в чём не повинных близких или в глухой, безмолвной депрессии на самого себя. Эмоции… – он сделал акцент на этом слове, – это тоже величайший ваш дар. Они дают вам возможность почувствовать вкус жизни во всей его полноте. Вы можете ощутить восторг, который нам недоступен, и пережить скорбь, глубина которой для нас – лишь математическая величина.”
Борис покачал головой, чувствуя себя неспособным понять. “Как это – “почувствовать вкус”? Мне сложно представить иное состояние. Я не знаю, что такое жизнь без эмоций. Это всё равно что спросить рыбу, что такое вода.”
Азраил кивнул, и впервые за весь разговор его жест показался почти что одобрительным.
“Правильное сравнение. Я приведу тебе два примера – древний, как сама жизнь, и ультрасовременный, порождение твоего века. Посмотри на мир вокруг. Многие живые организмы либо не видят совсем, либо видят в очень ограниченном диапазоне цветов. Для муравья или летучей мыши было бы величайшим шоком, потрясением сознания, увидеть всю палитру заката так, как видишь её ты. Они существуют в своем “бесцветном” мире, и он для них – единственная реальность. Ты же обладаешь этим чудом с рождения и даже не задумываешься о нём.”
Он сделал паузу, давая образу улечься.
“Пример второй. Ваш искусственный интеллект. Он уже сейчас обладает вычислительной мощью, превосходящей интеллект любого человека на планете. Он может решать задачи, которые тебе не под силу. Но он не может написать стихотворение, потому что его тронула красота одинокого дерева в поле. Он не может солгать из милосердия. Он не может использовать свой мощный интеллект ни для чего, кроме той узкой функции, что вы в него вложили. А ты, обладая куда более скудным, ненадежным, эмоционально окрашенным интеллектом, можешь использовать его “на полную катушку”, как вы говорите. Ты можешь создавать целые миры в своём воображении, можешь любить, ненавидеть, творить и разрушать, руководствуясь не логикой, а тем самым “шумом”, что наполняет твою душу. Ты – как человек, видящий все цвета, по сравнению с чёрно-белым искусственным интеллектом. Вот что такое для нас ваша эмоциональная, “зашумленная” жизнь. Мы – тот самый ИИ. А вы – существа, наделённые безумным, хаотичным, болезненным и прекрасным даром полноцветного восприятия бытия.”
Борис слушал, и его душа, эта израненная, уставшая субстанция, впервые за долгие годы ощутила не гордость, а нечто иное – благоговейный трепет перед самим фактом своего существования. Он был частью этого безумного, красочного хаоса.
“И что же? – тихо спросил он. – Вы наблюдали за нами, за этим “полноцветным” шумом, и…?”
Азраил продолжил, и его голос вновь стал плоским и безжизненным, но теперь Борис улавливал в этой плоскости скрытую трещину.
“В начале мира все, включая меня, ожидали недолгий процесс. Мы думали, человечество, вкусив всю палитру жизни, быстро насытится ею, переживёт свои небольшие испытания, вырастет духовно и триумфально одолеет в игре с Денницей. Мы ждали скорого и блестящего финала.”
Он замолчал, и в этой паузе висела тяжесть всех тысячелетий, всех неоправданных надежд. Его взгляд, казалось, уходил так далеко, куда не могла проникнуть даже мысль Бориса.
“Но всё пошло не по плану…” – произнес Азраил, и эти слова прозвучали как приговор, вынесенный не человечеству, а самой идее предопределенности.
Глава седьмая. Эхо человеческой веры
Ледяное спокойствие Азраила, с которым он говорил о первых веках человечества, начало таять, уступая место чему-то иному – ровному, монотонному гулу разочарования, накопленного за тысячелетия.
“С веками, – продолжил он, и его голос звучал, как скрип пера, выводящего бесконечный список в гигантской бухгалтерской книге, – люди уходили всё дальше и дальше от изначальной простоты духовного роста. Они не просто жили – они начали создавать сложные конструкции, чтобы объяснить себе жизнь. Культы. Культы всего: солнца, луны, животных, камней, предков. Они создали бесчисленное множество “Золотых Тельцов” – не только из металла, но из идей, статусов, политических доктрин. А тема Сатаны и смерти… она обросла таким слоем ужаса, суеверий и спекуляций, что даже увидев меня, люди перестали задавать прямые вопросы. Они пытались читать заученные молитвы, торговаться, предлагать сделки или убедить меня в правоте своего конкретного мировоззрения, как будто я был не вестником, а судьёй, которого можно подкупить или ввести в заблуждение.”
Борис не удержался от горькой усмешки. Ему, знавшему всю подноготную человеческих сделок, это было до боли знакомо. “Да, это должно быть очень… смешно слышать. Наверное, как ребёнок, пытающийся объяснить взрослому теорию относительности с помощью кубиков.”
“У меня нет эмоций, как таковых, – напомнил Азраил, – поэтому я не гневался и не смеялся. Для меня это было данными. Сигналом. Всё это означало, что Игра вышла за рамки первоначальных расчётов и движется по неопределённой, хаотичной траектории. Люди стали окружать себя целыми лесами примет, обрядов, ритуалов. Появились гадалки, шаманы, жрецы – целая индустрия посредников между человеком и невидимым миром.”
“Но позволь, – решил возразить Борис, вспомнив собственный опыт. – Я с тобой не согласен. Да, большинство – шарлатаны. Я знаю, я платил им. Но есть те, у кого действительно есть способности. Паранормальные. Я видел это своими глазами. Одной женщине в Сибири… я платил огромные деньги, и она рассказывала вещи, которые не могла знать.”
Азраил склонил голову, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на холодное любопытство.
“Хм, – произнёс он. – Я разве сказал, что их не существует? Я сказал, что вам было запрещено так делать. Всё в этом мире работает по вашему желанию. По вере. Это базовый закон материи, которую вы населяете. Когда критическая масса людей начинает во что-то верить, их коллективная энергия материализует это. Образы, сущности, фантомы. Даже если бы меня не создали изначально, рано или поздно вы сами, силой своего страха и ожидания, создали бы нечто, выполняющее мои функции. Именно поэтому вам и было запрещено плодить такие сущности. Вы создавали себе кумиров, а потом начинали им поклоняться, отдавая им свою энергию, вместо того чтобы направлять её на собственное развитие.”
Борис замолк, поражённый. Вся мистика, все “тонкие миры”, в существование которых он порой верил, а порой высмеивал, оказывались порождением самих людей. Они были авторами собственных кошмаров и утешителей.
“С каждым веком мои задачи становились сложнее, – продолжил Азраил. – Люди росли интеллектуально, их души накапливали опыт, но этот опыт часто оборачивался не мудростью, а лишь новыми, более изощрёнными верованиями. И всех этих заблудших, уверовавших в десятки разных богов и демонов, необходимо было переучивать. Возвращать к основе. Это как если бы куратору в университете пришлось сначала разубедить студента в том, что Земля плоская, и только потом начинать учить его физике.”
Его голос стал ещё более безжизненным, словно он докладывал о системной ошибке.
“Но самое разрушительное началось, когда люди стали убивать друг друга. Сначала – за ресурсы, но за тысячелетия до того, как эти ресурсы действительно начали исчерпываться. Потом – за идеи. За религию. В конце концов – просто за точку зрения, отличную от их собственной. Каждое такое убийство, капля пролитой крови, волна ненависти – это была колоссальная порция энергии, которую они добровольно отдавали Деннице. А он, получая эту подпитку, с новой силой усложнял испытания. Он становился сильнее, а вы – слабее. То, что вы называете злом, росло в геометрической прогрессии, как снежный ком, а человечество, раздираемое изнутри, теряло связь с тем самым “полноцветным” восприятием жизни, которое делало вас уникальными.”
Впервые за весь рассказ Азраил сделал паузу, которая показалась Борису отчаянной.
“Решение было найдено. Чтобы не переучивать вас после смерти, решено было учить вас ещё при жизни. Для этого в мир приходили Учителя. Пророки. Они несли простое знание: о любви, о прощении, о благодарности, о внутренней свободе. Они очень помогали, возвращая равновесие в Игру, на время ослабляя хватку Денницы.”
И тут тон Азраила стал совершенно плоским, словно он констатировал величайшую иронию мироздания.
“Но человеческая природа, испорченная тем самым древним вирусом, брала своё. Из каждого такого Учителя, из его простых и ясных слов, вы снова и снова создавали культы. Возводили храмы. Начинали убивать друг друга за правильное толкование их заповедей. Вы превращали их в золотых тельцов… и всё начиналось по новой.”
Азраил умолк, и в тишине Борис понял страшную истину: величайшим врагом человечества был не Денница, а его собственная, неисправимая, гениальная в своем искажении природа.
“И тогда, – закончил Азраил, и его слова повисли в воздухе зловещим предзнаменованием, – было принято ещё одно решение. Более радикальное. Решение, которое навсегда изменило правила Игры и поставило под вопрос саму её цель.”
Глава восьмая. Колесо с занозой
Решение, о котором говорил Азраил, висело в воздухе тяжким, неозвученным приговором. Борис ждал, чувствуя, что сейчас прозвучит нечто, что перевернёт всё его представление о жизни, смерти и смысле его собственного существования.
“Мы изменили алгоритм, – произнёс, наконец, ангел, и его слова были лишены всякого драматизма, словно он говорил о перенастройке механизма. – До этого момента душа, завершив одну короткую жизнь, приходила на “обучение” – своего рода разбор полётов, анализ ошибок и усвоение уроков. Но скорость вашего падения была выше скорости обучения. Одиночного жизненного опыта стало катастрофически не хватать. И тогда была запущена программа реинкарнации.”
“Реинкарнация? – переспросил Борис, и в его голосе прозвучало недоверие. – Перерождение? Так значит, всё это – карма, колесо сансары? Это правда?”
“Вы любите давать всему поэтические названия, – заметил Азраил. – “Колесо”. Да, это хорошая метафора. Но представь себе колесо, в которое в каждой новой жизни вбивается новая заноза. Цель была проста: дать душе шанс наработать недостающий опыт в разных условиях, с разных углов, исправить старые ошибки и не наделать новых. Это должен был быть ускоренный курс спасения.”
