Теткины детки. Удивительная история большой, шумной семьи
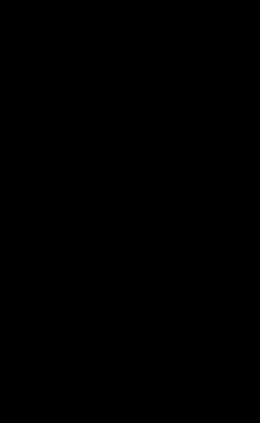
Серия «Все счастливые семьи. Российская коллекция»
Все имена и события в книге вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны.
© Шумяцкая О.Ю., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
АЗБУКА®
Теткины детки
Маме и папе…
1965–1975
Сначала казалось – страшно.
Семья была большая, шумная, чужая. По вечерам за столом собиралось человек пятнадцать-двадцать. Со всех концов Москвы приезжали дядюшки и тетушки, племянники и племянницы, родные и двоюродные, близкие и далекие. Громко пели украинские песни и – тихо, плотно прикрыв дверь в общий коридор, – еврейские, местечковые. Они все были из еврейских украинских местечек и привыкли жить кучно и тесно. Когда к столу совсем ничего не было, свекровь резала большой батон и вынимала из буфета банку засахаренного прошлогоднего варенья. Время от времени в проходной комнате у белой кафельной печки – единственном теплом месте – обнаруживались иногородние родственники. Тогда свекровь пекла пироги, с утра накрывала стол, звонила из темного закутка у кухни (там на стене висел телефон, похожий на гигантскую черную муху, с тяжелой, как гантель, трубкой):
– Нюра, ты слышишь? Приехал Даня из Киева!
– Сонечка? Это я, Муся! У нас Дора из Ревды!
Хлопали двери, приходили и уходили люди.
– Едут рижане, – объявляла свекровь.
«Рио-де-Жанейро», – чудилось Татьяне.
– Завтра будет проездом Сара из Магадана! – кричала свекровь в трубку.
«Сара с Мадагаскара», – шептала Татьяна.
Сама она нигде не бывала – ни в Ревде, ни в Магадане, ни в Киеве. А уж в Рио-де-Жанейро и подавно. Названия знала из школьного курса географии и повторяла про себя с каким-то молитвенным благоговением.
Когда в клубах морозного пара или летней томительной испарине в дверь вваливались чужие люди, в воздухе начинало пахнуть дальними странами. Люди сгружали в угол коричневые чемоданы, похожие на растрескавшийся шоколад «Алёнка», серые самострочные мешки с детсадовскими и пионерлагерными цветными надписями, вышитыми нитками мулине: «Эдик А., 3-й класс», «Соня Д., подготов, труп.». Отряхивались, осматривались, требовали немедленно горячей воды, мыла и полотенец, потом долго плескались в общей кухне под краном, и фыркали, и стонали от удовольствия, и кричали через коридор, что надо срочно разобрать чемодан, потому что домашняя колбаса с чесноком уже сутки как в дороге, а ей это вредно. И торт – чудный «Киевский» торт, безе просто шелк, а крем, вы не поверите, ни капли маргарина! – немедленно выньте и поставьте на холод, а варенье ничего, варенье переживет, что ему сделается! И входили в комнату, голые по пояс – мужчины в старых линялых галифе, женщины в черных плотных суконных юбках – вот что удивительно, даже в жару, даже в жару! – и сатиновых бюстгальтерах с большими белыми костяными пуговицами, чуть-чуть пожелтевшими от старости. И еще большее удивление это вызывало потому, что тут вам и соседка Марья Львовна, известная блюстительница нравов, и лысый Толька из угловой комнаты, известный на всю округу бабник и охальник, и полная кухня любопытных глаз, пристально следящих за каждым неловким движением, и уши, приклеенные к замочным скважинам в надежде услышать необдуманное слово, – и вот вам белые бюстгальтеры всем напоказ, и ладно только бюстгальтеры, еще и пуговицы, почему-то олицетворяющие для Татьяны мучительный стыд телесного разоблачения в присутствии чужих людей. Пуговицы она воспринимала как печать этого стыда, поставленную на самом видном месте. Но ничего не замечалось. Ни осуждающие взгляды Марьи Львовны, ни похотливая Толькина улыбочка. Шли по темному коридору, с полотенцами на плечах, встряхивая мокрыми волосами, словно после вечернего деревенского купания. И свекровь – та самая свекровь, которую Татьяна боялась до озноба, до сжатых кулачков, до побелевших костяшек пальцев, – хохотала, бросалась на шею, душила в объятиях так, как умела только она – ни ойкнуть, ни вздохнуть, – чмокала в щеку и подводила к Татьяне.
– Это наша Танечка! А это…
Даня, Дора, Сара, Моня… Родственники. Теперь и ее, Татьяны, тоже. Родственников Татьяна боялась, сбивалась со счета, путалась. У них-то с мамой почти никого не было. Единственная тетка – мамина сестра-близняшка – приезжала из деревни раз в пять лет, и в их крошечную комнатенку на Сретенке забегали разве что Татьянины подружки.
Как они остались с мамой вдвоем, Татьяна помнила. Это совсем недавно случилось. Она тогда училась в последнем классе. Шел шестьдесят второй год, в школах уже несколько лет как ввели совместное обучение, и на двадцать три девчонки приходилось пять парней. Петька Завалишин – рыжий до боли в глазах – влюбился в нее сразу. Он к ним как раз в выпускной год пришел. В нее вообще сразу влюблялись. Учительница истории сказала как-то, что у нее глаза как на фаюмском портрете. Что это такое, Татьяна не знала, но слова запомнила и вечером, лежа в кровати, долго вертела в голове. Они казались мягкими, уютными, фланелевыми, чуть-чуть отдающими пармской фиалкой. Татьяна как будто пробовала их на вкус.
Так вот, Петька. В тот день Петька впервые пошел ее провожать. Нет, не так: в тот день она впервые разрешила Петьке себя проводить.
– Пойдем, – сказала у подъезда, – поднимешься, чаю выпьем.
Они поднялись. Бабушка сидела в кресле у окна. Сухие руки, лежащие на подлокотниках, слегка дрожали. Увидев Татьяну, бабушка шевельнула тонкими подкрашенными губами. Высокая, волосок к волоску, прическа «а-ля Помпадур» – Татьянина мать звала ее «помпадурой» – качнулась в знак приветствия. Татьяна подошла, таща Петьку за собой. Бабушка ласково посмотрела на них, вздохнула и умерла. Татьяна закрыла ей глаза и пошла звонить матери, на фабрику.
– Тебя ждала, – сказала мать. Выдвинула ящик комода и вынула оттуда старый коричневый пуховый платок с дырками вместо ажурного рисунка – завесить зеркало.
Так они остались вдвоем.
А Петька что? Петьку Татьяна потом видела всего раз на встрече друзей, лет через тридцать после окончания школы. Полинял, стерся, Татьяна с трудом его узнала. А он – он посмотрел на нее угрюмо и пробормотал что-то о глазах, которые никакое время не берет. Это к вопросу о фаюмском портрете. Сама-то Татьяна считала, что глаза у нее как чернильные кляксы.
Последние годы, когда бабушка уже не вставала, Татьяна с матерью вынимали ее по утрам из кровати, надевали белоснежную блузку, синий саржевый костюм, сооружали на голове «помпадуру» и подносили маленькое зеркальце. Бабушка смотрелась в него, тонким, сухим пальчиком тщательно разглаживала морщины на вельветовом от старости лбу, проводила по тонким губам помадой, пуховкой – по впалым щекам, будто сделанным из мятой рисовой бумаги, и кивала: можете идти. Они и шли: Татьяна в школу, мать на работу, на трикотажную фабрику.
Вечером мать первым делом кидалась к керосинке, варила картошку, или пшенную кашу с тыквой – Татьяна особенно любила, чтобы с тыквой, – или вермишель – бабушка предпочитала «Экстру» – и, роняя по дороге тряпки, обжигаясь, чертыхаясь, несла в комнату. Мясо ели нечасто. Если честно, почти совсем не ели. Разве что на день рождения или праздник какой. Однажды матери дали премию, и она решила кутнуть. Зашла в кулинарию, купила три отбивные. Придя домой, сразу кинулась жарить. Хотела успеть к Татьяниному приходу. Но тут бабушка крикнула что-то своим высоким птичьим голосом, и мать бросилась на зов. Вернувшись, обнаружила на кухне соседскую девчонку Нинку, которая хватала отбивные со сковородки и торопливо засовывала в рот. Увидев хозяйку, Нинка отскочила в сторону, на секунду замерла, прыгнула обратно и цапнула оставшуюся отбивную. Прожевав, она осуждающе посмотрела на Татьянину мать и сказала как бы в никуда, в пространство:
– А говорят, им есть нечего! Говорят, на одну зарплату живут! Офицерские-то жены!
Офицерской женой была мать. Татьяна – офицерской дочерью. Бабушка – офицерской матерью. Татьяниной матери Евдокии Васильевне ее оставил отец, когда ушел к другой.
– Вот, – сказал, – Дуся, ухожу. Поживешь пока с мамой.
Та кивнула. С чужой мамой она прожила семнадцать лет.
Как это произошло, Татьяна не помнила. Об уходе отца знала со слов матери. Еще знала, что в отца пошла мастью и наружностью. В детстве мать подолгу вглядывалась в ее лицо, протягивала руку, чтобы погладить по голове, но никогда не гладила. Татьяна выросла и стала думать, что отцовские гены, столь резко проявившиеся в ней, не давали матери любить ее так, как обычно любят родители своих детей. И привыкла считать себя недолюбленной.
Она помнила высокого человека в гимнастерке. Как пили чай из розовых фарфоровых чашек, похожих на лепестки диковинного цветка. Чашки бабушка вынимала из буфета раз в году – когда на пороге появлялся тот самый высокий человек в гимнастерке. Еще Татьяна помнила, как горели бабушкины щеки, как, повернувшись к высокому человеку, она заглядывала ему в глаза, как гладила широкую мужскую руку с папиросой, зажатой между указательным и средним пальцами, как суетливо пододвигала пепельницу, как подливала чай, стуча носиком чайника о край чашки. Как появлялась на пороге мать, бледнела, резко разворачивалась и уходила к Белкиным, в соседнюю комнату, и там сидела на чужой кружевной кровати, похожей на торт с меренгами, сгорбившись и закрыв лицо руками. Татьяна шла за ней и стояла рядом, положив маленькую детскую ладошку на седую голову с тощими косицами, собранными на затылке в невзрачную корзиночку. Ей хотелось отнять материнские руки от лица и посмотреть, что там, за этими руками, она так отчаянно скрывает.
– Хоть бы яблоко ребенку принес! – глухо шептала мать.
Как-то – Татьяне тогда было лет шесть – высокий человек взял ее на руки, внимательно посмотрел ей в лицо, и она вдруг узнала в нем отца – по глазам, похожим на чернильные кляксы.
– В зоопарк пойдешь со мной? – спросил отец.
Татьяна кивнула. Ей показалось, что в грудь ей вложили маленький уголек. Тот потом всегда появлялся, когда Татьяна волновалась, и каждый раз ей вспоминался зоопарк.
– Пойду! – шепнула она.
– Вот и хорошо. Завтра и отправимся. Будь готова к пяти, я за тобой зайду.
Он не зашел ни в пять, ни в шесть. В семь мать расплела Татьянины косички, убрала алые ленты, специально купленные по такому случаю, сняла с нее новые лаковые башмачки, аккуратно сложила выходное платьице. Больше Татьяна отца не видела.
Краем уха слышала, как бабушка говорила матери, что отца перевели в другую часть, куда-то на Дальний Восток, и в Москве он долго не появится. А потом она о нем забыла, как забывают дети обо всем, что исчезает из поля их зрения. Мать замуж больше не вышла и после смерти бабушки быстро сама превратилась в старушку. Хотя было ей тогда от силы сорок…
Здесь все было другое. Когда Леонид впервые привел Татьяну в дом знакомиться с родными, она, оглушенная, не зная, что говорить, что делать, куда смотреть, кому отвечать, шарахнулась к книжным шкафам.
– Сколько книг у вас! Как в библиотеке. Надо составить полный список.
Села подальше, в уголок, взяла карандаш, старательно вывела на клетчатом тетрадном листочке: «1-й шкав», «2-й шкав».
Этот «шкав» долго жил в семейных анекдотах. Татьяна злилась, краснела, потом привыкла, сама стала рассказывать как забавный казус. Она вообще быстро пообвыкла. Прижилась. Освоилась – стала своей. Сблизилась с Лялей, старшей сестрой Леонида. Спустя много лет Ляля говорила, что в тот «книжный» вечер брат привел ей не невестку, а сестру. Это была правда. Они дружили, как не дружат родные сестры.
На самом деле ни о каком «шкаве» Татьяна не помнила, как не помнила отца. Память ее была выборочной. Все неудобное, неприятное, ненужное, некрасивое выскакивало из нее, как мелкая рыбешка проскальзывает сквозь ячейки рыбацкой сети. Эту способность отбрасывать в сторону камешки, встречавшиеся на пути, и, не оглядываясь, идти дальше, Леонид называл инстинктом самосохранения. Татьяна с ним соглашалась и думала про себя, что бы с ней стало в этой огромной чужой семье, если бы не этот инстинкт. И тренировала память на услужливость. Сквозь плотный туман, устилавший прошлое, на свет пробивались лишь золотые картинки.
Вот широкая квадратная комната о трех окнах. На них – кружевные занавески. Цветов нет. Закатное солнце, проходя сквозь кружево, чертит на дубовом полу странные узоры, похожие на детские неуклюжие рисунки. На Сретенке, в их с матерью девятиметровой комнатенке, узкой, как тараканья щель, окно было одно. Голое окно, выходящее на стену соседнего дома. А тут окна выходят во двор. Во дворе – качели, два куста акации, шиповник, песочница, стол, рядом – скамейка, выструганная каким-то местным умельцем. Почти дача. В углу комнаты – пузатая белая кафельная печь. Посреди – круглый стол под плюшевой скатертью с длинными кистями. На ней – райские птицы с рыжим оперением, ядовито-зеленые листья и малиновые цветы. На Сретенке, в их с матерью комнате, никакого стола не было. Стояли три кровати – ее, материна и бабушкина. Последние – по двум длинным стенкам, ее – возле окна. Они занимали все жилое пространство. Оставалось немного места для клетки с белой мышкой, принесенной Татьяной из школьного живого уголка, и маленького фанерного буфетика, в котором бабушка хранила чашки – те самые, из розового фарфора, похожие на лепестки диковинных цветов. Когда приходили гости – редко, но случалось, – в комнату вносили кухонный стол, предварительно спросив у соседей Белкиных разрешения переставить к ним керосинку. Тут никаких керосинок не было. На кухне – пять газовых плит. Десять семей – пять плит. Нормально.
Леонид подталкивает ее вперед. Татьяна переступает порог и окунается в медовое закатное марево. Навстречу ей встает женщина. У женщины все высокое – брови, словно две гусеницы, сдвинутые в переносице и поднимающиеся к вискам; лоб, убегающий к иссиня-черным волосам; волосы, уложенные на голове короной; большая грудь под вышитой блузкой с воротничком апаш. Женщина вынимает папиросу, крепко, по-мужски, стучит ею о портсигар, сует в рот и большими мужскими шагами подходит к Татьяне.
– Ну, здравствуй! – говорит она хорошо поставленным басом. Папироса подскакивает на губе. – Марья Семеновна! – и протягивает Татьяне мужскую ладонь.
Татьяна сует ей свою ладошку. Женщина берет ее, встряхивает так, будто хочет выбить девушке плечевой сустав, и усмехается. Из-за ее спины выглядывает женщина помоложе. У нее такие же высокие, резко очерченные, густые украинские брови, и лоб, и грудь, и аккуратный носик, только волосы собраны в тяжелый низкий узел и в глазах какая-то ласковая приветливая насмешливость. Она выскальзывает из-за спины Марьи Семеновны, прячет руки за собой и медленно, важной страусиной поступью, обходит Татьяну. В белой блузке и синих шароварах она похожа на школьницу, съевшую слишком много булочек.
– Ляля! – строго произносит Марья Семеновна.
Ляля прыскает и останавливается перед Татьяной.
– Значит, пинг-понг… – говорит она.
Потом они часто пили за пинг-понг. Первый тост на годовщинах свадьбы: «За пинг-понг!» На днях рождения – сначала «За здоровье!», потом «За пинг-понг!». Когда Катька родилась – «Ну, за пинг-понг!».
Пинг-понг стоял на лестничной клетке второго этажа. Вся институтская молодежь собиралась там в обеденный перерыв. Татьяна тоже приходила. К институтской молодежи она себя не причисляла. Стеснялась. Институтская молодежь – все сплошь молодые специалисты, будущие кандидаты наук, а она – техник, сидит за чертежной доской, обводит остро заточенным карандашиком чужие умные линии. В пинг-понг Татьяна не играла. Пряталась за спинами. Наблюдала. Считала чужие ошибки. В школе она лучше всех делала подачи, такие кренделя закручивала! Однажды, выглядывая из-за чьего-то плеча, увидала новое лицо: кудрявые темные волосы, высокий лоб, смуглые щеки с выпирающими скулами и странные глаза – со смехоточинкой. Татьяна загляделась на эти глаза и не заметила, как Валька из планового отдела широко размахнулась и со свистом мазнула ракеткой мимо шарика. Он отскочил от стола, срикошетил об стену и упал под ноги новичку. Тот шарик поднял, внимательно рассмотрел, сделал шаг вперед, растолкал народ и протянул Татьяне, вжавшейся в стену.
– А сейчас не моя подача, – испуганно прошептала Татьяна.
– Значит, моя, – засмеялся парень.
Татьяна ухватилась за шарик и попыталась вынуть его из длинных смуглых пальцев. Но новичок шарик не отпускал, тянул к себе вместе с Татьяниной рукой и улыбался.
– А я вообще не играю, – так же тихо проговорила Татьяна и тоже улыбнулась.
– А я играю, – сказал он, выпустил шарик и сжал Татьянину руку. – Леонид.
Шарик немножко попрыгал и укатился под стол. Они не заметили.
Вечером он пригласил ее в кафе. Решили пойти на площадь Восстания, в высотку.
– Что будем пить? – спросил Леонид, когда они уселись за столик.
– Мне «Буратино», – попросила Татьяна, потупив взгляд.
– Ага, «Буратино», значит, – задумчиво протянул Леонид и заказал красного грузинского вина. – А есть?
– Мне мороженое, ванильное, – прошептала Татьяна, краснея. Еще никто никогда не приглашал ее в кафе и не спрашивал, что она будет пить и есть.
– Ага, мороженое, значит, – задумчиво протянул Леонид и заказал цыпленка табака, столичный салат, пирожное «буше». Ну и мороженое, разумеется.
Весь вечер она боялась, что ему не хватит денег.
Когда официант принес счет, Татьяна схватила сумочку и поспешно вытащила оттуда маленький черный кошелек с застежкой-бантиком.
– Вот… зарплата… как раз сегодня… – пробормотала она.
Леонид засмеялся, взял у нее из рук кошелек и засунул обратно в сумку.
– Вы, девушка, очень удивитесь, но у меня тоже зарплата… как раз сегодня.
Они вышли из кафе. Только что прошел дождь, и пленка облаков затягивала небо, как глаз старой больной птицы. Парило. От луж поднимался запах мазута.
– Пошли к бульварам, – предложил Леонид.
И они пошли к бульварам. Шли по улице Герцена – Татьяна по краю тротуара, а Леонид по мостовой, держа ее за руку, как держат ребенка, забравшегося на высокий парапет, и загребая носком левого ботинка влажный, серый, свалявшийся, словно старая вата, тополиный пух. Когда вошли на Тверской, над городом нарисовалась радуга. В то лето каждый день шли дожди и каждый день небо строило радужные ворота в их новую жизнь.
– Смотри, – сказал Леонид. – Радуга. Это на счастье. – Он поднял указательный палец и начал считать цвета. – Каждый…
– Охотник… – отозвалась Татьяна.
– Желает…
– Знать…
– Где…
– Сидит…
– Фазан. – Вдруг он остановился и повернул ее к себе: – А я завтра утром уезжаю.
– Куда? – растерянно прошептала Татьяна.
– На юг. На месяц. Матушка достала путевку. Она у меня большой профсоюзный деятель.
– Умывальников начальник и мочалок командир?
И испугалась. Была у нее такая особенность: при всей своей огромной стеснительности сказануть иной раз что-нибудь эдакое, чего сама от себя не ожидала. Леонид засмеялся, притянул ее к себе и поцеловал.
– Я привезу тебе гранаты, – посулил он.
– И рубины, – сказала она, и ей вдруг стало легко. Так легко, будто она превратилась в воздушный шарик, наполненный гелием.
– И рубины, – повторил он.
И они обнялись.
Через два дня, выходя после работы из института, Татьяна обнаружила Леонида. Он сидел на крыльце и пинал ногой камешек.
– Я сбежал, – сказал он и протянул ей гранат. – Вот. На рынке купил. На Центральном. Как обещал.
– А как же матушка?
– Матушка испугалась, решила, что-то случилось. Пойдем.
– Куда?
– Как куда? К матушке.
– Как же тебе отпуск дали? – спросила она по дороге. – Ты же в институт только пришел.
– Я в институте год как работаю. Ты что, не замечала?
– Не замечала.
– А я тебя замечал, – сказал он нарочно беспечным голосом.
И они поднялись на крыльцо.
– Значит, пинг-понг? – спросила Ляля, окидывая Татьяну снизу вверх быстрыми украинскими глазами и покачиваясь с пятки на носок.
– Ляля! – строго повторила Марья Семеновна.
Ляля сверкнула черным глазом, поднялась на цыпочки и вдруг влепила Татьяне в щеку смачный поцелуй.
– Ляля, Ляля! Ля-ля-ля! – пропела она, побежала куда-то в сторону и вернулась, таща за руку высокого человека с маленькими очочками в золотой оправе на тонком горбоносом лице. – Позвольте представить – Миша, мой двоюродный муж!
Татьяна неуверенно улыбнулась, не понимая, надо ли смеяться над этими странными словами или следует все же спросить, что это за штука такая – «двоюродный муж». А Ляля между тем продолжала:
– И целыми днями: «Ляля-Ляля! Ляля-Ляля!» Хоть бы что-нибудь новенькое придумали!
– А вас разве не Лялей зовут? – спросила Татьяна.
– Лялей меня зовут. Но представляешь, как надоедает! Сказали бы, к примеру: «Давай, Катя; тащи чай!»
– Давай, Катя, тащи чай! – сказал Миша, и Татьяна поняла, что пропала.
Она обернулась, как бы прося помощи у Леонида, но его поблизости не оказалось. Тут-то она и наткнулась взглядом на многострадальный «многоуважаемый шкав».
Она сидела в углу, склонившись над тетрадным листочком, ломая карандашный грифель о подлое слово «шкав» и глотая обидные слезы, когда дверь тихонько отворилась и в комнату скользнула тень не тень, фигура не фигура, так, мазок серой краски в пространстве. Марья Семеновна поднялась и пошла навстречу тени, протягивая руки.
– А вот и Риночка! – пропела она. Голос ее был сладок и чуть-чуть напряжен. – Проходи, Риночка, садись. Сейчас чай пить будем. Ляля!
– Катя! – тут же отозвалась Ляля.
Но Марья Семеновна посмотрела строго, и Ляля помчалась на кухню.
Чай пили с огромным бисквитным тортом, украшенным ядовито-красными розами. Леонид подцепил самую большую из них и плюхнул Татьяне на тарелку.
– Мишку за этим тортом к меховщику гоняли! – шепнул он, и она снова – в который раз за этот вечер! – поразилась. Какой меховщик? Что за меховщик? Почему к меховщику надо бегать за тортом?
Ляля болтала ложечкой в стакане, бросая на Татьяну быстрые лукавые взгляды. Миша тоже болтал ложечкой, но глядел не на Татьяну, а на Лялю. Он всегда на нее глядел и как бы примеривался – к ее настроению, словам, улыбкам, взглядам. Уловив в ее лице что-то, одному ему понятное, облегченно вздохнул и засмеялся. Ляля потянулась за сахарницей, но он перехватил ее руку и быстро поцеловал в ложбинку между большим и указательным пальцами. И это тоже поразило Татьяну. Она не знала, что можно вот так просто, за чайным столом, на глазах у всех поцеловать жене руку, а потом долго держать, поглаживая пальцем нежную впадинку, где линия то ли любви, то ли жизни делит ладонь пополам.
Марья Семеновна сидела чуть поодаль – в торце, рядом с Риной, низко склонившейся над вазочкой с вареньем. Ела Рина странно. Не ложку несла ко рту, а лицо к ложке, высоко подняв острые плечики, а голову – наоборот – опуская все ниже и ниже. Взгляд ее из-под плотных подушечек век, заслоняющих глаза, был косой и настороженный. Не то чтобы оценивающий, скорее недоверчивый и выжидательный. Недобрый взгляд. «Может, она в Леонида влюблена?» – подумала Татьяна, и мысль эта потом долго мучила ее. Марья Семеновна подкладывала Рине варенье и приговаривала:
– Ешь, Риночка, ешь. Еще бери, не стесняйся. Тортик бери. Дома-то, наверное, тортик нечасто бывает.
Рина краснела, еще больше горбилась, но кивала и тортик брала. На Татьяну Марья Семеновна почти не смотрела. Поначалу сунулась было с расспросами: где, мол, училась, а мама у нас кто, а на какой фабрике. Но Леонид сделал какое-то неуловимое движение, и Марья Семеновна осеклась, замахала руками – все-все-все! удаляюсь! и слова больше не скажу! даже не просите! И села с краю. И обернулась к Рине. И теперь задавала свои вопросы ей, а та жужжала что-то в ответ. «Жужжала» – это Татьяна потом придумала.
«Пошла жужжать!» – усмехалась она, когда Рина начинала играть в Золушку, угнетенную невинность.
Рина действительно говорила тихо и как бы нехотя, с трудом проталкивая слова сквозь плотно сжатые узкие губы. Скажет слово – и молчит. Платьишко на ней было унылое, школьное, с заплатками на локтях, а девочка уже вполне взрослая – не школьница, студентка, наверное. Это Татьяна сразу заметила. Еще заметила породу – пудельково-кудельковая. И резкой синевы глаза – глаза, которые Рина будто нарочно прятала за плотными припухлыми подушечками век. Такие веки Татьяна видела впервые. Разговора ее с Марьей Семеновной она не слышала. Так, шелест какой-то. Доносились отдельные слова: «…мама… отец… а как же ты, Риночка… совсем не дают… уйду… общежитие». Татьяна поняла, что Рина жалуется.
– Риночка у нас будущий педагог! – сообщила Марья Семеновна, подкладывая варенье в Риночкину вазочку. – Будет вести русский и литературу.
– Ну, хватит! – Ляля хлопнула ладошкой с коротенькими толстыми пальчиками по столу и поднялась. – Убирайте со стола, играем в карты!
– В карты? – поразилась Татьяна. У них в доме после семейного чаепития никогда не играли в карты.
– В карты, в карты! А то сейчас уснете. В кинга. Миша, тащи колоду! – и быстро смела все со стола.
Играли парами: Леонид с Татьяной, Ляля с Мишей. Рина сидела за спиной Леонида, заглядывала через плечо, шептала что-то ему на ухо, иногда протягивала руку, бралась за какую-нибудь карту и кидала ее на стол. «И чего лезет!» – подумала Татьяна, но через минуту забыла и о Рине, и о шепоте, и о руке, протянутой через плечо Леонида. Ляля объяснила правила. Татьяна выслушала, кивнула и вдруг почувствовала в груди знакомое жжение. Уголек. Только не доставляющий боль, не острый, а горячий и приятный. Она взмахнула рукой, хлопнула картой об стол, и игра пошла.
Если бы в тот вечер Татьяна увидела себя со стороны, то сильно бы удивилась. Азарт никогда не значился в числе ее достоинств. Но тут – и глаза разблестелись, и щеки разгорелись, и волосы растрепались, и…
– Ты чем кроешь! Ты думай, чем кроешь! – кричала Татьяна на Леонида, и искры летели из ее чернильных глаз. – Взятку пропустил, дурак такой! Они же нас обставят, как котят!
Леонид широко раскрывал глаза. Ляля смеялась. Миша поглядывал на Лялю, понимал, что можно, и тоже посмеивался. Марья Семеновна качала головой. Рина сидела с каменным лицом. Татьяна бросала карты и продолжала:
– Все! Так я больше не играю! К чертовой матери! – и вскакивала из-за стола.
– А ты ничего! – сказала ей Ляля на прощание. – Я думала, манная каша, а нет, ничего, – и влепила в щеку еще один поцелуй.
– Вот ты ее целуешь, – подал голос Леонид, – а я ее, между прочим, тепленькой взял.
– В каком смысле?
– В том смысле, что месяц назад она чуть было замуж не выскочила.
– Это правда? – строго спросила Ляля, поворачиваясь к Татьяне.
– Правда, – прошелестела Татьяна, становясь прежней и чувствуя себя перед Лялей как нерадивая ученица перед строгой учительницей.
– За кого? – еще строже спросила Ляля.
– За курсанта одного. На вечере познакомились… в военном училище, – еще тише прошелестела Татьяна.
– И до чего дело дошло? – Ляля грозно сдвинула украинские брови.
– Ни до чего. С родственниками повел знакомить, – еле слышно прошептала Татьяна.
– Ага! Значит, с одними родственниками ты уже знакомилась.
– Нет, я не знакомилась! Вы не думайте! Я сбежала! – закричала Татьяна, отчаянно пытаясь оправдаться.
Лялины брови поползли вверх.
– Как так?
– Ну, пока он ключи искал, я и… на улицу. А там… там мама, папа, дедушка… два… бабушка.
– Сколько? Бабушек сколько?
– Одна. Все уже за столом сидели. Меня ждали.
– Еще кто? – продолжала допрос Ляля.
– Тетя Лиза с семьей и дядя Коля… генерал… из Киева… специально приехал. Стыдно… – Голос Татьяны угас.
– Стыдно, – согласилась Ляля. – Значит, дядя Коля. Генерал. Из Киева, – сурово подытожила она.
Татьяна обреченно кивнула.
– Так-так.
– Теперь ты видишь, с кем я связался, – встрял Леонид.
– Ну и правильно! Ну и молодец! – вдруг воскликнула Ляля, схватила Татьяну в охапку и закружила по комнате. – Так им и надо! – Она задохнулась, остановилась и тихо сказала Татьяне на ухо: – Ты не бойся, мы с Мишкой скоро съедем. Нам комнату дают.
– Я не боюсь, – прошептала Татьяна.
На улице Леонид просунул ее руку себе под локоть и крепко прижал к боку.
– А ты ничего, – повторил он Лялины слова.
– А Рина… она тебе кто? – спросила Татьяна.
– Двоюродная сестра.
– Двоюродная…
Она не знала, как реагировать на это слово – «двоюродная». Двоюродных у нее не было. Родных, впрочем, тоже. Что такое двоюродная сестра? Сестра? Или все-таки не очень? Как к ней относиться?
Леонид все крепче прижимал ее руку. Подул ветер, тополиный пух, прибитый к земле, вздохнул, поднялся и полетел над Москвой.
Через два месяца Ляля с Мишей съехали.
Когда в кузов запихнули зеркальный шкаф и никелированную кровать с одной оставшейся в живых шишечкой, похожей на лимонку, когда Ляля с Татьяной увязывали в тюк последние простыни, когда Марья Семеновна судорожно засовывала в кастрюльки картошку и тушеное мясо – «и без разговоров, пожалуйста! захотите есть, меня рядом не будет! вот две тарелки и вилка с ножом, кладу наверх, чтоб ты видела! и шофера, шофера накормить не забудьте!», – когда Леонид тащил последнюю связку книг, а Миша переругивался с шофером, который демонстративно смотрел на часы, всем своим видом и лихо заломленной кепкой показывая, что, мол, пора, брат, пора, вы у меня не одни такие… Так вот, когда дело уже шло к отъезду, под акацией появился коричневый человек. Татьяна именно так и подумала: «Коричневый человек». Развинченной танцующей походкой коричневый человек подошел к грузовику, засунул в кузов длинный крючковатый нос, задумчиво почесал лысину и что-то сказал Мише. Шофер плюнул, махнул рукой и залез в кабину. Миша растерянно оглянулся, сделал неуверенное движение, как бы призывая на помощь бегущего мимо Леонида, но коричневый человек уже был в кузове, уже кричал что-то, размахивая руками и крутя кривым носом, уже скидывал на землю кадку с фикусом, уже тащил из глубины Лялину швейную машинку, уже швырял Мише первый том Большой советской энциклопедии. Миша ее ловил, складывал стопкой на землю и вид имел совершенно растерянный.
– Ляля!.. – Татьяна кивнула на окно.
– О господи! – тихо проговорила Ляля и вдруг заорала: – Мама! Арик!
Но Марья Семеновна только махнула рукой. Ляля сунула Татьяне пододеяльник и бросилась во двор. Сквозь пыльное стекло Татьяна наблюдала, как Ляля вытаскивает Арика из кузова, как тычет толстеньким пальчиком ему в грудь и губы ее двигаются быстро-быстро, как Арик отмахивается от нее, словно от надоевшей мухи, и лезет обратно, а Ляля хватает его за штаны и тащит вниз, как Миша бегает вокруг Ляли, нервно стаскивает очки, и те остаются висеть на кончике его носа, зацепившись дужкой за одно ухо. Как Ляля хватает Большую советскую энциклопедию и сует ему в руки, а Арик Большую советскую энциклопедию из Мишиных рук выхватывает и сваливает на землю, а…
– Иди домой! Домой иди! – слышит Татьяна, пробегая с простынями мимо этой троицы.
– Ну вот еще! – фыркает Арик и лезет в кабину. – Если бы не я, у вас бы все горшки побились!
– Если бы не ты, мы бы уже уехали! – вопит Ляля, но Арик ее не слушает.
– Трогай! – командует он шоферу и крутит кривым носом.
Потом таскали вещи в обратном порядке. Энциклопедия, машинка, шкаф, кровать… Шишечка отвалилась, и шофер, поддав ногой, загнал ее в водосточный желоб. Арик шнырял по двум крошечным полуподвальным комнаткам, новому жилищу Ляли и Миши, крутил носом, чесал лысину, отдавал команды.
– Левее! Правее! Да не туда! Сюда! Мишка, бестолочь, я тебе говорю! Что бы ты без меня делал! – кричал он, и Татьяне казалось, что зычный голос забивается в уши, нос, рот, в каждую щель, в каждый угол, в каждый простенок, и в вентиляционное отверстие под потолком, и в трещину на старой фаянсовой кружке, и в прореху на Лялиной простыне.
Потом сидели на полу, на расстеленной Лялей газетке, ели картошку, по очереди засовывая в кастрюльку единственную ложку. Арик хлопнул водочки, придвинулся к Татьяне поближе и как бы невзначай положил руку ей на колено.
– Ты бы с девушкой познакомил, – сказал он Леониду.
– Татьяна – Арик, – сухо отозвался Леонид.
– Ого! – Арик посмотрел так, что у Татьяны похолодел низ живота.
И тогда кто-то сказал – шуры-муры.
Татьяна вздрогнула. Ей показалось, что шуры-муры – это то, что сейчас происходит между ней и Ариком, хотя ничего особенного не происходило, только взгляд и эта рука на колене. Взгляд был ей неприятен. Рука тоже. Татьяна поежилась и отодвинулась к Леониду.
– Вы к Шурам-Мурам когда пойдете? – спросила Ляля.
– А что, пора? – уточнил Леонид.
– Ну-у, я не знаю, – протянула Ляля, да так, что стало ясно – она-то как раз считает, что давно пора.
Леонид повернулся к Татьяне:
– Вот что, Танька, делаю тебе на этой газете, так сказать, официальное предложение руки и сердца – в трезвом уме, твердой памяти и присутствии независимых свидетелей. Ты как, согласна?
Татьяна поперхнулась, закашлялась, кивнула и маханула рюмку водки.
– Ого! – уважительно сказал Арик.
– А Шуры-Муры – это что? – спросила Татьяна, хватая воздух ртом.
– Шуры-Муры – это наше все, – ответила Ляля, засовывая ей в рот кусок малосольного огурца.
– Тетки это, тетка Мура и тетка Шура. Твой первый официальный визит к будущим родственникам, – пояснил Леонид. – Будут тебя оценивать.
– А вот этот, вот этот – что? – спросила Татьяна, указывая на Арика. Ей уже море было по колено.
– Это наше горюшко!
Арик хохотнул. Ему, видимо, нравилось быть горюшком.
– Двоюродный брат, – добавил Леонид.
– От-ткуда?
– Из Мариуполя. Учится тут. После армии. У него там, в Мариуполе, старушка мама и трое братьев. Жуткое дело.
– Это вы, московские мальчики, – вдруг зло бросил Арик, и лицо его рассекла кривая сабельная улыбка, – это вам все трын-трава. А я дома в бараке жил, на земляном полу спал.
– Да ладно, – примирительно сказал Леонид. – Не петушись. Все на полу спали. Не ты один.
– И м-м-много у в-в-ас-с-с д-д-воюрднх?
– О-о-о! – протянула Ляля. – Давайте-ка, мальчики, несите ее в постель. Пусть поспит часок.
Сквозь дремоту Татьяна слышала их голоса, и смех, и звон ложек, и Лялино «тсс! разбудите!», и Ариковы короткие всхрапы, и тихие шаги Леонида, пришедшего посмотреть, как ей там спится, на никелированной кровати без шишечек. И наконец, Лялин шепот, совсем рядом, возле уха:
– Ты Арика не бойся. Его женят скоро!
– На ком? – спросила Татьяна и уснула окончательно.
Шуры-Муры – тетка Шура и тетка Мура, две старые черепахи – жили за кружевными занавесочками в полуподвальной коммуналке у Курского вокзала. Кроме кружевных занавесочек в их комнате стояла большая кровать, большой круглый стол и большая фотография на столе – тетка Шура в молодости в декольтированном платье из алого креп-жоржета («Алого, алого, поверьте, детка, алое – мой цвет! Жалко, фотография черно-белая, не видно!»), так вот, из алого креп-жоржета с бантом на спине (банта тоже не видно). На снимке она изящно подпирает полной рукой массивный двойной подбородок и лупит (Леонид так потом и сказал: «лупит») фарфоровые глазки.
Тетка Шура спала на большой кровати с аккуратнейшей стопкой подушек («Девять штук, все одна к одной, перышко к перышку, пушинка к пушинке») под кружевной же накидочкой. Где спала тетка Мура, никто не знал. Татьяна подозревала, что на кухне. Леонид утверждал, что на сундуке в маленьком коридорчике перед комнатой, создающем иллюзию пусть не совсем, но отдельной квартирки.
Тетка Шура была девушкой. В молодости имела массу поклонников («Поверьте, детка, я знаю, как обращаться с мужчинами! Мужчины – мой конек!»). Говорили, что за ней ухаживал один морской полковник, красавец, умница, два метра ростом, черный китель, золотые эполеты («эполэты» произносила тетка Шура). Так вот, полковник. Исчез в тот момент, когда тетке Шуре стало дурно по причине невыносимой московской летней духоты, и она, упав на кружевные подушки, попросила полковника расстегнуть на пышной девичьей груди алый креп-жоржет («Ах, детка, он так меня любил! Просто не мог справиться с собой!»).
Тетка Шура поддерживала внутрисемейные связи. Держала в пухлых лапках все ниточки, жилочки, растрепавшиеся концы, связывала узелочки, накладывала швы, затирала шероховатости, сама себя назначив добровольным семейным приставом. Тетка Шура была великий организатор, координатор и пропагандист. Ни одно семейное торжество не проходило без ее личного участия. Ни одно новое лицо не появлялось в семейном интерьере без ее личного одобрения. Ни один конфликт не разрешался без ее личного вмешательства. Ни одна покупка не делалась без ее личного совета. Семья была ее целью, смыслом, радостью, болью, усилием и отдыхом. Гостей принимала сидя в большом кресле с кружевной накидкой, расправив выпуклую, пытавшуюся вырваться из тесного платья на волю, грудь, держась за подлокотники пухлыми пальцами с коротко обрезанными полированными ноготками. Тетка Шура не занималась хозяйством. Она осуществляла общее руководство.
Хозяйство вела тетка Мура – копия тетки Шуры в масштабе один к двум. В том смысле, что две тетки Муры как раз равнялись одной тетке Шуре. Тетка Мура бегала из комнаты на кухню и обратно, и снова в комнату, и снова обратно, по-кошачьи ловко и бесшумно перебирая лапками в меховых стоптанных тапках. «А селедочка, а картошечка, а блюдечко с форшмаком, а мяско под кисло-сладким соусом, а пирог из мацы, вы не пробовали? нет, правда? никогда? ну, как же так, столько лет на свете живете и без мацы! возьмите непременно, называется мацедрай! а рыбка красная, а красная икорка – знакомый из Елисеевского устроил! ах, Танечка, вы такая худенькая! что же ты, Ленечка, не следишь!» В прошлом у тетки Муры остались один муж, погибший в лагерях, и другой, погибший на войне. Тогда тетка Мура была совсем девчонкой – двадцать пять лет. Но об этом в семье не говорили. В настоящем у нее были тетка Шура («Такая слабенькая! А все ей надо, все надо! Всем хочет помочь!») и Рина – родная племянница. Ринин отец Шурам-Мурам приходился братом. Они ее вынянчили. «Деточка! Кровиночка!» – так они ее называли.
– Главным образом потому, что деточка много крови выпила, – язвила Татьяна потом, когда уже считала, что имеет право на язвительность. Еще она делала подсчеты. И получалось, что «старым черепахам» в ту пору – пору Татьяниного девичества – было чуть более пятидесяти лет.
Когда Татьяна и Леонид вошли, Рина – маленькая, тощая, в унылом школьном платье – сидела на подоконнике широкого подвального окна, под кружевной занавесочкой, поджав ноги, сгорбившись и заслонив глаза плотными подушечками век. Чертила пальцем по подоконнику. Поздоровалась, не разжимая губ. Татьяна кивнула и отвернулась. Ей почему-то было неприятно видеть тут Рину, хотя что может быть неприятного? Пришла в чужой дом, к чужим людям, к чужим привычкам, к чужой жизни. Тетка Шура возвышалась в своем кресле, как разбухший после осенних дождей гигантский гриб-моховик. Тетка Мура бегала с селедочкой.
– А я сегодня не завтракала… Да… Сегодня я не завтракала… – тихо сказала Рина, глядя на селедочку.
– Да ну? – насмешливо протянул Леонид, и в глазах его появилась та самая смехоточинка, которую Татьяна заметила в их первую встречу.
– Да-а-а…
Тетка Шура вскинула медвежью голову и затрясла щеками. Тетка Мура уронила на стол тарелку.
– Почему, Риночка?
– Не успела. Мама велела в прачечную, потом по магазинам, потом…
Потом последовал полный список дел с пунктами и подпунктами. Тетка Шура ахнула. Тетка Мура охнула.
– Ну, вы же знаете, маме некогда. У нее же уроки…
– Ты как хочешь, – заявила тетка Шура густым басом, глядя на тетку Муру, – но я сегодня же с ней поговорю!
– Только не сегодня!
– Сегодня! Сейчас же!
– Хорошо, сегодня! Только я сама! Ты все испортишь!
– Поговорим вместе. Мыслимое ли дело, гонять девочку в прачечную!
Татьяна подумала, что девочка не такая уж девочка, взрослая вполне девица, и она, Татьяна, тоже и в прачечную, и по магазинам, и за керосином в лавку… Но вслух ничего не сказала. Она была рада, что в пылу спора Шуры-Муры забыли о ее существовании. Она сидела на краешке стула, спрятавшись за спину Леонида, готовая немедленно вскочить и убежать, и не надо ей было ни селедочки, ни икорки, ни мяса под кисло-сладким соусом, ни горы печеного теста со странным именем мацедрай. Эта повинность – делать перед свадьбой родственные визиты – воспринималась ею как наказание. Сама она Леонида с матерью специально не знакомила. Просто зашли как-то вечером выпить чаю. Купили в ГУМе «корзиночки».
– Вот, мама, – сказала Татьяна. – Это Леонид. Мы «корзиночки» принесли.
– Ну, «корзиночки» так «корзиночки», – ответила мать. – Я вообще-то «картошку» люблю.
– «Картошки» не было.
– Ну, не было так не было. Садитесь.
И они сели.
К концу вечера мать разговорилась, полезла за альбомом со старыми фотографиями, подробно расспрашивала Леонида о его семье, но понравились они друг другу или нет – этого Татьяна так и не поняла.
…Рина сползла с подоконника, отряхнулась, опустив плечи, пошла к столу. Не дойдя, зацепилась рукавом за стул, потянула, шов лопнул. Рина раздвинула подушечки век, поглядела на тетку Шуру, обернулась, поглядела на тетку Муру и прожужжала:
– Вот… порвала… нитки, наверное, сгнили… платье старое… школьное…
– Да ну? – насмешливо протянул Леонид. – А где же красное? А синее? Ну то, с коричневыми пуговицами?
Но тетка Шура уже хваталась за сердце, а тетка Мура тянула из сумки кошелек.
Потом Татьяна часто встречала Рину у Шур-Мур. Рина – маленькая, тощая, все в том же унылом школьном платье – приходила к ним почти каждый день. Забивалась в уголок под кружевную занавесочку, под широкое подвальное окно, долго сидела, поджав ноги, наконец роняла тихое слово. Тетка Шура хваталась за сердце. Тетка Мура – за кошелек. Рине шили новое платье. Или покупали ботинки. Или отправляли на юг. Когда Рина вышла замуж, появился новый повод для жалоб: она никак не могла родить и боялась остаться брошенной женой. Вновь приходила под кружевную занавесочку, забивалась в уголок, долго сидела, поджав ноги, роняла тихое слово. Тетка Шура хваталась за сердце. Тетка Мура – за кошелек. Рина ехала лечиться. Через четыре года после свадьбы она родила чудного мальчика. Жаловаться стало не на что. Но к тому времени у нее накопилась масса претензий к самим теткам.
– Взяла патент на жалобы за всю семью! – говорила о ней Татьяна.
За столом тетка Мура все подкладывала Рине селедочки, картошечки, рыбки, все гладила по голове, все что-то приговаривала, все жалела. Тетка Шура хорошо поставленным густым басом отдавала приказания:
– Курицы! Положи ей курицы! Ей надо есть побольше мяса! Пусть возьмет помидор! Ей нужны витамины!
И Татьяна подумала, что никто никогда не подкладывал ей на тарелку курицу, никто не гладил по голове, не жалел, не шептал, что она «деточка, кровиночка», никто не думал о том, что она мало ест мяса и ей нужны витамины. Уголек зажегся в ее груди. Кипучая, горькая, несправедливая злость к Рине поднялась и сдавила горло.
Но тут тетка Мура увидала ее пустую тарелку. И началось:
– Вы, Танечка, такая худенькая! Что ж ты, Лёнечка, не следишь! Боже мой! Девочке нужно хорошо питаться!
– Положи ей мацедрай! Она никогда в жизни не пробовала мацедрая! – гудела тетка Шура.
И Татьяне вдруг стало ясно, что ее семья стала больше на двух человек.
Когда они вышли, на улице уже стемнело.
– Завтра к нам приходите, – сказала Рина и, сутулясь, пошла прочь.
Дядюшки и тетушки, племянники и племянницы, братья и сестры, родные и двоюродные, близкие и далекие… Они обволакивали ее своим вниманием и пристальными изучающими взглядами, как оборачивают ватой фарфоровую куклу. Они вынимали ее из привычного гнездышка, разглядывали, ощупывали, оценивали, поворачивали и так и эдак, пробуя на вкус, глаз и слух. А потом снова укладывали на место, обволакивая и – вовлекая в жизнь огромной семьи с ее сложной иерархией, взгорками и ямами, ссорами и примирениями, шумными застольями и черными плитами Востряковского кладбища. С бесконечными – как течение реки – разговорами, испещренными, словно мрамор прожилками, незнакомыми именами, неизвестными фактами, непонятными словечками, неразборчивыми мотивами. Вовлекали и тем самым позволяли дотронуться до сердца, которое гнало по жилам этого сторукого и стоглавого организма кровь – жгучий, всепоглощающий интерес каждого к каждому и готовность немедленно встать на защиту друг друга. Татьяна билась в этих нежных силках и желала быть пойманной. Она училась разгадывать хитросплетения отношений, ловить вскользь брошенные взгляды, подхватывать на лету намеки и недомолвки, учитывать мнения. Она входила в семью Леонида, как входят в комнату с настежь распахнутыми дверями, но за этими дверями угадываются другие – пока запертые, – а там третьи, четвертые, пятые, и анфиладе этой не видно конца.
Память – услужливая воровка, – украв у Татьяны добрую половину юности, оставила ей именно это – чужие дома. Быть может, оттого, что свой дом был так убого мелок, Татьяна с какой-то болезненной страстностью ощупывала взглядом чужие комнаты, чужую мебель, чужие ковры, чужой быт. И поражалась, как поражалась ежедневно в первые годы замужества. Все здесь было иное – не-привычное, не-правильное, не-знакомое, не-, не-, не-. И люди были иные. Они по-другому говорили, глядели, хлопали друг друга по плечу, садились за стол, они ели другую еду и носили другое платье. Они казались Татьяне марионетками в затяжном спектакле театра кукол, приехавшего из каких-то дальних стран.
Когда они вошли в огромную комнату с высоченными потолками – красные с золотом обои, лепнина, хрустальная люстра, похожая на ледяную горку в парке Горького, дубовый стол с львиными лапами вместо ног, ковер той нежнейшей пушистости, по которой с первого шага можно отличить настоящего перса от подделки, широкая низкая кровать, стыдливо полузадернутая алой плюшевой портьерой с бомбошками по краю («Как на клоунском колпаке!» – подумала Татьяна), – когда они вошли в эту комнату, женщина быстро встала с кресла и посеменила к ним походкой человека, ни разу в жизни не снимавшего высоких каблуков.
– Капитолина Павловна! – представилась женщина странно искусственным, как будто оперным, голосом и протянула пухлую ладошку. – Можно просто Капа.
– Мы тут все запросто, по именам, – поддакнул Леонид и плюхнулся в кресло, на которое Татьяна боялась даже смотреть.
Это она уже заметила – ну, то, что все по именам. Арик называл Марью Семеновну Мусей. Миша сбивался с Муси на тещу. Тетке Шуре и тетке Муре, как ровесницам, кричали: «Шурка! Мурка!»
– Таня, – сказала Татьяна и взяла шелковые пальчики с острыми кошачьими коготками.
Женщина была удивительная. Такую Татьяна с удовольствием купила бы в «Детском мире», в отделе кукол, посадила бы ее на спинку дивана и любовалась бы издали. Женщина была нестерпимой синевы. Яркосиние фарфоровые глаза под ярко-синими ресницами, ярко-синее шелковое платье с узким лифом, почти до подбородка поднимающим грудь, ярко-синие туфли на умопомрачительных каблуках, ярко-синяя крохотная шляпка, почти спадающая с макушки. «Шляпка – дома?» – в смятении подумала Татьяна и поняла, что ничего не понимает. В синеву подмешивались оттенки розового – щечки цвета само[1], напомаженный ротик цвета фуксии, острые лаковые ноготки. Семеня и крутя шелковым задом с пришпиленным к самому выпуклому месту бантом, женщина подошла к белому роялю, занимающему половину комнаты, встала, чуть отставив в сторону ногу, сцепила руки в замок, подперла ими грудь, будто хотела ее проглотить, и сказала оперным голосом, артикулируя каждый слог:
– Композитор Алябьев. «Соловей». Романс. – Подумала и добавила: – Исполняется а капелла.
И запела.
Леонид потянул Татьяну за юбку, и она упала рядом с ним в кресло.
– Закрой рот! – шепнул он и сделал задумчиво-заинтересованное лицо.
Женщина пела, широко открывая напомаженный ротик и все выше поднимая подушкообразную грудь. Татьяна смотрела на нее со смешанным чувством ужаса и восхищения. Ей казалось, что она сходит с ума. В стену стучали соседи, но женщина все пела и пела, и глаза ее закрывались, и грудь вздымалась, и казалось, этому не будет конца.
– Петр Ильич Чайковский. Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама»…
– …Модест Петрович Мусоргский. «Блоха»…
– …Матвей Блантер. «В лесу прифронтовом»…
– …Джакомо Пуччини. Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»…
– Россини, – поправил Леонид.
– Что? – Женщина поперхнулась, как будто ей поставили подножку, и удивленно посмотрела на Леонида.
– Не Пуччини, а Россини. «Севильского цирюльника» написал Россини.
– Ну, пусть будет Россини, если ты так хочешь, – недовольно промолвила Капа и продолжила концерт.
Дверь тихо отворилась, в комнату вползла неясная фигура, опустилась на краешек стула и замерла. Татьяна скосила глаза: Рина сидела у двери, согнувшись и зажав руки между колен. Женщина кончила петь и уставилась на троицу требовательным вопросительным взглядом.
– Великолепно! – пробормотал Леонид как бы про себя, и в глазах его появилась смехоточинка. – Нет слов!
– Мамочка, ты делаешь успехи! – проблеяла Рина, но женщина только махнула на нее рукой.
Татьяна хлопала глазами.
– Вам понравилось, – не спрашивая, но утверждая, произнесла женщина, как будто иначе и быть не могло. – Вам понравилось. Я берууроки у одного знаменитого баса из Большого театра. Имен называть не будем, дабы не ставить людей в неловкое положение. Он говорит, что ни разу в жизни не слышал такого колоратурного сопрано. Конечно, мое место на сцене! Но вы же понимаете, милочка, муж, дети. Это решительно невозможно! Рина! – громыхнула она, и Рина испарилась. – Сейчас будем пить чай!
Татьяна вспомнила, как в первый ее визит к Леониду Марья Семеновна крикнула «Ляля!» и Ляля помчалась готовить чай. Вспомнила и удивилась тому, как по-разному можно сказать одно и то же. В окрике Капы слышалось плохо скрытое нетерпеливое раздражение и еще что-то, что Татьяна в первый раз так и не решилась назвать нелюбовью.
Чай пили за низеньким столиком с изогнутыми ножками, из больших синих чашек, исчерченных золотыми узорами.
– Наш китайский сервиз! Чистый кобальт! – с гордостью произнесла Капа. – Муж привез из последней командировки в Харбин!
Ложки тоже были удивительные – серебряные, с ярко-синими эмалевыми попугаями вместо ручки. И печенье – крошечные нежные бисквиты, посыпанные сахаром, и конфеты с орешками в золотой фольге, и пирожные с заварным кремом…
Рина за стол не села. Суетилась – довольно, впрочем, бестолково – вокруг. Подливала чай, переставляла блюдца, бегала за печеньем и бормотала, бормотала, бормотала.
– Мамочка у нас молодец, – бормотала Рина, крутясь вокруг Капы. – Мамочка у нас еще на арфе играет. Мамочка у нас творческая натура. Шура сказала: «Капочке непременно надо учиться. Капочка не должна работать, Изя и так много получает». А Мура сказала: «Капочка слабенькая. Капочке надо помогать. У Капочки и так много дел. И портниха, и парикмахер, и уроки. Ну и что, что Изя устает. Изя мужчина, он должен работать. Ну и что, что Рина учится. Рина уже взрослая, она может по дому». А Шура сказала: «Зачем Рине новое платье? Рина и в этом проходит. А Капочке нужно платить за уроки». А Мура сказала: «Неужели у Изи не хватает Рине на платье? Он такой обеспеченный мужчина!» А я сказала: «Зачем мне новое платье? Можно же это зашить!» – И она потянула за рукав с прорехой.
– Скажи Шуре и Муре, чтобы не лезли в чужой карман и в чужие дела! – сухо оборвала ее Капа, и Рина как будто уменьшилась в размерах. – И будь добра, если тебя не затруднит, принеси, наконец, лимон! – И Рина исчезла. Капа улыбнулась и повернулась к Татьяне: – Я так волнуюсь за свою девочку! Я буду счастлива, если найдется человек, который станет для нее опорой в жизни! – сказала она, засовывая в напомаженный ротик эклер.
И Татьяна поняла, как не терпится Капе избавиться от Рины, от необходимости думать о ее платьях, заниматься ее проблемами и расстройствами, болезнями и настроениями, видеть унылую фигуру, терпеть бесконечное бормотание. Как ждет она возможности избавиться от этого счастья – иметь рядом взрослую дочь.
Когда прощались, Капа церемонно протянула Татьяне коготки:
– Приходите! Риночка так вам рада! И на дорожку! – Она подошла к роялю, подняла грудь и внятно сказала: – Михаил Глинка. «Дорожная». Исполняется впервые. – Подумала и добавила: – Колоратурным сопрано.
Рина тихонько убирала со стола.
– Она ей не родная? – спросила Татьяна, когда они с Леонидом вышли на улицу.
– Почему? – удивился он. – Родная.
– А как же тогда… Почему она ее не любит?
– Не любит? – опять удивился он. – Не замечал.
Он действительно не замечал. Для него эти отношения были так же привычны, как его дружба с Лялей и то, что его мать, Марья Семеновна, никогда не делала между ними различий.
– Ну как же! Она же ее шпыняет! И платье это… рваное… ей что, платье нельзя купить?
– Да есть у нее платья! Половина у теток висит, половина дома. Разделяй и властвуй – знаешь, что это такое?
– Что?
– Это когда Рина стучит теткам на Капу, а Капе на теток, Капа злится, а Изя ведет Рину в ателье. Прячемся! – И он потащил ее за угол.
По двору шел мужчина в мешковатом сером плаще по моде пятидесятых годов. В одной руке – портфель, в другой – бумажный пакет с продуктами, на голове – мягкая серая шляпа, на лице – такая же серая, как шляпа и плащ, усталость. Мужчина щурил близорукие глаза, низко, каким-то знакомым и неприятным движением наклонял голову, будто выискивая что-то под ногами, шевелил губами, словно делая важные подсчеты. И Татьяна вдруг подумала, что вот идет несчастный человек, может, у него на работе неприятности, или устал, или что-нибудь болит, он идет к себе домой, на пустую кухню, где на плите стоит кастрюля со вчерашними макаронами, в пустую комнату, где на полулежат брошенные с вечера носки, в пустую жизнь, где его никто не ждет. И стало жалко, так жалко этого человека, что захотелось подбежать к нему сзади, встать на цыпочки и обнять за поникшую шею.
– Он кто?
– Изя. Ринкин отец.
– А почему мы прячемся?
– Да ну, увидит, обрадуется, потащит обратно.
– А мы обратно не хотим?
– Нет, мы обратно не хотим. Мы хотим вылезти из-за водосточной трубы и проследовать в кинотеатр «Перекоп». Ты как, не против?
– Он кем работает, этот Изя? – спросила Татьяна, когда они вылезли из-за водосточной трубы и проследовали в кинотеатр «Перекоп».
– Владелец заводов, газет, пароходов. А точнее – директор галантереи. Большой человек!
– Директор галантереи? В Харбин ездит? Зачем?
– Да никуда он не ездит! Это Капа выдумывает, щеки дует.
– А он ее любит?
– Кого?
– Рину.
– Любит – не любит, плюнет – поцелует… – пропел Леонид. Разговоры про Рину уже порядком ему надоели. Он не понимал Татьяниного интереса ко всей этой семейной мелочовке. А ей было интересно – ой как интересно! – Любит, конечно.
– Может, она потому и злится, ну, Капа? – задумчиво сказала Татьяна.
– Может, и так, – легко согласился Леонид. – Она ей не удалась, вот что. Она думала – будет девочка-куколка, как она сама, а вышла Рина.
