Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история
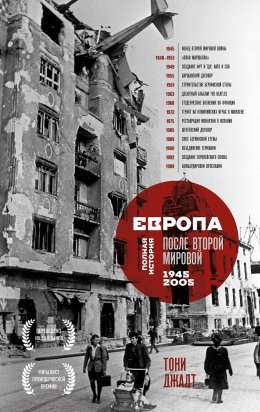
Postwar
© 2005, Tony Judt
© Аксенова А., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Текст оригинальной рукописи частично удален для приведения его в соответствие с законами РФ.
Посвящается Дженнифер
Hо разве близость к настоящему не делает прошлое более глубоким и более легендарным?
Томас Манн, «Волшебная гора»
Предисловие научного редактора
Книга «Европа после Второй мировой» американского историка британского происхождения Тони Джадта (1948–2010) увидела свет ровно двадцать лет назад, в 2005 году. Ее появление сразу же стало заметным событием: внушительные тиражи, благожелательные отзывы критиков, почти немедленный перевод на другие европейские языки… В 2006 году Джадт получил за свой труд премию Артура Росса в США и премию имени Бруно Крайского в Вене, в 2007 году – немецкую премию имени Ханны Арендт, в 2008 году – Европейскую книжную премию. «Лучшая из имеющихся книг по истории Европы», «шедевр исторического творчества», «монументальный труд» – вот далеко не полный список эпитетов, которыми «Европа после Второй мировой» награждали обозреватели в прессе и коллеги в своих рецензиях.
Что привлекло к этой работе такое внимание на книжном рынке, отнюдь не испытывавшем недостатка в исторической литературе? В первую очередь ее концепция. Джадт не просто рассказывает историю Европы послевоенных десятилетий; он стремится понять и объяснить ее. Его книга – не тяжеловесная россыпь отдельных фактов, а цельное полотно, сотканное из множества отдельных нитей.
Сотканное, надо признать, весьма умело. Джадт не ограничивается каким-то одним аспектом жизни общества, а стремится охватить их все – от международных отношений и экономических трендов до кинематографа. При этом он рассказывает о политике без утомительного перечисления бесконечных имен, дат и событий; об экономике – без сложных терминов и длинных рядов статистических данных; об интеллектуальных течениях – без попыток в точности пересказать запутанные философские концепции. Автор не разграничивает все эти сферы жесткой структурой глав и параграфов, а изящно переходит от одного к другому, связывая их между собой, демонстрируя единство и взаимное влияние разных сторон общественной реальности.
В результате из-под пера автора выходит сама жизнь – такая, какая она была и есть. И поэтому толстая книга читается как захватывающий приключенческий роман, на одном дыхании. А еще этому немало способствует базовый исторический оптимизм автора, не скрывающего слабые и темные стороны европейского проекта, но настаивающего на его жизнеспособности. Именно «европейская модель» является главным героем книги – героем, который проходит долгий и непростой путь становления, все еще далекий от того, чтобы считаться завершенным.
В связи с этим отдельный интерес представляют последние главы книги Джадта, в которых автор описывает состояние Европы начала XXI века и дает прогноз на будущее. Сегодня, двадцать лет спустя, мы уже можем видеть, какие его ожидания оправдались, а какие нет; какие предсказания оказались излишне оптимистичными, какие – излишне пессимистичными, а какие – и их немало – удивительно точными и меткими.
И здесь кроется ответ на вопрос, не устарела ли книга Джадта за два десятилетия, прошедших с момента ее издания. Нет, и по двум причинам. Во-первых, это все-таки не политическая публицистика, написанная на злобу дня, а достаточно фундаментальный исторический труд. Во-вторых, многие проблемы, которые поднимает автор, не только не исчезли, но и стали более серьезными и значимыми.
Как и в любом творении рук человеческих, в книге Джадта можно найти недостатки. Первый из них естественным образом вытекает из самого масштаба проекта. Невозможно быть одновременно глубоким специалистом по послевоенной Швеции, Испании на закате режима Франко и Чехословакии накануне распада единого государства под конец XX века. Как бы ни старался Джадт ухватить все без исключения стороны жизни Европы, многое он оставляет – вынужден оставлять – за кадром. Критики укоряли его за недостаточное внимание к развитию науки, музыке, проблемам окружающей среды.
Второй недостаток можно назвать во многом следствием авторской биографии. Джадт родился на заре холодной войны, и большая часть его жизни прошла в контексте идеологического противостояния двух блоков. К сожалению, очень многие историки, выросшие и профессионально сформировавшиеся по обе стороны пресловутого «железного занавеса», так и не смогли впоследствии до конца избавиться от старых представлений и стереотипов. История «восточного блока» у Джадта предстает схематичной и мрачно-однотонной. Рассказ становится поверхностным и неточным, негативные аспекты подчеркиваются и порой преувеличиваются; к примеру, если по поводу точного числа жертв преследований или техногенных катастроф существуют расхождения, автор без колебаний приводит максимальные имеющиеся цифры – а иногда и выше максимальных.
И здесь мы переходим к третьему недостатку. Многие сюжеты послевоенной истории Европы по сей день остаются предметом споров среди ученых; по многим вопросам в профессиональном сообществе есть разные точки зрения. Но читатель вряд ли найдет на страницах книги Джадта даже отголосок этих дискуссий. Конечно, автор имеет право на собственную позицию и не обязан неизменно выбирать «средний путь» между спорящими коллегами. Однако думается, что наличие упоминаний об альтернативных позициях во многих случаях не испортило и не усложнило бы текст, а придало бы ему дополнительную ценность в глазах читателя.
Впрочем, автор не претендует на то, чтобы его книга считалась истиной в последней инстанции; на это, по-хорошему, не может и не должен претендовать ни один серьезный ученый. «Европа после Второй мировой» – не справочник и не учебник, это личное мнение. Мнение, безусловно, профессиональное и основанное на солидном фундаменте, и все же лишь одно из возможных. И с ним, конечно, стоит ознакомиться – ведь речь идет об одной из самых известных, масштабных и оригинальных книг по истории послевоенной Европы. И кроме того, «Европа после Второй мировой» просто интересно читать.
Николай Власов,кандидат исторических наук, доцент
Предисловие и благодарности
Европа – самый маленький континент[1]. В действительности это даже не континент, а просто субконтинентальная пристройка к Азии. Вся Европа (за исключением России и Турции) составляет всего пять с половиной миллионов квадратных километров. Эта территория меньше двух третей площади Бразилии и немного больше половины территории Китая или США. Европа кажется крошечной по сравнению с Россией, которая занимает семнадцать миллионов квадратных километров. Но Европа уникальна благодаря обилию внутренних различий и контрастов. По последним подсчетам она включает сорок шесть стран. Большинство из них – государства и народы с собственным языком, а во многих живут и другие меньшинства со своим языком. У каждой страны есть свои собственные (впрочем, переплетающиеся с другими) история, политика, культура и память. И все эти страны тщательно изучены. Даже о коротком отрезке времени в шестьдесят лет, прошедших после окончания Второй мировой войны, на одном только английском языке существует множество литературы. Собственно, об этом периоде литературы больше всего.
Таким образом, никто не может претендовать на то, чтобы написать абсолютно исчерпывающую или точную историю современной Европы. Моя неспособность выполнить эту задачу усугубляется отсутствием временной дистанции. Я родился вскоре после окончания войны, став современником большинства событий, описанных в этой книге. Я хорошо помню, как узнавал о них, был наблюдателем или даже участником происходящего. Легче ли мне от этого понять историю послевоенной Европы или сложнее? Не знаю. Но я уверен, что близость к событиям иногда мешает историку оставаться беспристрастным и отстраненным.
В этой книге я не пытаюсь предстать таким идеальным историком. Я предлагаю откровенно личную трактовку недавнего прошлого Европы, надеюсь, не теряя при этом объективности и честности. Воспользуюсь выражением, которое незаслуженно приобрело уничижительное значение, и скажу, что это – мое личное мнение. Некоторые суждения в книге, возможно, будут спорными, некоторые наверняка окажутся ошибочными. Все ошибаются. К счастью или несчастью, это – мои собственные ошибки, а в работу такого масштаба и охвата неизбежно могут вкрасться неточности. Но если погрешность допустима и хотя бы часть оценок и выводов в этой книге окажется достоверной, это в значительной мере будет заслугой тех многих ученых и друзей, на труды которых я полагался в ходе исследования и написания книги.
Книга подобного рода, прежде всего, опирается на содержание других книг[2]. Я искал вдохновение и пример в таких классических работах по современной истории, как «Эпоха крайностей» Эрика Хобсбаума, «Европа в XX веке» Джорджа Лихтгейма, «История Англии 1914–1945 гг.» А. Дж. П. Тейлора и «Прошлое одной иллюзии» позднего Франсуа Фюре. Эти книги и их авторы совершенно непохожи друг на друга, но кое-что их все-таки объединяет: во-первых, убежденность, проистекающая из широкой осведомленности и своего рода интеллектуальной самоуверенности (этой чертой не могли похвастаться их последователи), и, во-вторых, ясность повествования, которая должна быть образцом для каждого историка.
Среди ученых, чьи труды по новейшей истории Европы оказались для меня наиболее полезными, я должен особо отметить и поблагодарить Гарольда Джеймса, Марка Мазовера и Эндрю Моравчика. Отголосок их работ будет отчетливо слышен на страницах этой книги. Я, как и все, кто изучает современную Европу, в неоплатном долгу перед Аланом С. Милвардом за его глубокие, революционные исследования послевоенной экономики.
Что касается истории Центральной и Восточной Европы, которой часто пренебрегают специалисты Европы Западной при описании общей истории этой части света, то своими скромными познаниями я обязан работе одаренной когорты молодых ученых, включающей Бреда Абрамса, Кэтрин Мерридейл, Марси Шор и Тимоти Снайдера, а также – моим друзьям Жаку Рупнику и Иштвану Деаку. О прошлом Центральной Европы, и в особенности о двух Германиях в эпоху Ostpolitik[3], я узнал от Тимоти Гартон-Эша (ее изучению он отдал много лет). Общаясь на протяжении многих лет с Яном Гроссом, и благодаря его новаторским работам я не только познакомился с польской историей, но и научился понимать общественные последствия войны. Эту тему Ян раскрыл с непревзойденной проницательностью и человечностью.
Разделы об Италии в этой книге многим обязаны работе Пола Гинсборга. Точно так же главы, посвященные Испании, отражают то, что я узнал, читая и слушая замечательного Виктора Перес-Диаса. Я особенно благодарен им обоим и Аннет Вевьерка, чей авторитетный анализ двойственной реакции послевоенной Франции на Холокост в книге Déportation et Génocide[4] сильно повлиял на мое видение этой трагической истории.
На мои заключительные размышления в главе «Европа как образ жизни» сильно повлияли труды блестящего международного юриста Энн-Мари Слотер. Ее работа о «дезагрегированных государствах» убедительно доказывает успешность международного управления в формате Евросоюза, исходя не из однозначного преимущества или идеального характера этой модели, а из того факта, что в мире, где мы живем, ничто иное не сработает.
Друзья, коллеги и слушатели по всей Европе поведали мне гораздо больше о недавнем прошлом и настоящем европейского региона, чем я мог бы почерпнуть из книг и архивов. Я особенно благодарен Кшиштофу Чижевскому, Петру Келлнеру, Ивану Крыстеву, Дени Лакорну, Кшиштофу Михальскому, Мирче Михэесу, Берти Муслиу, Сьюзен Нейман и Дэвиду Трэвису за их гостеприимство и помощь. Я признателен Иштвану Реву, настоятельно рекомендовавшему мне посетить «Дом террора» в Будапеште, несмотря на то что это был визит не из легких. В Нью-Йорке мои друзья и коллеги Ричард Миттен, Кэтрин Флеминг и Джерролд Сейгел не жалели для меня времени и идей. Дино Бутурович тщательно проанализировал мое изложение югославской языковой проблемы.
Я благодарен Филиппу Фурмански, Джессу Бенхабибу и Ричарду Фоули, поочередно занимавшим должность декана Факультета искусств и наук в Нью-Йоркском университете, за поддержку, оказанную моим исследованиям, и Институту Ремарка, который я основал, чтобы поощрить других к изучению и обсуждению Европы. Без щедрой поддержки и покровительства Ива-Андре Истеля я бы не смог создать Институт Ремарка, в котором прошло множество познавательных для меня семинаров и лекций. А без терпеливого отношения и сверхэффективной работы административного директора Института Ремарка Жаира Кесслера я не смог бы совместить написание этой книги с руководством этим институтом.
Как и многие другие, я глубоко признателен моим агентам Эндрю Уили и Саре Чалфант за дружбу и советы. Они всегда поддерживали проект, который занял больше времени и оказался объемнее, чем они рассчитывали. Я в долгу перед моими редакторами, Рави Марчандани и Кэролин Найт – в Лондоне и Скоттом Мойерсом и Джейн Флеминг – в Нью-Йорке, за всю работу, которую они проделали, чтобы эта книга увидела свет. Благодаря радушию Леона Уисельтира, главного редактора The New Republic, некоторые оценки и мнения из глав 12 и 14 были впервые опубликованы в форме эссе на страницах его замечательного журнала в разделе искусств.
Безусловно, в профессиональном плане больше всего я обязан бесподобному редактору The New York Review of Books Роберту Сильверсу, который на протяжении многих лет вдохновлял меня на покорение новых политических и исторических вершин со всеми опасностями и удачами, которые сопутствуют такой авантюре.
Большой вклад в эту книгу внесли студенты Нью-Йоркского университета. Некоторые из них, а именно – доктор Паулина Брен, Дэниел Коэн (сейчас работает в Университете Райса) и Николь Рудольф, помогли мне лучше понять этот период через собственные исторические исследования, которые я упоминаю в моей книге. Джессика Куперман и Ави Патт были неоценимыми научными ассистентами. Мишель Пинто (совместно с Саймоном Джексоном) провела кропотливую работу в сфере анализа изображений. Она нашла множество ярких иллюстраций, в особенности зачехленного Ленина, украшающего конец Части III[5]. Алекс Молот старательно искал и собирал опубликованные и неопубликованные статистические отчеты и данные, от которых, разумеется, неизбежно зависит книга такого рода. Я никогда бы не смог написать эту работу без них.
Моя семья очень долго жила в послевоенной Европе. Здесь выросли мои дети. Они не только терпели мои частые отлучки, поездки и одержимость этой книгой, но и внесли ощутимый вклад в ее содержание. Даниэлю она обязана своим названием. Николасу – напоминанием о том, что не все хорошие истории имеют счастливый финал. Моей жене, Дженнифер, книга обязана многим, особенно двумя очень внимательными и конструктивными прочтениями. Но сам автор обязан ей во сто крат больше. «Европа после Второй мировой» посвящается моей жене.
Европа после Второй Мировой. Вступление
«Всякая эпоха есть сфинкс, который низвергается в бездну, как только разоблачится его загадка»[6].
Генрих Гейне
«Условия (которые ничего не значат для некоторых джентльменов) придают в действительности каждому политическому принципу различающие их цвета и эффект обособленности»[7].
Эдмунд Берк
«События, мой мальчик, события».
Гарольд Макмиллан
«Всемирная история не есть арена счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами»[8].
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Впервые я задумался о написании этой книги, делая пересадку на Вестбанхофе, главном железнодорожном вокзале Вены. Был декабрь 1989 года, момент благоприятствовал. Я только что вернулся из Праги, где драматурги и историки на Гражданском форуме во главе с Вацлавом Гавелом свергали коммунистическое полицейское государство и выбрасывали сорок лет «реального социализма» на свалку истории[9]. Несколькими неделями ранее нежданно пала Берлинская стена. В Венгрии, как и в Польше, все были заняты проблемами посткоммунистической политики. Старый режим, такой всемогущий еще пару месяцев назад, сдал все позиции. Коммунистическая партия Литвы только что заявила о немедленном выходе республики из Советского Союза. А в такси по дороге на железнодорожный вокзал австрийское радио передавало первые сообщения о восстании против семейственной диктатуры Николае Чаушеску в Румынии. Политическое землетрясение взрывало застывший ландшафт послевоенной Европы.
Эпоха закончилась, рождалась новая Европа. Это было очевидно. Но с уходом прежнего порядка многие старые допущения подверглись сомнению. То, что раньше выглядело постоянным и даже неизбежным, оказалось временным. Конфронтация периода холодной войны, раскол между Востоком и Западом, борьба между «коммунизмом» и «капитализмом», отдельные и изолированные истории процветающей Западной Европы и сателлитов Советского блока на востоке – все это больше не воспринималось как продукт идеологической необходимости или железной политической логики. Все это стало случайным результатом истории, и история отбросила его в сторону.
Будущее Европы теперь выглядело совсем иначе – равно как и ее прошлое. При взгляде назад 1945–1989 годы виделись не преддверием новой эпохи, а скорее промежуточным этапом, нерешенным вопросом конфликта, закончившегося в 1945 году, но оставившего после себя полувековое послесловие. Что бы ни было с Европой в последующие годы, хорошо знакомая, устоявшаяся ее история изменилась навсегда. В этом ледяном декабре в Центральной Европе мне казалось очевидным, что история послевоенной Европы должна быть переписана.
Время благоприятствовало, как и место. Вена 1989 года была палимпсестом[10] запутанного, переплетенного прошлого европейских стран. В начале XX века Вена была Европой: продуктивным, нервным, полным иллюзий центром культуры и цивилизации на пороге апокалипсиса. Между войнами, превратившись из славной имперской метрополии в обедневшую, съежившуюся столицу крошечного окраинного государства, Вена неуклонно теряла свой блеск и, в конце концов, стала провинциальным аванпостом нацистской империи, которой с энтузиазмом присягали на верность большинство граждан.
После поражения Германии Австрия попала в западный лагерь и получила статус «первой жертвы» Гитлера. Вдвойне незаслуженная удача позволила Вене изгнать свое прошлое. Благополучно позабыв о лояльности к нацизму, австрийская столица («западный» город, окруженный советской «восточной» Европой) обрела новую идентичность в качестве коммивояжера и образца свободного мира. Для своих бывших подданных, запертых в Чехословакии, Польше, Венгрии, Румынии и Югославии, Вена воспринималась «Центральной Европой», воображаемым оплотом космополитической цивилизованности, который европейцы каким-то образом потеряли в течение столетия. В последние годы коммунизма городу суждено было стать чем-то вроде рупора свободы, обновленным местом встреч и отъездов восточных европейцев, бегущих на Запад, и жителей Запада, наводящих мосты с Востоком.
Поэтому Вена 1989 года была хорошим местом, чтобы «обдумать» Европу. Австрия олицетворяла все слегка самодовольные черты послевоенной Западной Европы: состоятельное социальное государство подкрепляло капиталистическое процветание, общественное спокойствие обеспечивалось благодаря рабочим местам и привилегиям, щедро распределяемым между основными социальными группами и политическими партиями, внешняя безопасность находилась под неявной защитой западного ядерного «зонтика», в то время как сама Австрия оставалась высокомерно «нейтральной». Между тем на противоположном берегу Лайты и Дуная, всего в нескольких километрах на востоке, лежала «другая» Европа – беспросветной нищеты и тайной полиции. Разница между двумя Европами прекрасно выражалась в контрасте между Вестбанхофом и Южным вокзалом в Вене. Вестбанхоф был стремительным и энергичным. Там бизнесмены и туристы садились в элегантные современные экспрессы до Мюнхена, Цюриха или Парижа. Неприветливый и мрачный Южный вокзал служил ветхим, обшарпанным и слегка зловещим пристанищем для нищих иностранцев, приезжавших на грязных старых поездах из Будапешта или Белграда.
Два главных железнодорожных вокзала города невольно подтверждали географический раскол Европы: один, Вестбанхоф, с оптимизмом и выгодой взирал на Запад, другой, Южный вокзал, небрежно признавал восточное предназначение Вены. Точно так же сами улицы австрийской столицы свидетельствовали о пропасти молчания, разделявшей безмятежное настоящее Европы и ее неудобное прошлое. Величественные, самоуверенные здания на Рингштрассе напоминали о давнем имперском призвании Вены, да и сама улица казалась слишком широкой и грандиозной, чтобы служить повседневной дорогой для движения в европейской столице средних размеров. Город по праву гордился своими общественными сооружениями и пространствами. Многое в Вене действительно напоминало о славных былых временах. Но к недавнему прошлому город относился с явной сдержанностью.
О евреях же, которые когда-то занимали множество зданий в центре города и внесли решающий вклад в развитие искусства, музыки, театра, литературы, журналистики и философии, составлявших суть Вены в период ее расцвета, город вообще отказывался вспоминать. Сама жестокость, с которой венских евреев изгоняли из их домов, отправляли на восток и вычеркивали из памяти города, способствовала преступному молчанию современной Вены. Послевоенная Вена, как и послевоенная Западная Европа, была грандиозным зданием, стоящим на фундаменте чудовищного прошлого. Большинство самых ужасающих событий минувших лет произошло на территориях, позже попавших под советский контроль. Поэтому о них так легко забыли (на Западе) или умолчали (на Востоке). С возвращением Восточной Европы прошлое не стало менее чудовищным, но теперь о нем неизбежно пришлось говорить. После 1989 года ничто, ни будущее, ни настоящее и тем более прошлое, не могло оставаться прежним.
Хотя я решил заняться историей послевоенной Европы в декабре 1989 года, книга была написана только спустя много лет. Вмешались обстоятельства. Сейчас это кажется удачей: многие вещи, которые сегодня стали в некоторой степени яснее, тогда еще были покрыты мраком. Открылись архивы. Неизбежная для революционного преобразования путаница разрешилась, и хотя бы некоторые из долгосрочных последствий переворота 1989 года теперь понятны. Отголоски потрясения 1989 года утихли не скоро. Когда я оказался в Вене в следующий раз, город с трудом пытался вместить десятки тысяч беженцев из соседних Хорватии и Боснии.
Тремя годами позже Австрия отказалась от своей тщательно культивируемой послевоенной автономии и присоединилась к Европейскому Союзу, чье появление в качестве значимой силы в европейских делах было прямым следствием восточноевропейских революций. Посещая Вену в октябре 1999 года, я обнаружил, что Вестбанхоф увешан плакатами Партии свободы Йорга Хайдера[11]. Несмотря на открытое восхищение «достойными солдатами» нацистской армии, «выполнявшими свой долг» на Восточном фронте, он в том году набрал 27 % голосов, манипулируя тревогой своих сограждан и непониманием ими тех изменений, которые произошли в мире за последнее десятилетие. После почти полувекового затишья Вена, как и остальная Европа, вновь вошла в историю…
Книга рассказывает историю Европы со времен Второй мировой войны, а значит, начинает повествование с 1945 года. Это Stunde null[12], как его называли немцы, нулевой час. Но, как и все остальное в XX веке, эта история омрачена тридцатилетней войной, разразившейся в 1914 году, когда Европа вступила на путь катастрофы. Первая мировая война была тяжелой битвой, покалечившей всех ее участников. Половина мужского населения Сербии в возрасте от 18 до 55 лет погибла в боях, но это ничего не решило. Германия (вопреки распространенному в то время мнению) не была сокрушена войной или послевоенным урегулированием. Иначе трудно было бы объяснить ее подъем до почти полного господства над Европой всего через 25 лет. По сути, из-за того, что Германия не выплатила свои долги в Первой мировой войне, цена победы для союзников превысила цену поражения для Германии. Таким образом, она стала относительно сильнее, чем в 1913 году. «Германский вопрос», вставший в Европе поколением раньше с возвышением Пруссии, оставался нерешенным.
Маленькие страны, возникшие в результате крушения старых континентальных империй в 1918 году, были бедны, нестабильны, беззащитны и обижены на своих соседей. Между двумя мировыми войнами в Европе существовало много «ревизионистских» государств: Россия, Германия, Австрия, Венгрия и Болгария потерпели поражение в Первой мировой войне и ждали случая вернуть территории. После 1918 года международная стабильность не восстановилась, так же, как и баланс сил. Это была лишь передышка, вызванная истощением. Жестокость войны не исчезла. Она трансформировалась во внутреннюю политику: в националистическую полемику, расовые предрассудки, классовую конфронтацию и гражданскую войну. Европа 1920-х и особенно 1930-х годов вошла в сумрачную зону между отзвуками одной войны и грозным предчувствием другой.
Внутренние конфликты и межгосударственные противоречия периода между мировыми войнами усугублялись и в некоторой степени были вызваны одновременным коллапсом европейской экономики. Действительно, экономической жизни в Европе в те годы был нанесен тройной удар. Первая мировая война потрясла рынок труда, разрушила торговлю, опустошила целые регионы и обанкротила государства. Многие страны, прежде всего в Центральной Европе, так и не оправились от ее последствий. Те, что смогли выкарабкаться, снова оказались на дне во время кризиса 1930-х годов, когда дефляция, разорение предприятий и отчаянные попытки установить защитные тарифы против иностранной конкуренции привели не только к небывалому уровню безработицы и простою промышленных мощностей, но и краху международной торговли (между 1929 и 1936 годами франко-германская торговля сократилась на 83 %). Все это сопровождалось острой межгосударственной конкуренцией и враждебностью. А потом пришла Вторая мировая война. Ее беспрецедентное воздействие на гражданское население и экономику пострадавших стран описано в первой части этой книги.
Совокупный эффект всех этих ударов должен был уничтожить цивилизацию. Масштаб катастрофы, которую навлекла на себя Европа, уже тогда совершенно ясно представляли себе современники. Некоторые, крайне левые и крайне правые, видели в «самосожжении» буржуазной Европы шанс в борьбе за что-то лучшее.
Тридцатые годы были «низким, бесчестным десятилетием» Одена[13]. Но это также было время преданности и политической веры, а его кульминацией стали иллюзии и жизни, потерянные в Гражданской войне в Испании. Это было «бабье лето» радикальных воззрений XIX столетия, вдохновлявших теперь жестокие идеологические столкновения века более мрачного: «Каким же сильным было стремление к новому человеческому порядку в эпоху между мировыми войнами и какой жалкой была неспособность осуществить это стремление» (Артур Кестлер[14]).
Отчаявшись в Европе, некоторые бежали: сначала в оставшиеся либеральные демократии на окраинах Западной Европы, а затем, если вовремя успели, в Америку. А некоторые, как Стефан Цвейг или Вальтер Беньямин, покончили с собой. Казалось, что Европа вот-вот канет в бездну. В процессе развала европейской цивилизации что-то важное было потеряно навсегда. Эту потерю задолго предвидели Карл Краус и Франц Кафка в Вене времен Цвейга. В классическом фильме Жана Ренуара 1937 года великой иллюзией того периода названы война и сопутствующие ей мифы о чести, касте и классе. Но к 1940 году для наблюдательных европейцев величайшей из всех европейских иллюзий стала сама «европейская цивилизация», ныне дискредитированная безвозвратно.
В свете всего этого вполне понятно искушение рассказать историю неожиданного воскрешения Европы после 1945 года в самоутешающем, даже лирическом ключе. Именно так подавались события в послевоенной Европе, особенно в книгах, увидевших свет до 1989 года. Таким же тоном европейские государственные деятели рассуждали о своих достижениях в эти десятилетия. Простое выживание и возрождение отдельных государств континентальной Европы после катаклизма тотальной войны; отсутствие межгосударственных конфликтов и неуклонное расширение институциональных форм внутриевропейского сотрудничества, устойчивое восстановление после тридцатилетнего экономического спада и «нормализация» процветания, оптимизма и мира, – все это вызывало чрезмерную реакцию. Возрождение Европы было «чудом». «Постнациональная» Европа усвоила горькие уроки недавней истории. Как птица феникс, мирный, спокойный регион появился из пепла своего смертоносного, самоубийственного прошлого.
Подобно многим мифам, это довольно благостное описание Европы второй половины XX века содержит долю правды. Но и многое упускается. Восточная Европа, от австрийской границы до Уральских гор, от Таллина до Тираны, в него не вписывается. Ее послевоенные десятилетия, безусловно, были мирными по сравнению с тем, что происходило раньше, но только ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■. ■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■. ■ ■■■■ ■■■■■■-■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■, ■■ ■■■■ ■■■■■■, ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ «■■■■■■■■» ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■[15].
Историю двух половин послевоенной Европы нельзя рассказывать отдельно друг от друга. Наследие Второй мировой войны, предвоенных десятилетий и предшествующей войны заставили правительства и народы Восточной и Западной Европы искать способ устроить свои дела так, чтобы не допустить отката к прошлому. Один из вариантов, радикальная повестка движений Народного фронта 1930-х годов, был изначально очень популярен в обеих частях Европы. Это свидетельствует о том, что в 1945 году ничего не началось с нуля, как иногда представляют. В Восточной Европе некая радикальная трансформация была неизбежна. Прошлое оказалось дискредитировано, никто не собирался к нему возвращаться. Но что тогда подходило на замену? Коммунизм мог быть неверным решением, однако сама проблема являлась вполне реальной.
На Западе перспектива радикальных перемен была смягчена не в последнюю очередь благодаря американской помощи (и давлению). Привлекательность повестки Народного фронта и коммунизма померкла. И то и другое было рецептом для трудных времен, а на Западе, по крайней мере, после 1952 года, времена уже не были такими тяжелыми. Поэтому в следующие десятилетия неопределенность первых послевоенных лет позабылась. Но возможность того, что события могут принять другой оборот, почти уверенность в том, что они уже приняли другой оборот, казалась вполне реальной в 1945 году. Именно чтобы избежать возвращения старых демонов (безработицы, фашизма, немецкого милитаризма, войны, революции), Западная Европа пошла по новому пути, о котором мы все знаем. Постнациональная, социально ответственная, объединенная, мирная Европа родилась не из оптимистического, смелого, дальновидного проекта, который мечтательно представляют себе сегодняшние евроидеалисты. Она была порождением тревоги. Помня историю, европейские лидеры в профилактических целях проводили социальные реформы и строили новые институты, чтобы не подпускать к себе прошлое.
Это легче понять, если вспомнить, что власти советского блока, по сути, занимались тем же. Они тоже больше всего хотели установить защиту от политического регресса, хотя в странах под властью коммунистов успех проекта обеспечивался не столько социальным прогрессом, сколько применением силы. Новейшая история была переписана, и граждан призывали забыть о ней, утверждая, что социальная революция под руководством коммунистов окончательно уничтожила не только недостатки прошлого, но и условия, которые сделали их возможными. Как мы увидим, это утверждение также оказалось мифом, в лучшем случае – полуправдой.
Но коммунистический миф невольно свидетельствует о большом значении (и трудностях) управления обременительным наследством в обеих половинах Европы. Первая мировая война разрушила старую Европу, Вторая мировая война создала условия для новой. Но вся Европа многие десятилетия после 1945 года жила в мрачной тени диктаторов и войн недавнего прошлого. Этот опыт объединяет европейцев послевоенного поколения и отличает их от американцев, которым XX век преподал несколько иные и в целом более оптимистичные уроки. Это отправная точка для любого, кто хочет понять Европу до 1989 года и оценить, насколько сильно она впоследствии изменилась.
Излагая взгляды Толстого на историю, Исайя Берлин[16] определил значимое различие между двумя стилями интеллектуальных рассуждений с помощью известной цитаты греческого поэта Архилоха: «Лиса знает многое, еж – одно, но важное». В терминах Берлина эта книга определенно не «еж». На ее страницах я не излагаю какую-то великую теорию новейшей европейской истории, не предлагаю всеобъемлющего тезиса или единого нарратива. Однако из этого не следует, что я думаю, будто историю Европы после Второй мировой войны нельзя разложить по темам. Отнюдь – тем предостаточно. Как лиса, Европа знает многое.
Во-первых, это история уменьшения Европы. Ключевые европейские государства не могли претендовать после 1945 года на международный или имперский статус. Два исключения из этого правила, Советский Союз и отчасти Великобритания, в собственных глазах были лишь наполовину европейцами, и в любом случае к концу описываемого здесь периода они тоже сильно уменьшились. Остальная часть континентальной Европы была унижена поражением и оккупацией. Она не смогла своими усилиями освободиться от фашизма и не смогла без посторонней помощи сдерживать коммунизм. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■[17]. Только с большим трудом и спустя долгие десятилетия европейцы восстановили власть над своей судьбой. Лишившись заморских территорий, бывшие морские империи Европы (Британия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Португалия) в это время сжались до своих изначальных европейских метрополий, и их внимание также было перенаправлено на Европу.
Во-вторых, в последние десятилетия XX века произошло отмирание «главных нарративов» европейской истории: великих исторических теорий XIX века с их моделями прогресса и изменений, моделями революции и трансформации, питавших политические проекты и социальные движения, разрывавшие Европу в первой половине века. Эта история также имеет смысл лишь в общеевропейском контексте: угасание политического пыла на Западе (за исключением маргинального интеллектуального меньшинства) сопровождалось (совсем по другим причинам) утратой политической веры и дискредитацией официального марксизма на Востоке. Да, в восьмидесятые на мгновение показалось, что интеллектуальные правые могут организовать возрождение вокруг созданного в XIX веке проекта демонтажа «общества» и принесения общественных дел в жертву безграничному свободному рынку и минималистскому государству[18]. Но это был лишь краткий порыв. После 1989 года ни левые, ни правые не предложили ни одного всеобъемлющего идеологического проекта в Европе, за исключением свободы. И для большинства европейцев это обещание теперь выполнено.
В-третьих, в качестве скромной замены умерших амбиций идеологического прошлого Европы с опозданием (и во многом случайно) возникла «европейская модель». Порожденный эклектичной смесью социал-демократического и христианско-демократического законодательства и паутинообразным институциональным расширением Европейских сообществ и последовавшего за ними Евросоюза, это был явно «европейский» способ регулирования социальных и межгосударственных отношений. Охватывая все – от детских садов до межгосударственных правовых норм, – этот европейский подход был не просто бюрократической практикой Европейского союза и его государств-членов. К началу XXI века он стал маяком и примером для претендентов на членство в ЕС, а также глобальным вызовом для Соединенных Штатов и конкурентом «американского образа жизни».
Это совершенно непредвиденное преобразование Европы из географического понятия (весьма спорного) в ролевую модель и магнит для отдельных лиц и стран происходило медленно и постепенно. Перефразируя Александра Вата[19], иронично описывавшего иллюзии польских государственных деятелей межвоенного периода, можно сказать, что Европа не была «обречена на величие». Ее появление в таком качестве, конечно, никто не мог предсказать ни в 1945, ни даже в 1975 году. Эта новая Европа не была заранее спланированным общим проектом, никто не собирался его реализовывать. Но как только, после 1992 года, стало ясно, что Европа занимает это новое место на международной арене, ее отношения, в частности с США, приобрели иной аспект как для европейцев, так и для американцев.
Четвертая тема, вплетенная в рассказ о послевоенной Европе, – ее сложные и часто превратно понимаемые отношения с Соединенными Штатами Америки. Западные европейцы хотели, чтобы США вмешались в европейские дела после 1945 года, но в то же время их возмущало это вмешательство и его роль в упадке Европы. Более того, несмотря на присутствие США в Европе, особенно после 1949 года, две стороны «Запада» оставались очень разными. Холодная война воспринималась в Западной Европе совершенно иначе, там не было характерных для США панических настроений. А последующая «американизация» Европы 50-х и 60-х, как мы увидим дальше, часто преувеличивается.
Восточная Европа, конечно, совершенно иначе видела Америку и ее особенности. Но и там не нужно преувеличивать влияние США на восточных европейцев до и после 1989 года. Критики-диссиденты в обеих половинах Европы, например Раймон Арон во Франции или Вацлав Гавел в Чехословакии, тщательно подчеркивали, что не считают Америку в чем-либо образцом или примером для своего общества. И хотя молодое поколение восточных европейцев после 1989 года какое-то время стремилось к либерализации своих стран на американский манер – с ограничением государственного вмешательства, низкими налогами и свободным рынком, – эта мода быстро прошла. «Американский момент» Европы остался в прошлом. Будущее восточноевропейских «маленьких Америк» принадлежало самой Европе.
И наконец, послевоенная история Европы сильно омрачена молчанием и пустотами. Европейский континент когда-то был замысловатым, причудливым гобеленом из переплетенных между собой языков, религий, обществ и наций. Многие города, особенно небольшие на пересечении старых и новых имперских границ, такие как Триест, Сараево, Салоники, Черновцы, Одесса или Вильно[20], были по-настоящему мультикультурными обществами (как говорят французы, avant le mot), где католики, православные, мусульмане, евреи и другие жили бок о бок. Мы не должны идеализировать старую Европу. То, что польский писатель Тадеуш Боровский назвал «невероятным, почти комичным плавильным котлом народов и национальностей, опасно кипящим в самом сердце Европы», периодически полыхало бунтами, резней и погромами. Но такова была реальность, и о ней до сих пор сохранилась живая память.
Однако между 1914 и 1945 годами эту Европу разгромили в пух и прах. Обновленная же, которая начала формироваться во второй половине XX века, была проще устроена. Благодаря войне, оккупации, изменению границ, изгнаниям и геноциду почти все теперь жили в своих странах, среди своего народа. В течение сорока лет после Второй мировой войны европейцы в обеих половинах Европы жили в герметичных национальных анклавах, где уцелевшие религиозные или этнические меньшинства, например евреи во Франции, представляли крошечный процент населения и были полностью интегрированы в культурную и политическую жизнь. Только Югославия и Советский Союз (империя, а не просто страна, к тому же европейская лишь наполовину, как уже отмечалось) стояли особняком в этой новой Европе, состоявшей из гомогенных элементов.
Но с 1980-х годов и тем более после распада Советского Союза и расширения ЕС будущее Европы видится мультикультурным. Беженцы, гастарбайтеры, жители бывших европейских колоний, которые едут в имперскую метрополию в поисках работы и свободы, добровольные и вынужденные мигранты из несостоятельных или репрессивных государств на расширяющихся границах Европы – они превратили Лондон, Париж, Антверпен, Амстердам, Берлин, Милан и дюжину других мест в космополитические глобальные города, нравилось это кому-либо или нет.
Сейчас в ЕС в его нынешнем составе живут, возможно, 15 миллионов мусульман и еще 80 миллионов ожидают вхождения в состав ЕС в Болгарии и Турции. Это новое присутствие в Европе живых «других» наглядно показало не только нынешний дискомфорт европейцев, связанный с перспективой еще большего разнообразия, но и ту легкость, с которой мертвые «другие» из ее прошлого были совершенно забыты. ■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■[21].
Этот диссонирующий излом в плавном повествовании о пути Европы к «широким, залитым солнцем высотам» Уинстона Черчилля почти не упоминался в обеих половинах послевоенной Европы, по крайней мере до 1960-х годов, когда на него стали ссылаться исключительно в связи с уничтожением евреев немцами. За небольшим исключением, досье других преступников и других жертв не раскрывались. История и память о Второй мировой войне обычно ограничивались знакомым набором моральных условностей: Добро против Зла, антифашисты против фашистов, Сопротивление против коллаборационистов и так далее.
После 1989 года, с преодолением давно установившихся запретов, стало возможным признать (иногда вопреки яростному сопротивлению и отрицанию) моральную цену, уплаченную за возрождение Европы. Поляки, французы, швейцарцы, итальянцы, румыны и другие теперь лучше знают, если хотят знать, что действительно произошло в их стране всего несколько коротких десятилетий назад. Даже немцы пересматривают общепринятую историю своей страны и приходят к парадоксальным выводам. Теперь, впервые за многие десятилетия, в их поле внимания попали страдания самих немцев – от британских бомбардировщиков, советских солдат или чешских притеснителей. Евреи, как уже неуверенно говорили в некоторых респектабельных кругах, не единственные жертвы[22].
Хороши или плохи подобные дискуссии, вопрос спорный. Все эти публичные коммеморации – признак политического здоровья? Или иногда более благоразумно забыть, как лучше многих понимал де Голль? Этот вопрос будет рассмотрен в Эпилоге. Здесь я бы просто отметил, что недавние броски в прошлое не нужно понимать так, как их иногда понимают (особенно в Соединенных Штатах), сопоставляя с современными вспышками этнических или расовых предрассудков и видя в них зловещее свидетельство первородного греха Европы, ее неспособности извлечь уроки из прошлых преступлений, ее беспамятной ностальгии, ее постоянной готовности вернуться в 1938 год. Это не то, что Йоги Берра[23] называл «очередное дежавю».
Европа не возвращается в свое беспокойное военное прошлое, а, наоборот, покидает его. Сегодня Германия, как и вся остальная Европа, осознает свою историю XX века лучше, чем когда-либо за последние пятьдесят лет. Но это не значит, что она возвращается обратно. Просто история никогда не исчезала. Эта книга пытается показать, что Вторая мировая война легла тяжелой тенью на послевоенную Европу. Однако это не могло быть признано в полной мере. Молчание по поводу недавнего прошлого Европы было необходимым условием для построения европейского будущего. Сегодня, после болезненных публичных дебатов почти в каждой европейской стране, кажется уместным (и в любом случае неизбежным), что и немцы должны, наконец, чувствовать, что могут открыто ставить под сомнение каноны благонамеренной официальной памяти. Допускаю, что нам это не всегда очень нравится. Это может быть даже не очень хорошим предзнаменованием. Но это своего рода завершение. Через шестьдесят лет[24] после смерти Гитлера его война и ее последствия уходят в историю. Период после войны длился в Европе очень долго, но он, наконец, завершается.
Часть первая. После войны: 1945–1953
I. Наследие войны
«Европейский мир не испытал медленного упадка, как древние цивилизации, которые постепенно угасали и распадались; европейская цивилизация была снесена в один миг»[25].
Г. Д. Уэллс, «Война в воздухе» (1908)
«Человеческую проблему, которую война оставит после себя, сложно представить, еще сложнее ее решать. Никогда не было такого разрушения, такого распада структуры жизни».
Энн О’Хара МакКормик
«Здесь повсюду тяга к чудесам и исцелениям. Война подтолкнула неаполитанцев обратно в Средневековье».
Норман Льюис, «Неаполь 44-го»
Европу после Второй мировой войны ожидали крайняя нужда и запустение. Фотографии и документальные фильмы того времени изображают вызывающие жалость потоки беспомощных мирных жителей, бредущих по разрушенным взрывами городам и голым полям. Одинокие дети-сироты потерянно проходят мимо групп изможденных женщин, которые разбирают груды кирпичей. Депортированные с бритыми головами и узники концлагерей в полосатых пижамах равнодушно смотрят в камеру, голодные и больные. Даже трамваи, неуверенно влекомые по поврежденным путям электричеством, работающим с перебоями, кажутся контуженными. Все и всё, за явным исключением сытых оккупационных сил союзников, кажется изношенным, лишенным ресурсов, истощенным.
Этот образ нуждается в уточнении, если мы хотим понять, как столь разрушенный континент смог так быстро восстановиться в последующие годы. Но он отражает главную истину о состоянии Европы после поражения Германии. Европейцы ощущали безнадежность, они были измотаны, и на то имелась причина. Европейская война, которая началась со вторжения Гитлера в Польшу в сентябре 1939 года и закончилась безоговорочной капитуляцией Германии в мае 1945 года, была тотальной войной. В ней участвовали и гражданские лица, и военные.
На самом деле на территориях, оккупированных нацистской Германией, от Франции до Украины, от Норвегии до Греции, Вторая мировая война была, прежде всего, опытом гражданских лиц. Полноценные боевые действия сопутствовали лишь началу и концу конфликта. Между ними война означала оккупацию, репрессии, эксплуатацию и истребление, с помощью которых солдаты, штурмовики и полицейские лишали привычного существования и самой жизни десятки миллионов людей из стран, находившихся на положении заключенных. В некоторых странах оккупация длилась большую часть войны; всюду она приносила страх и лишения.
В отличие от Первой мировой войны, Вторая мировая, война Гитлера, затронула практически весь мир. И длилась она долго, почти шесть лет для тех стран (Великобритания, Германия), которые участвовали в ней от начала до конца. В Чехословакии она началась еще раньше, с оккупации нацистами Судетской области в октябре 1938 года. ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■ ■■■■■■) ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■[26].
Оккупационные режимы, конечно, были не новы для Европы. Отнюдь. Народная память о Тридцатилетней войне в Германии XVII века, во время которой иностранные наемные армии жили за счет покоренных территорий и терроризировали местное население, сохранилась и три века спустя в местных преданиях и сказках. Вплоть до тридцатых годов XX века испанские бабушки пугали непослушных детей Наполеоном. Но опыт оккупации во время Второй мировой войны обладал особой интенсивностью. Отчасти это связано с характерным отношением нацистов к подконтрольному населению.
Предыдущие оккупационные армии (шведы в Германии XVII века, пруссаки во Франции после 1815 года) жили за счет покоренных земель, атаковали и убивали местных жителей произвольным и даже случайным образом. Но народы, попавшие под немецкое правление после 1939 года, либо ставились на службу рейху, либо обрекались на уничтожение. Для европейцев это был новый опыт. За океанами, в своих колониях европейские государства систематически подчиняли или порабощали коренное население для собственной выгоды. Они не гнушались применением пыток, нанесением увечий или массовыми убийствами, чтобы принудить жертв к повиновению. Но с XVIII века европейцам не приходилось сталкиваться с подобными обычаями, по крайней мере, к западу от рек Буг и Прут[27].
Именно во время Второй мировой войны вся мощь современного европейского государства была впервые мобилизована с главной целью: завоевание и эксплуатация других европейцев. Чтобы сражаться и выиграть войну, британцы активно использовали и разграбляли собственные ресурсы; к концу войны Великобритания потратила более половины валового национального продукта на военные нужды. Однако нацистская Германия вела войну, особенно в последние годы, в значительной степени подпитываясь разоренной экономикой своих жертв (так же, как это делал Наполеон после 1805 года, но гораздо эффективней). Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Богемия и Моравия и особенно Франция невольно внесли значительный вклад в военные действия Германии. Их рудники, фабрики, фермы и железные дороги служили нуждам Германии, а населению приходилось работать на немецком военном производстве: сначала в своих странах, потом в самой Германии. В сентябре 1944 года в Германии находилось 7 487 000 иностранцев, большинство из которых попали туда против воли, и они составляли 21 % рабочей силы страны.
Нацисты жили за счет богатства своих жертв так долго, как могли. Это удавалось им столь успешно, что лишь в 1944 году гражданское население Германии стало ощущать влияние ограничений и дефицита военного времени[28]. К этому моменту военный конфликт приблизился к ним, сначала в виде бомбардировок союзников, затем одновременным наступлением союзных армий с востока и запада. Именно в этот последний год войны, в относительно короткий промежуток активной военной кампании к западу от Советского Союза, произошли самые масштабные физические разрушения.
С точки зрения современников, последствия войны измерялись не показателями промышленных прибылей и убытков или чистой стоимостью национальных активов в 1945 году по сравнению с 1938 годом, а скорее видимыми повреждениями, нанесенными им самим и их непосредственному окружению. Именно с этих повреждений мы должны начать, если хотим понять травму, которая скрывается за образами запустения и безнадежности, привлекавших внимание наблюдателей в 1945 году.
Очень немногие европейские города разного размера вышли из войны невредимыми. По неформальному соглашению или счастливой случайности древние и относящиеся к раннему Новому времени центры нескольких знаменитых европейских городов (Рим, Венеция, Прага, Париж, Оксфорд) никогда не подвергались ударам. Но уже в первый год войны немецкие бомбардировщики сровняли с землей Роттердам и перешли к разрушению английского промышленного города Ковентри. Вермахт уничтожил множество небольших городов на пути вторжения в Польше, а позднее в Югославии и СССР. Целые районы в центре Лондона, особенно более бедные кварталы вокруг доков в Ист-Энде, стали жертвами блицкрига Люфтваффе в ходе войны.
Но самый большой материальный ущерб был нанесен беспрецедентными бомбардировками западных союзников в 1944 и 1945 годах и неустанным наступлением Красной армии от Сталинграда до Праги. Французские прибрежные города Руайан, Гавр и Кан были выпотрошены воздушными силами США. Гамбург, Кёльн, Дюссельдорф, Дрезден и десятки других немецких городов оказались опустошены ковровыми бомбардировками британских и американских самолетов. На востоке белорусский город Минск был разрушен к концу войны на 80 %. Киев на Украине представлял собой тлеющие руины. А в это время отступающие немецкие войска осенью 1944 года систематически жгли и взрывали столицу Польши, Варшаву, дом за домом, улицу за улицей. Когда война в Европе закончилась, когда Берлин пал под натиском Красной армии в мае 1945 года, после того как за последние две недели на него истратили 40 000 тонн боеприпасов, немецкая столица превратилась в дымящиеся холмы щебня и искореженного металла. 75 % берлинских зданий были непригодны для жилья.
Разрушенные города стали самым очевидным и фотогеничным свидетельством опустошения и общим визуальным символом страданий, вызываемых войной. Поскольку большая часть ущерба была нанесена жилым домам и многоквартирным зданиям, многие люди остались без крова (приблизительно 25 миллионов человек в Советском Союзе, еще 20 миллионов в Германии, 500 000 из них в одном только Гамбурге). Усеянный обломками городской пейзаж был самым непосредственным напоминанием о только что закончившейся войне. Но не единственным напоминанием. В Западной Европе серьезно пострадали транспорт и связь. Из 12 000 железнодорожных локомотивов, имевшихся в довоенной Франции, к моменту капитуляции Германии в строю находилось всего 2800 единиц. Многие дороги, железнодорожные пути и мосты взорвали отступающие немцы, наступающие союзники или французское Сопротивление. Две трети французского торгового флота были потоплены. Только в 1944–1945 годах Франция потеряла 500 000 жилых помещений.
Но французам, как и англичанам, бельгийцам, голландцам (потерявшим к 1945 году 219 000 гектаров земли, затопленной немцами, и 60 % довоенного железнодорожного, автомобильного и водного транспорта), датчанам, норвежцам (которые потеряли 14 % довоенного национального богатства страны в ходе немецкой оккупации) и даже итальянцам относительно повезло, хотя они и не знали об этом. Настоящие ужасы войны испытали жители территорий, расположенных восточнее. Нацисты относились к западным европейцам с некоторым уважением, при условии, что те поддавались эксплуатации, а западные европейцы в ответ на это не прилагали особых усилий для того, чтобы мешать или противостоять военным усилиям немцев. В Восточной и Юго-Восточной Европе немцы-оккупанты были беспощадны, и не только потому, что местные партизаны в Греции, Югославии и особенно на Украине вели безжалостную, хотя и безнадежную борьбу против них[29].
Таким образом, материальные последствия немецкой оккупации, советского наступления и партизанской борьбы на востоке кардинально отличались от военного опыта на западе. В Советском Союзе во время войны было разрушено 70 000 деревень и 1700 городов, 32 000 заводов и 40 000 миль рельсового пути. В Греции были утрачены две трети жизненно важного торгового флота страны, уничтожена треть лесов и тысячи деревень стерты с лица земли. Одновременно в стране началась гиперинфляция, из-за того что немецкая политика назначения оккупационных выплат определялась военными нуждами Германии, а не платежеспособностью Греции.
Югославия потеряла 25 % своих виноградников, 50 % домашнего скота, 60 % дорог, 75 % пахотной техники и железнодорожных мостов, каждое пятое довоенное жилище и треть ограниченного промышленного потенциала, а также – 10 % довоенного населения. В Польше три четверти железнодорожных путей стандартной колеи вышли из строя и каждая шестая ферма пришла в негодность. Большинство городов страны практически не функционировали (правда, только Варшава была полностью разрушена).
Но даже эти цифры, какими бы поразительными они ни были, позволяют увидеть лишь часть картины, мрачный вещественный фон. Огромный материальный ущерб, понесенный европейцами в ходе войны, не идет ни в какое сравнение с человеческими потерями. Подсчитано, что около 36,5 миллионов европейцев погибло в период с 1939 по 1945 годы по причинам, связанным с войной (равно населению Франции перед началом войны). Этот показатель не включает естественную смертность, а также какую-либо оценку количества детей, не зачатых или не родившихся тогда или позже из-за войны.
Общее число смертей ошеломляет (цифры, приведенные здесь, не включают погибших из Японии, США или других неевропейских стран). Оно затмевает показатели смертности Первой мировой войны 1914–1918 годов, хотя те цифры тоже были ужасны. Ни один другой конфликт в известной нам истории не повлек за собой гибель такого множества людей за столь короткий срок. Но больше всего поражает количество мирных жителей среди погибших: как минимум – 19 миллионов или более половины всех жертв. Число погибших мирных жителей превысило военные потери в СССР, Венгрии, Польше, Югославии, Греции, Франции, Нидерландах, Бельгии и Норвегии. Только в Великобритании и Германии военные потери значительно превысили гражданские.
Оценки потерь мирного населения на территории Советского Союза сильно разнятся, хотя наиболее вероятная цифра превышает 16 миллионов человек (примерно вдвое больше, чем потери советских войск, которые только в битве за Берлин потеряли 78 000 человек)[30]. Гражданские потери на территории довоенной Польши достигают 5 миллионов, в Югославии 1,4 миллиона, в Греции 430 000, во Франции 350 000, в Венгрии 270 000, в Нидерландах 204 000, в Румынии 200 000. К этим цифрам относятся примерно 5,7 миллиона евреев (составивших особенно большой процент в Польше, Нидерландах и Венгрии), а также 221 000 цыган (рома).
Причины гибели мирных жителей включают в себя массовое истребление (в лагерях смерти и на расстрельных полигонах от Одессы до Балтики), болезни, истощение и голод (искусственно созданный и не только), расстрел и сожжение заложников вермахтом, ■■■■■■■ ■■■■■■[31] и партизанами разного рода, репрессии против гражданских лиц, последствия бомбежек, обстрелов и пехотных боев в полях и городах (на Восточном фронте на протяжении всей войны и на западе от высадки в Нормандии в июне 1944 года до поражения Гитлера в мае следующего года), преднамеренный обстрел колонн беженцев и смерть от тяжелых работ в условиях рабского труда на объектах военной промышленности и в лагерях для военнопленных.
Наибольшие военные потери понесли Советский Союз (как полагают, погибло 8,6 миллиона мобилизованных мужчин и женщин), затем Германия с четырьмя миллионами, Италия, потерявшая 400 000 солдат сухопутных войск, моряков и летчиков, и Румыния, которая потеряла 300 000 военнослужащих, в основном в боях на стороне «о́си»[32] на Восточном фронте. Однако относительно численности населения наибольшие военные потери понесли австрийцы, венгры, албанцы и югославы. С учетом всех потерь, гражданских и военных, Польша, Югославия, СССР и Греция пострадали больше всего. Польша потеряла примерно одну пятую довоенного населения, включая очень высокий процент образованных людей, преднамеренно уничтожавшихся нацистами[33]. Югославия потеряла одну восьмую довоенного населения страны, в СССР погиб каждый одиннадцатый, в Греции каждый четырнадцатый. Чтобы подчеркнуть контраст, нужно отметить, что Германия понесла потери в размере 1 к 15, Франция 1 к 77, Великобритания 1 к 125.
Советские потери включают в том числе военнопленных. Немцы захватили в ходе войны около пяти с половиной миллионов советских солдат, три четверти из которых в первые семь месяцев после нападения на СССР в июне 1941 года. Из них 3,3 миллиона умерли от голода, холода и жестокого обращения в плену. В лагерях для военнопленных в 1941–1945 годах погибло больше русских, чем во всей Первой мировой войне. Из 750 000 советских солдат, взятых в плен немцами при захвате Киева в сентябре 1941 года[34], всего 22 000 человек дожили до поражения Германии. Советы, в свою очередь, захватили три с половиной миллиона военнопленных (в основном немцев, австрийцев, румын и венгров). Большинство из них после войны вернулись домой.
С учетом этих цифр неудивительно, что послевоенная Европа, особенно Центральная и Восточная, испытывала острую нехватку мужчин. В Советском Союзе число женщин превысило количество мужчин на 20 миллионов. Для исправления этого дисбаланса потребовалось более одного поколения. Советская аграрная экономика теперь сильно зависела от женского труда любого рода. Не было не только мужчин, но и лошадей. В Югославии, где немцы во время акций возмездия расстреливали всех мужчин старше 15 лет, во многих деревнях вообще не осталось взрослых мужчин. В самой Германии каждые двое из трех мужчин 1918 года рождения не пережили гитлеровскую войну. В берлинском пригороде Трептов, по которому у нас есть подробные данные, в феврале 1946 года среди взрослых в возрасте 19–21 года на 1105 женщин приходился всего 181 мужчина.
Такое преобладание женщин имело большие последствия, особенно в послевоенной Германии. Из суперменов лощеной гитлеровской армии мужчины превратились в оборванную колонну пленных, которые вернулись с большим опозданием и с удивлением обнаружили поколение закаленных женщин, волей-неволей научившихся выживать и обходиться без них. Униженный, жалкий статус немецких мужчин не вымысел (канцлер Германии Герхард Шрёдер – лишь один из многих тысяч немецких детей, выросших без отца[35]). Райнер Фассбиндер эффектно использовал этот образ послевоенной немецкой женщины в фильме «Замужество Марии Браун» (1979 год). Главная героиня выгодно пользуется своей внешностью и энергичным цинизмом, несмотря на мольбы матери не делать ничего, «что может навредить ее душе». Однако Мария Фассбиндера несла бремя обиды и разочарования более позднего поколения, в то время как невымышленные женщины Германии 1945 года сталкивались с более насущными трудностями.
■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■ ■■ ■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■: «■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■… ■■■■■■■… ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■».
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■) ■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■ ■■ ■ ■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■.
■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■: «■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■? ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■, ■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■-■■■■■■ ■■■■■■■■■■?»
■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■, ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■, ■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■■■■■.
■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■. ■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■, ■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■. ■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■.
■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ (■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■) ■ ■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ «■■■■■■■ ■■■■■■■■■» ■■■■■■■■ ■ ■■■■–■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■[36].
В одном только Берлине к концу 1945 года насчитывалось примерно 53 000 брошенных детей. Квиринальские сады в Риме ненадолго приобрели печальную известность как место сбора тысяч искалеченных, изуродованных и брошенных детей Италии. В освобожденной Чехословакии было 49 000 детей-сирот, в Нидерландах 60 000, в Польше ориентировочно 200 000 сирот, в Югославии, возможно, 300 000. Среди детей младшего возраста было немного евреев – пережили погромы и истребления военных лет в основном подростки. Во время освобождения Бухенвальда нашли живыми 800 детей, в Берген-Бельзен всего 500 человек, некоторые из них даже пережили марш смерти из Освенцима.
Одно дело – пережить войну, другое – пережить мир. Благодаря раннему и эффективному вмешательству вновь созданной Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (UNRRA)[37] и оккупационных армий союзников удалось избежать широкомасштабных эпидемий и неконтролируемого распространения инфекционных заболеваний. Память об азиатском гриппе, прокатившемся по Европе после Первой мировой войны, была еще свежа[38]. Но ситуация оставалась достаточно мрачной. Большая часть населения Вены 1945 года обходилась дневным пайком в 800 калорий, в Будапеште в декабре того же года паек официально составлял всего 556 калорий в день (дети в яслях получали 800). Во время голодной зимы 1944–1945 годов в Нидерландах (когда части страны уже были освобождены) калорийность недельного рациона в некоторых регионах упала ниже дневной нормы, рекомендованной экспедиционными силами союзников для солдат. Погибло 16 000 голландских граждан, в основном старики и дети.
В Германии, где средний рацион взрослого составлял 2445 калорий в день в 1940–1941 годах и 2078 калорий в 1943 году, он сократился до 1412 калорий в день в 1945–1946 годах. Но это всего лишь средний показатель. В июне 1945 года в американской зоне оккупации официальный дневной рацион «обычных» немецких потребителей (исключая привилегированные категории работников) составлял всего 860 калорий. Эти цифры придали печальное значение немецкой шутке военного времени: «Наслаждайся войной, мир будет ужасен». Ситуация была ненамного лучше в большей части Италии и несколько хуже в некоторых районах Югославии и Греции[39].
Проблема заключалась частично в уничтоженных фермах, частично в нарушении коммуникаций и главным образом в огромном количестве беспомощных, недееспособных иждивенцев, которых надо было кормить. Там, где европейские фермеры могли выращивать продукты питания, они не хотели их поставлять в города. Большинство европейских валют обесценились, и даже если бы были средства, чтобы платить крестьянам за продукты в твердой валюте, она их мало привлекала, так как покупать было нечего. Поэтому продукты появились на черном рынке, но по ценам, доступным только преступникам, богачам и оккупантам.
Люди голодали и заболевали. Одна треть населения греческого Пирея в 1945 году страдала трахомой[40] из-за острого дефицита витаминов. Во время вспышки дизентерии в Берлине в июле 1945 года, произошедшей из-за повреждения канализации и загрязнения воды, умирали 66 из 100 новорожденных. Политический советник США по Германии Роберт Мерфи сообщил в октябре 1945 года, что на железнодорожном вокзале Лертер в Берлине от истощения, недоедания и болезней ежедневно умирает в среднем десять человек. В британской зоне Берлина в декабре 1945 года смертность детей в возрасте до года составляла одну четверть. Кроме того, в том же месяце было зарегистрировано 1023 новых случая брюшного тифа и 2193 случая дифтерии.
Летом 1945 года, на протяжении многих недель после окончания войны, особенно в Берлине, существовала серьезная опасность вспышек заболеваний, вызванных разлагающимися трупами. В Варшаве каждый пятый болел туберкулезом. Этой болезнью, по сообщению властей Чехословакии, в январе 1946 года заразилась половина из 700 000 нуждающихся детей в стране. Дети по всей Европе страдали от «болезней бедняков», особенно от туберкулеза и рахита, а также пеллагры[41], дизентерии и лишая. Обратиться за помощью им было некуда. На 90 000 детей в освобожденной Варшаве приходилась всего одна больница на пятьдесят коек. Здоровые в целом дети умирали от нехватки молока (миллионы голов европейского скота были забиты во время боев в Южной и Восточной Европе в 1944–1945 годах), большинство хронически недоедали. Младенческая смертность в Вене летом 1945 года была почти в четыре раза выше, чем в 1938 году. Даже на относительно благополучных улицах западных городов дети голодали, а еда была строго нормирована.
Проблема питания, жилья, одежды и ухода осложнялась и усугублялась для пострадавшего гражданского населения Европы (и миллионов пленных солдат бывших стран «оси») уникальным масштабом кризиса беженцев. Это было что-то новое для Европы. Все войны меняют жизнь мирных жителей, уничтожая их земли и дома, нарушая коммуникации, забирая и убивая мужей, отцов, сыновей. Но во время Второй мировой войны государственная политика нанесла больший ущерб, чем вооруженный конфликт.
Сталин продолжал довоенную практику переселения целых народов на другой край Советской империи. С 1939 по 1941 год более миллиона человек депортировали на восток из занятой Советским Союзом Польши, Западной Украины и Прибалтики. В те же годы нацисты изгнали 750 000 польских крестьян на восток из Западной Польши, предлагая освободившиеся земли Volksdeutsche, этническим немцам из оккупированной Восточной Европы, которых пригласили «вернуться домой» в недавно расширившийся рейх. Это предложение привлекло около 120 000 балтийских немцев, еще 136 000 из занятой Советским Союзом Польши, 200 000 из Румынии и множество из других стран. Через несколько лет их всех также ожидала высылка. Таким образом, гитлеровскую политику расовых перемещений и геноцида на завоеванных Германией восточных землях следует понимать в прямой связи с проектом нацистов по возвращению в рейх всех немецких сообществ, широко разбросанных по Европе со времен Средневековья, и расселению их на территориях, отнятых у жертв. Немцы избавлялись от славян, истребляли евреев и привозили трудовых рабов с запада и востока.
■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■–■■■■ ■■■■■[42]. С отступлением армий «оси» процесс пошел вспять. Недавно переселенные немцы вместе с миллионами жителей старых немецких общин по всей Восточной Европе спасались бегством от Красной армии. К тем, кто смог благополучно добраться до Германии, присоединились несметные толпы других перемещенных лиц. Офицер британской армии Уильям Байфорд-Джонс так описал ситуацию в 1945 году:
«Обломки кораблекрушения! Женщины, лишившиеся мужей и детей, мужчины, лишившиеся жен, мужчины и женщины, лишившиеся домов и детей, семьи, потерявшие обширные фермы и поместья, магазины, винокурни, фабрики, мельницы, особняки. Там были и маленькие дети, которые шли сами по себе, неся какие-то узелки с жалкими бирками. Они каким-то образом потеряли матерей, или их матери умерли и были похоронены другими переселенцами где-то на обочине».
С востока шли прибалты, поляки, украинцы, казаки, венгры, румыны и другие. Кто-то просто бежал от ужасов войны, кто-то хотел скрыться на Западе от правления коммунистов. Репортер «Нью-Йорк Таймс» описал колонну из 24 000 казаков и их семей, двигавшуюся через Южную Австрию: «Они ничем принципиально не отличались от того, что художник мог бы изобразить во время Наполеоновских войн».
С Балкан прибыли не только этнические немцы, но и более 100 000 хорватов, осколки павшего фашистского режима Анте Павелича военного времени. Они спасались от гнева партизан Тито[43]. В Германии и Австрии, в дополнение к миллионам солдат вермахта, удерживаемых союзниками, и союзным солдатам, освобожденным из немецких лагерей для военнопленных, находилось много не-немцев, воевавших против союзников вместе с немцами или под немецким командованием. Среди них русские, украинцы и другие солдаты антисоветской армии генерала Андрея Власова, добровольцы Ваффен-СС из Норвегии, Нидерландов, Бельгии и Франции, бойцы немецких вспомогательных формирований, охранники концлагерей и другие, завербованные в Латвии, Хорватии, на Украине и повсюду. Все они имели веские причины бежать от советского возмездия.
Также здесь были только что освобожденные мужчины и женщины, завербованные нацистами для работы в Германии. Привезенные на немецкие фермы и фабрики со всего континента, они исчислялись миллионами, были разбросаны по всей Германии и аннексированным ею территориям, составляя в 1945 году самую крупную группу перемещенных нацистами лиц. Таким образом, вынужденная экономическая миграция была основным опытом Второй мировой войны для многих европейских граждан, в том числе для 280 000 итальянцев, насильственно переселенных в Германию их бывшим союзником после капитуляции Италии в сентябре 1943 года.
Большинство иностранных рабочих доставляли в Германию против воли, но не всех. Некоторые, застигнутые поражением Германии в мае 1945 года, находились там по собственной воле, подобно тем безработным голландцам, которые приняли предложения работать в нацистской Германии ранее 1939 года и остались там[44]. Даже смехотворная заработная плата немецких работодателей военного времени позволяла мужчинам и женщинам из Восточной Европы, с Балкан, из Франции и стран Бенилюкса жить лучше, чем дома. А советские рабочие (которых было свыше двух миллионов в Германии к сентябрю 1944 года), даже вывезенные в Германию насильно, не обязательно сожалели о своем положении. Например, одна из них, Елена Скрябина, вспоминала после войны: «Никто из них не жалуется на то, как немцы отправили их работать на немецкую промышленность. Для всех это была единственная возможность покинуть Советский Союз»[45].
Другая группа перемещенных лиц (выжившие в концлагерях) чувствовала себя совсем иначе. Их «преступления» были разнообразны: политическая или религиозная оппозиция нацизму или фашизму, вооруженное сопротивление, коллективное наказание за нападения на солдат или объекты вермахта, незначительные нарушения правил оккупации, настоящие или вымышленные преступные действия, нарушение нацистских расовых законов. Они выжили в лагерях, которые к концу войны были переполнены трупами и где кишели всевозможные болезни: дизентерия, туберкулез, дифтерия, брюшной тиф, сыпной тиф, бронхопневмония, гастроэнтерит, гангрена и многие другие. Но даже этим уцелевшим жилось лучше, чем евреям, которых систематически и массово уничтожали.
Евреев осталось немного. 40 % освобожденных умерли в течение нескольких недель после прибытия армий союзников. Их состояние было чем-то новым для западной медицины. Но выжившие евреи, как и миллионы других бездомных в Европе, попали в Германию. В Германии должны были располагаться учреждения и лагеря союзников, а в Восточной Европе все еще было небезопасно для евреев. После серии послевоенных погромов в Польше многие выжившие евреи уехали навсегда. 63 387 евреев прибыли в Германию из Польши только в период с июля по сентябрь 1946 года.
То, что происходило в 1945 году и продолжалось не менее года, было, по сути, невиданным примером этнической чистки и перемещения населения. Отчасти это был итог «добровольного» этнического разделения. Например, оставшиеся в живых евреи покидали Польшу, где к ним относились враждебно и где было небезопасно, а итальянцы предпочитали покинуть полуостров Истрия, чтобы не жить под властью Югославии. Многие этнические меньшинства, которые сотрудничали с оккупационными войсками (итальянцы в Югославии, венгры в Северной Трансильвании, оккупированной Венгрией и вернувшейся под власть Румынии, украинцы на западе СССР и т. д.), навсегда бежали с отступающим вермахтом, чтобы избежать возмездия со стороны местного большинства или наступающей Красной армии. Их отъезд, возможно, не был юридически предписан или силой навязан местными властями, но у них не было выбора.
Однако на других территориях официальная политика действовала задолго до окончания войны. Начали ее, конечно, немцы, с выселения и геноцида евреев и массового изгнания поляков и других славянских народов. Под эгидой Германии между 1939 и 1943 годами румыны и венгры перемещались туда и обратно через новые линии границ в спорной Трансильвании. Советские власти, в свою очередь, организовали серию принудительных обменов населением между Украиной и Польшей. Миллион поляков бежали или были изгнаны из своих домов на территории современной Западной Украины, в то время как полмиллиона украинцев уехали из Польши в Советский Союз в период с октября 1944 года по июнь 1946 года. В течение нескольких месяцев некогда смешанный регион с разнообразием религий, языков и общин превратился в две отдельные, моноэтнические территории.
Болгария передала Турции 160 000 турок. Чехословакия по соглашению с Венгрией от февраля 1946 года обменяла 120 000 словаков, проживавших в Венгрии, на эквивалентное количество венгров из общин к северу от Дуная в Словакии. Другие обмены такого рода имели место между Польшей и Литвой и между Чехословакией и Советским Союзом. 400 000 человек из Южной Югославии были перемещены на север, чтобы занять место 600 000 уехавших немцев и итальянцев. Здесь, как и везде, мнением перемещаемого населения никто не интересовался. Но самой большой пострадавшей группой были немцы.
Немцы Восточной Европы, вероятно, в любом случае бежали бы на Запад. К 1945 году их не хотели видеть в странах, где многие сотни лет жили их семьи. Наблюдая искреннее народное желание наказать местных немцев за ужасы войны и оккупации и использование этих настроений послевоенными правительствами, немецкоязычные общины Югославии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Прибалтики и западной части Советского Союза понимали, что обречены.
Как бы то ни было, им не оставили выбора. Еще в 1942 году англичане в частном порядке согласились с просьбами чехов о послевоенном переселении судетских немцев, и через год русские и американцы присоединились к ним. 19 мая 1945 года президент Чехословакии Эдвард Бенеш издал указ следующего содержания: «Мы решили раз и навсегда устранить немецкую проблему в нашей республике»[46]. Немцы (а также венгры и другие «предатели») должны были передать свое имущество под контроль государства. В июне 1945 года их земли были экспроприированы, а 2 августа того же года они потеряли чехословацкое гражданство. Почти три миллиона немцев, большинство из чешской Судетской области, были изгнаны в Германию в последующие восемнадцать месяцев. Около 267 000 человек погибли в процессе изгнания. Если в 1930 году немцы составляли 29 % населения Богемии и Моравии, то по переписи 1950 года осталось всего 1,8 %.
Из Венгрии было изгнано еще 623 000 немцев, из Румынии 786 000, из Югославии около полумиллиона, а из Польши 1,3 миллиона. Но наибольшее количество немецких беженцев прибыло из бывших восточных земель самой Германии: Силезии, Восточной Пруссии, Восточной Померании и Восточного Бранденбурга. На Потсдамской конференции США, Англии и СССР (17 июля – 2 августа 1945 года) было решено (статья XII соглашения), что три правительства «признают, что должно быть предпринято перемещение в Германию немецкого населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии». Отчасти документ просто признавал то, что уже происходило, но он также давал формальное признание последствий переноса границ Польши на запад. Около семи миллионов немцев теперь оказались в Польше, а польские власти (и оккупационные советские силы) хотели их убрать – отчасти для того, чтобы поляки и те, кто потерял земли в восточных районах, ныне присоединенных к СССР, могли, в свою очередь, переселиться на земли на западе.
Итогом стало признание de jure новой реальности. Восточная Европа была насильно очищена от немецкого населения. Как Сталин и обещал в сентябре 1941 года, он присоединил «Восточную Пруссию к славянским землям, к которым она исконно принадлежала». В Потсдамской декларации сказано, что «любое перемещение, которое будет иметь место, должно производиться организованным и гуманным способом», но в текущих обстоятельствах это вряд ли было осуществимо. Некоторые западные наблюдатели были шокированы обращением с немецкими общинами. Энн О’Хара МакКормик, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», записала свои впечатления 23 октября 1946 года: «Масштабы этого переселения и условия, в которых оно происходит, прежде не встречались в истории. Любой, увидев эти ужасы воочию, будет убежден в том, что это преступление против человечности, за которое история потребует страшного возмездия».
История не потребовала возмездия. 13 миллионов изгнанных довольно успешно обосновались и интегрировались в западногерманское общество, хотя воспоминания остались, и в Баварии (куда многие из них переехали) эта тема еще может вызвать сильные чувства. Современному слушателю, возможно, немного режет ухо, когда изгнание немцев описывают как «преступление против человечества» через несколько месяцев после разоблачения преступлений совсем иного масштаба, совершенных от имени тех самых немцев. При этом немцы остались живы, тогда как их жертвы, прежде всего евреи, в основном были уничтожены. Телфорд Тейлор, обвинитель от США на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, десятилетия спустя писал, что существовала принципиальная разница между послевоенными изгнаниями и чистками военного времени, «когда угнетатели сопровождали выселенных, чтобы убедиться, что они содержатся в гетто, а затем убить их или использовать в качестве подневольной трудовой силы».
По окончании Первой мировой войны были придуманы и скорректированы границы, а люди в основном остались на месте[47]. После 1945 года произошло скорее обратное: за одним важным исключением, границы остались в целом нетронутыми, а вместо этого были перемещены люди. Западные политики считали, что Лига Наций и положения о меньшинствах в Версальском договоре потерпели неудачу[48], и было бы ошибкой пытаться воскресить их. Поэтому они достаточно охотно согласились на перемещение населения. Если выжившие меньшинства жителей Центральной и Восточной Европы не могли получить эффективную международную защиту, их стоило отправить в более подходящие места. Термина «этническая чистка» еще не придумали, но реальность, безусловно, существовала. И она совершенно не вызывала массового неодобрения или смущения.
Исключением, как и во многих случаях, была Польша. Географическая реорганизация Польши (потеря 69 000 квадратных миль восточных окраин в пользу Советского Союза и получение в качестве компенсации 40 000 квадратных миль земли гораздо лучшего качества из немецких территорий к востоку от рек Одер и Нейсе) имела значительные последствия для поляков, украинцев и немцев на этих землях. Но в условиях 1945 года ситуация была необычной, и ее, скорее, следует понимать как часть общей территориальной перестройки, которую Сталин провел по всей западной окраине своей империи. Он получил Бессарабию у Румынии, забрал Буковину и Прикарпатскую Русь у Румынии и Чехословакии соответственно, ввел страны Балтии в состав Советского Союза и сохранил за собой Карельский полуостров, который забрал у Финляндии во время войны.
К западу от новых советских границ мало что изменилось. Болгария получила обратно от Румынии полосу земли в Добрудже. Чехословаки получили от Венгрии (побежденной и поэтому неспособной возражать страны «оси») три деревни на правом берегу Дуная, напротив Братиславы. Тито смог сохранить часть бывшей итальянской территории вокруг Триеста и в Венеции-Джулии, которую его войска оккупировали в конце войны. Все иные территории, захваченные между 1938 и 1945 годами, были возвращены, и status quo ante восстановился.
За некоторым исключением, результатом стала Европа национальных государств, более этнически однородных, чем когда-либо прежде. Советский Союз, конечно, оставался многонациональной империей. Югославия не утратила этнической сложности, несмотря на кровавые междоусобицы во время войны. Румыния все еще имела значительное венгерское меньшинство в Трансильвании и бесчисленное количество (миллионы) цыган. Но Польша, население которой в 1938 году лишь на 68 % было польским, в 1946 году была заселена почти только поляками. Германия стала практически полностью немецкой (если не считать временных беженцев и перемещенных лиц). Население Чехословакии до Мюнхенского соглашения было на 22 % немецким, на 5 % венгерским, а также включало 3 % карпатских украинцев и 1,5 % евреев. Теперь там жили в основном только чехи и словаки. Из 55 000 чехословацких евреев, переживших войну, к 1950 году уехали все, кроме 16 000. Греки и турки на юге Балкан и вокруг Черного моря, итальянцы в Далмации, венгры в Трансильвании и с Северных Балкан, поляки на Волыни (Украина), в Литве и Буковине, немцы от Балтики до Черного моря, от Рейна до Волги и евреи повсюду – все эти древние диаспоры Европы сократились и исчезли. Рождалась новая, «более аккуратная» Европа.
Большая часть первоначального управления перемещенными лицами и беженцами (сбор, устройство для них лагерей, снабжение едой и одеждой, медицинская помощь) осуществлялась армиями союзников, оккупировавшими Германию, особенно армией США. В Германии не было другой власти, не было ее и в Австрии и Северной Италии, где также скапливались беженцы. Только армия имела ресурсы и организационные возможности для управления демографическим эквивалентом среднего размера страны. Это была рекордная нагрузка для огромной военной машины, которая всего несколько недель назад служила почти исключительно борьбе с вермахтом. Как выразился генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр (верховный главнокомандующий союзными силами) в докладе президенту Гарри Трумэну 8 октября 1945 года в ответ на критику в адрес военных, занимавшихся беженцами и бывшими узниками концлагерей: «В некоторых случаях мы опустились ниже стандарта, но я хотел бы отметить, что вся армия столкнулась со сложной задачей, когда нужно было после боевых действий приспособиться сперва к массовой репатриации, а затем к нынешней статичной фазе с ее уникальными проблемами социального характера».
Однако после того как система лагерей заработала, ответственность за обслуживание и возможную репатриацию или переселение миллионов перемещенных лиц легла в основном на Администрацию помощи и восстановления Объединенных Наций. UNRRA была основана 9 ноября 1943 года на Вашингтонской конференции представителей 44 будущих членов ООН, предвидевших вероятные послевоенные нужды. Эта организация сыграла ключевую роль в разрешении послевоенной чрезвычайной ситуации. Она потратила 10 миллиардов долларов с июля 1945 по июнь 1947 года. Почти все средства были предоставлены правительствами США, Канады и Великобритании. Большая часть помощи шла напрямую бывшим союзникам в Восточной Европе: Польше, Югославии, Чехословакии и Советскому Союзу, – а также управлению перемещенными лицами в Германии и других странах. Среди бывших стран «оси» только Венгрия получала небольшую помощь UNRRA.
В конце 1945 года UNRRA руководила 227 лагерями и центрами помощи для перемещенных лиц и беженцев в Германии. Еще 25 находились в соседней Австрии и несколько во Франции и странах Бенилюкса. К июню 1947 года у нее насчитывалось 762 подразделения в Западной Европе, подавляющее большинство располагалось в западных зонах Германии. В сентябре 1945 года число освобожденных граждан стран Организации Объединенных Наций (то есть не считая граждан бывших стран «оси»), которых обслуживали или репатриировали UNRRA и другие организации союзников, достигло 6 795 000 человек. К ним следует добавить еще семь миллионов человек в советской зоне оккупации и многие миллионы перемещенных немцев. Самые большие группы составляли граждане Советского Союза: освобожденные пленные и бывшие подневольные рабочие. Затем следовали два миллиона французов (военнопленные, рабочие и депортированные), 1,6 миллиона поляков, 700 000 итальянцев, 350 000 чехов, более 300 000 голландцев, 300 000 бельгийцев и т. д.
UNRRA сыграла важнейшую роль в снабжении продовольствием Югославии. Без помощи организации за 1945–1947 годы погибло бы гораздо больше людей. В Польше UNRRA помогла поддержать уровень потребления продуктов питания на уровне 60 % от довоенного, а в Чехословакии на уровне 80 %. В Германии и Австрии организация разделяла ответственность за помощь перемещенным лицам и беженцам с Международной организацией по делам беженцев (МОБ), устав которой был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1946 года.
МОБ также в значительной степени финансировалась за счет западных союзных держав. В ее первом бюджете (1947 года) доля США составляла 46 %, а к 1949 году она возросла до 60 %. Великобритания внесла 15 %, Франция 4 %. Из-за разногласий между западными союзниками и Советским Союзом по вопросу о принудительных репатриациях МОБ всегда рассматривалась СССР (а позже и советским блоком) как исключительно западный инструмент, и поэтому его услуги распространялись только на беженцев в районах, контролируемых западными оккупационными войсками. Кроме того, поскольку организация служила нуждам беженцев, немецкие перемещенные лица также не могли пользоваться ее услугами.
Это разделение между перемещенными лицами (предполагалось, что у них где-то есть дом, куда можно вернуться) и беженцами (классифицировались как бездомные) было лишь одним из многих нюансов, возникших в эти годы. К людям относились по-разному в зависимости от того, были ли они гражданами стран-союзников (Чехословакии, Польши, Бельгии и др.) или вражеских государств (Германии, Румынии, Венгрии, Болгарии и др.). Это разделение также использовалось, когда устанавливались приоритеты репатриации беженцев. Первыми в очереди на рассмотрение и отправку домой были граждане стран ООН, освобожденные из концлагерей. Затем шли военнопленные – граждане стран ООН, за ними перемещенные лица – граждане стран ООН (во многих случаях бывшие подневольные рабочие), затем перемещенные лица из Италии и, наконец, – граждане бывших вражеских государств. Немцам пришлось остаться там, где они были, и интегрироваться в местное общество.
Возвращение французских, бельгийских, голландских, британских или итальянских граждан в свои страны было относительно простым, и единственная трудность заключалась в логистике. Нужно было определить, кто и куда имеет право ехать, и найти достаточное количество поездов, чтобы доставить их туда. К 18 июня 1945 года из 1,2 миллиона французских граждан, находившихся в Германии во время капитуляции месяцем ранее, вернулись во Францию все, кроме 40 550. Итальянцам пришлось ждать дольше как гражданам бывшего вражеского государства – а также потому, что у итальянского правительства не было скоординированного плана репатриации своих граждан. Но и они все вернулись домой к 1947 году. Однако на востоке возникло два существенных осложнения. Некоторые перемещенные лица из Восточной Европы технически не имели гражданства и страны, в которую могли бы вернуться. И многим из них не хотелось возвращаться на родину. Это поначалу озадачило западных администраторов. По соглашению, подписанному в немецком Галле в мае 1945 года, все бывшие военнопленные и другие граждане Советского Союза должны были вернуться домой, и предполагалось, что они захотят это сделать. За одним исключением: западные союзники не признали вхождение прибалтийских государств в состав СССР во время войны, и поэтому у эстонцев, латышей и литовцев в лагерях для перемещенных лиц в западных зонах Германии и Австрии была возможность выбрать: вернуться на Восток или найти новый дом на Западе.
Но не только прибалты не хотели возвращаться. Большое количество бывших советских, польских, румынских и югославских граждан также предпочли временные лагеря в Германии возвращению в свои страны. В случае советских граждан это нежелание часто возникало из-за вполне обоснованного страха перед репрессиями против любого, кто провел время на Западе, даже в лагере для военнопленных. Прибалты, украинцы, хорваты и другие не хотели возвращаться в страны, находящиеся под фактическим, если не официальным, коммунистическим контролем, поскольку во многих случаях они боялись возмездия за реальные или предполагаемые военные преступления. Но ими также двигало простое желание бежать на Запад за лучшей жизнью.
На протяжении 1945 и 1946 годов западные власти предпочитали в целом игнорировать подобные чувства и обязывали советских и других восточноевропейских граждан вернуться домой, иногда силой. Пока советские чиновники активно вылавливали своих граждан из немецких лагерей, беженцы с Востока отчаянно пытались убедить ошеломленных французских, американских или британских официальных лиц в том, что они не хотят возвращаться «домой» и предпочли бы остаться в Германии. Им это не всегда удавалось. В период с 1945 по 1947 год западные союзники вернули 2 272 000 советских граждан.
Разворачивались ужасные сцены отчаянной борьбы, особенно в первые послевоенные месяцы, когда британские или американские войска сгоняли русских эмигрантов, которые никогда не были советскими гражданами, украинских партизан[49] и многих других и выталкивали их, иногда буквально, через границу в объятия ожидавшего НКВД[50]. Попав в руки советской власти, они присоединились к сотням тысяч других репатриированных советских граждан, а также венграм, немцам и остальным бывшим врагам, депортированным на восток Красной армией. К 1953 году было репатриировано 5,5 миллиона советских граждан. Каждый пятый из них был расстрелян или отправлен в исправительно-трудовые лагеря[51]. Многих ссылали в Сибирь или зачисляли в трудовые батальоны.
Только в 1947 году принудительная репатриация прекратилась. С началом холодной войны к перемещенным лицам из советского блока начали относиться как к политическим беженцам. 50 000 чешских граждан, находившихся в Германии и Австрии во время коммунистического переворота в Праге в феврале 1948 года, сразу же получили этот статус. Всего, таким образом, 1,5 миллиона поляков, венгров, болгар, румын, югославов, советских граждан и евреев успешно избежали репатриации. Вместе с прибалтами они составили подавляющее большинство перемещенных лиц, оставшихся в западных зонах Германии и Австрии, а также в Италии. В 1951 году Европейская конвенция о правах человека систематизировала защиту, на которую имели право такие перемещенные иностранцы, и, наконец, дала им гарантии от насильственного возвращения.
Однако оставался вопрос: что с ними делать? Беженцы и сами перемещенные лица знали точный ответ. По словам Жене (Джанет Фланнер) в журнале «Нью-Йоркер» в октябре 1948 года, «[перемещенные лица] Готовы идти куда угодно, кроме как домой». Но кто их примет? Западноевропейские государства, переживавшие нехватку рабочей силы и разгар экономического и материального восстановления, изначально не были против ввоза определенных категорий лиц без гражданства. Бельгия, Франция и Британия особенно нуждались в шахтерах, строителях и сельскохозяйственных рабочих. В 1946–1947 годах Бельгия приняла 22 000 перемещенных лиц (вместе с их семьями) для работы на шахтах Валлонии. Франция приняла 38 000 человек для различных видов физического труда. Великобритания забрала 86 000 человек, в том числе многих ветеранов польской армии и украинцев, воевавших в дивизии Ваффен-СС «Галичина»[52].
Критерии приема были просты: западноевропейские государства нуждались в крепких рабочих (мужского пола) и не стеснялись отдавать предпочтение прибалтам, полякам и украинцам на этих основаниях, независимо от их послужного списка военного времени. Одинокие женщины приветствовались в качестве работников физического труда или домашней прислуги, но министерство труда Канады в 1948 году отклоняло заявки девушек и женщин на эмиграцию в Канаду для работы в качестве домашней прислуги, если были какие-либо признаки того, что они имеют образование выше среднего. И никому не нужны были пожилые люди, сироты или матери-одиночки. Беженцев вообще тогда не встречали с распростертыми объятиями: послевоенные опросы в США и Западной Европе демонстрировали очень мало сочувствия их бедственному положению. Большинство людей выражало желание, чтобы иммиграция сократилась, а не увеличилась.
Иной была проблема евреев. Сначала западные власти относились к еврейским перемещенным лицам как ко всем остальным и загоняли их в лагеря в Германии вместе с бывшими преследователями. Но в августе 1945 года президент Трумэн объявил, что в американской зоне Германии должны быть предоставлены отдельные помещения для всех еврейских перемещенных лиц: согласно докладу по результатам проверки, инициированной президентом, существовавшие ранее объединенные лагеря и центры были «явно нереалистичным подходом к проблеме. Отказ считаться с евреями свидетельствует о том, что мы… закрываем глаза на их прежнее, более варварское преследование». В конце сентября 1945 года всеми евреями в американской зоне занимались уже отдельно.
Не было и речи о возвращении евреев на восток. Никто в Советском Союзе, Польше или где-либо еще не проявлял ни малейшего интереса к их возвращению[53]. Евреям также не сильно радовались на Западе, особенно если они были образованными или квалифицированными в сфере умственного труда. Так они и остались, по иронии судьбы, в Германии. Проблема «размещения» евреев Европы была решена только созданием государства Израиль: между 1948 и 1951 годами 332 000 европейских евреев уехали в Израиль либо из центров МОБ в Германии, либо прямо из Румынии, Польши и других стран, если они там еще оставались. Еще 165 000 со временем переехали во Францию, Великобританию, Австралию и Северную или Южную Америку. Там к ним присоединились оставшиеся перемещенные лица и беженцы времен Второй мировой войны, к которым следует добавить новое поколение политических беженцев из стран Центральной и Восточной Европы в 1947–1949 годы. В целом США приняли в это время 400 000 человек, еще 185 000 прибыли между 1953–1957 годами. Канада приняла в общей сложности 157 000 беженцев и перемещенных лиц, Австралия приняла 182 000 (среди них 60 000 поляков и 36 000 прибалтов).
Необходимо подчеркнуть масштаб этого достижения. Некоторые люди, особенно определенные категории этнических немцев из Югославии и Румынии, остались в подвешенном состоянии, потому что Потсдамское соглашение на них не распространялось. Но за полтора десятка лет, работая на израненном, озлобленном и обедневшем после шестилетней страшной войны континенте и уже предчувствуя разногласия холодной войны, военные администрации союзников и гражданские агентства ООН преуспели в репатриации, интеграции или переселении беспрецедентного числа, многих миллионов отчаявшихся людей со всего континента, представителей десятков разных народов и общин. К концу 1951 года, когда UNRRA и МОБ были заменены новой Верховной комиссией ООН по делам беженцев, всего 177 000 человек остались в лагерях для перемещенных лиц в Европе: в основном пожилые и немощные, потому что они никому не были нужны. Последний лагерь для перемещенных лиц в Германии, Ференвальд в Баварии, был закрыт в 1957 году.
Перемещенные лица и беженцы Европы пережили не только всеобщую войну, но и целую череду локальных, гражданских войн. Действительно, с 1934 по 1949 год в Европе произошло беспрецедентное число кровопролитных гражданских столкновений в границах существующих стран. Во многих случаях последующая иностранная оккупация немцами, итальянцами или русскими служила, прежде всего, облегчению и узакониванию реализации довоенных политических проектов и противоречий новыми, насильственными средствами. Оккупанты, конечно, не были нейтральными. Обычно они объединяли силы с фракциями внутри оккупированной страны для борьбы с общим врагом. Таким образом, политическая тенденция или этническое меньшинство, которые находились в невыгодном положении в мирное время, могли использовать изменившиеся обстоятельства для сведения счетов. Особенно немцы были рады мобилизовать и использовать такие настроения не только для разделения обществ и, таким образом, легкого покорения стран, но и для уменьшения хлопот и затрат на администрирование и охрану завоеванных территорий. В этом они могли положиться на местных коллаборационистов.
С 1945 года термин «коллаборационисты» приобрел характерный уничижительный моральный оттенок. Но разделения и союзы военного времени часто имели на местах более сложный и неоднозначный смысл, чем подразумевает простое послевоенное разграничение на «коллаборационистов» и «Сопротивление». Так, в оккупированной Бельгии некоторые носители фламандского языка, повторяя ошибку времен Первой мировой войны, соблазнились обещанием автономии и шансом избавиться от франкоговорящей элиты и поддержали немецкое правление. Здесь, как и везде, нацисты охотно разыгрывали общинную карту, пока это было удобно. Поэтому бельгийские военнопленные-фламандцы были освобождены в 1940 году, когда боевые действия прекратились, а франкоговорящие валлоны оставались в лагерях на протяжении всей войны.
Во Франции и Бельгии, а также в Норвегии сопротивление немцам было реальным, особенно в последние два года оккупации, когда усилия нацистов по принуждению молодых людей к работе в Германии заставили многих из них выбрать maquis (леса) как меньший риск. Но лишь в самом конце оккупации количество активных участников Сопротивления превысило число тех, кто сотрудничал с нацистами из-за взглядов, продажности или личных интересов. Во Франции было подсчитано, что вероятное число полноценно участвовавших мужчин и женщин было примерно одинаковым с обеих сторон, максимум от 160 000 до 170 000 человек. И главными врагами друг для друга оказывались чаще всего они сами, а немцы в основном отсутствовали.
В Италии обстоятельства были сложнее. Фашисты оставались у власти 20 лет, прежде чем Муссолини свергли в результате дворцового переворота в июле 1943 года. Возможно, по этой причине местное сопротивление режиму было незначительным. Наиболее активные антифашисты находились в эмиграции. После сентября 1943 года, когда страна официально стала «совместно воюющей» на стороне союзников[54], оккупированный немцами север страны разрывался между марионеточным режимом («республикой Сало» Муссолини) и небольшим, но мужественным партизанским Сопротивлением, сотрудничавшим и иногда поддерживаемым наступающими союзными армиями.
Но и здесь то, что преподносилось обоими лагерями как рассказ о здравомыслящих итальянцах, втянутых в конфликт с маргинальной бандой кровожадных террористов в союзе с иностранной державой, фактически в 1943–1945 годах приняло форму настоящей гражданской войны, в которой с обеих сторон участвовало множество итальянцев. Фашисты Сало по факту были ничем не примечательными пособниками жестокого оккупанта. Но внутренняя поддержка, на которую они могли рассчитывать в то время, была весомой и уж точно не меньше, чем у их самых агрессивных противников, партизан, возглавляемых коммунистами. Антифашистское Сопротивление в реальности стало одной из сторон в борьбе между итальянцами, чья память оказалась весьма короткой в послевоенные десятилетия.
В Восточной Европе дела обстояли еще сложнее. Словаки и хорваты извлекли преимущество из немецкого присутствия для создания условно независимых государств в соответствии с заветными мечтами довоенных сепаратистских партий. В Польше немцы не искали коллаборационистов; но севернее, в Прибалтике и даже Финляндии, вермахт изначально приветствовался как альтернатива поглощению Советским Союзом. Украинцы особенно активно старались извлечь выгоду из немецкой оккупации после 1941 года, желая обеспечить себе долгожданную независимость, и земли Восточной Галиции и Западной Украины стали местом кровавого гражданского конфликта между украинскими и польскими партизанами в контексте как антифашистской, так и антисоветской партизанской войны. В этих обстоятельствах тонкие различия между идеологической войной, междоусобным конфликтом и борьбой за политическую независимость потеряли значение: не в последнюю очередь для местного населения, в каждом случае являвшегося основной жертвой.
Поляки и украинцы воевали на стороне (или против) вермахта, Красной армии и друг друга в зависимости от времени и места. В Польше этот конфликт, после 1944 года превратившийся в партизанскую войну против коммунистического государства, унес жизни около 30 000 поляков в 1945–1948 годах. На поглощенной СССР Западной Украине последний командир партизан Роман Шухевич погиб под Львовом в 1950 году, хотя нерегулярная антисоветская активность сохранялась еще несколько лет на Украине и в Эстонии.
Однако именно на Балканах Вторая мировая война воспринималась прежде всего как гражданская война, причем очень кровавая. В Югославии значение обычных ярлыков (коллаборационист, партизан) было особенно непрозрачным. Кем был Дража Михайлович, сербский лидер партизан-четников[55]? Патриотом? Партизаном? Коллаборационистом? Что побуждало людей сражаться? Сопротивление (немецким, итальянским) оккупантам? Месть внутриполитическим врагам из межвоенного югославского государства? Междоусобные конфликты между сербами, хорватами и мусульманами? Про- или антикоммунистические цели? У многих людей имелось больше одного мотива.
Таким образом, режим усташей[56] Анте Павелича в хорватском марионеточном государстве убивал сербов (более 200 000 человек) и мусульман. Но партизаны-роялисты Михайловича (в основном сербы) также убивали мусульман. По этой одной причине мусульмане Боснии иногда сотрудничали с немецкими армиями для собственной защиты. Коммунистические партизаны Тито, несмотря на их стратегическую цель избавить Югославию от немецких и итальянских войск, посвятили время и ресурсы тому, чтобы сначала уничтожить четников, не в последнюю очередь потому, что это было им по силам. Десятилетие спустя, уже разочаровавшись в итогах боев между партизанами и четниками, в которых он сам сыграл героическую роль, Милован Джилас описывал свидетельства реального опыта войны и Сопротивления в оккупированной Югославии: «Часами обе армии карабкались по скалистым ущельям, чтобы избежать уничтожения или разгромить небольшую группу соотечественников, часто соседей, на каком-нибудь выступающем пике высотой шесть тысяч футов, на голодной, истекающей кровью оккупированной земле. Я поймал себя на мысли: вот что вышло из всех наших теорий и образов борьбы рабочих и крестьян против буржуазии».
Южнее Греция, как и Югославия, переживала Вторую мировую войну как череду вторжений, оккупации, Сопротивления, репрессий и гражданской войны, кульминацией которых стали пять недель столкновений в Афинах между коммунистами и поддерживающими роялистов британскими войсками в декабре 1944 года, после чего в феврале 1945 года было заключено перемирие. Однако боевые действия возобновились в 1946 году и продолжались еще три года, закончившись бегством коммунистов из их опорных пунктов на горном севере. Хотя нет сомнений, что греческое Сопротивление итальянцам и немцам было более эффективным, чем более известные движения Сопротивления во Франции или Италии (только в 1943–1944 годах греческие партизаны убили или ранили более 6000 немецких солдат), вред, нанесенный самим грекам, был еще больше. Партизаны КПГ (коммунисты) и правительство короля, базирующееся в Афинах и поддерживаемое Западом, терроризировали деревни, разрушали коммуникации и разделили страну на десятилетия вперед. К моменту окончания боевых действий, в сентябре 1949 года, 10 % населения осталось без крова. Гражданская война в Греции не имела этнических проблем, характерных для войны в Югославии и на Украине[57], но человеческих потерь она принесла все же больше.
Послевоенное влияние этих гражданских войн в Европе было огромным. В простом понимании они означали, что война в Европе не закончилась в 1945 году, с уходом немцев. Одна из травмирующих черт гражданской войны заключается в том, что даже побежденный враг никуда не исчезает, как не исчезает и память о конфликте. Но междоусобицы этих лет сделали кое-что еще: ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■[58], они подточили основы европейского государства. После них ничто уже не могло оставаться прежним. В прямом смысле понятия, которым часто злоупотребляют, они преобразовали Вторую мировую войну, гитлеровскую войну, в социальную революцию.
Начнем с того, что последовательная оккупация территории иностранными державами неизбежно подрывала авторитет и легитимность местных правителей. Автономный лишь на словах, режим Виши во Франции, как и словацкое государство Йозефа Тисо[59] или режим усташей Павелича в Загребе, был зависимым агентом Гитлера, и большинство людей знали это. На муниципальном уровне коллаборационистские местные власти в Голландии или Богемии сохраняли определенную свободу, но только если это не шло вразрез с желаниями немецких хозяев. Дальше на востоке нацисты, ■ ■■■■■ ■ ■■■■■■[60] заменяли ранее существовавшие институты собственными людьми и техникой, за исключением тех случаев, когда им было удобно какое-то время использовать местные разногласия и амбиции в своих интересах. По иронии судьбы, только в тех странах, которые были союзниками нацистов (Финляндии, Болгарии, Румынии и Венгрии) и поэтому имели собственное правительство, определенная степень реальной местной независимости сохранялась, по крайней мере, до 1944 года.
■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■: ■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■[61]. Некоторые страны (Польшу, Прибалтику, Грецию, Югославию) оккупировали трижды за пять лет. При каждом последующем вторжении предыдущий режим уничтожался, его власть рушилась, его элита уменьшалась. В результате дискредитации старой иерархии и компрометации ее представителей частично получался чистый холст. В Греции, например, довоенный диктатор Метаксас сместил старый парламентский класс. Немцы убрали Метаксаса. Потом вытеснили и немцев, а те, кто сотрудничал с ними, оказались уязвимыми и опозоренными.
Ликвидация старых социальных и экономических элит стала, пожалуй, самым драматичным изменением. Истребление нацистами европейских евреев было разрушительным не только само по себе. Оно имело значительные социальные последствия для многих городов Центральной Европы, где евреи составляли местный класс профессионалов: врачи, юристы, бизнесмены, преподаватели. Позже, часто в тех же самых городах, исчезла и другая важная часть местной буржуазии – немцы, как мы уже отмечали. Произошла радикальная трансформация социального ландшафта, и у поляков, прибалтов, украинцев, словаков, венгров и других появилась возможность занять рабочие места (и дома) уехавших.
Этот процесс выравнивания, во время которого коренное население Центральной и Восточной Европы заняло место изгнанных меньшинств, оказал наиболее долговременное влияние на европейскую социальную историю. Немцы собирались уничтожить евреев и образованную интеллигенцию в Польше и на западе Советского Союза, ввергнуть остаток славян в новое крепостничество и передать землю и власть в руки переселившихся немцев. ■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■[62].
Одна из причин заключалась в том, что в годы немецкой оккупации развилась не просто быстрая и ускоренная кровопролитием вертикальная социальная мобильность, но и произошел полный крах закона и обычаев жизни в правовом государстве. Ошибочно думать о континентальной Европе времен немецкой оккупации как об оазисе умиротворения и порядка под присмотром всеведущей и вездесущей силы. Даже в Польше, наиболее тщательно контролируемой и подвергшейся наиболее жестоким репрессиям по сравнению с другими оккупированными территориями, общество продолжало функционировать вопреки новым правителям: поляки создали параллельный подпольный мир газет, школ, культурных мероприятий, социальных служб, экономического обмена и даже армии. Все это было запрещено немцами и существовало вне закона и с большим личным риском.
Но именно в этом и была вся суть. Нормально жить в оккупированной Европе означало нарушать закон: в первую очередь законы немецких оккупантов (комендантский час, правила передвижения, расовые законы и т. д.), но также и привычные законы и нормы. Большинство обычных людей, не имевших доступа к сельскохозяйственной продукции, были вынуждены, например, прибегать к черному рынку или нелегальному бартеру только для того, чтобы прокормить свои семьи. Кражи у государства, у сограждан или из разгромленного еврейского магазина были настолько широко распространены, что в глазах многих перестали считаться правонарушением. Напротив, когда жандармы, полицейские и местные мэры представляли и обслуживали оккупантов, а сами оккупационные силы занимались организованным беззаконием за счет части гражданского населения, обычные уголовные преступления превратились в акты сопротивления (хотя зачастую только в позднейших воспоминаниях).
Прежде всего, жестокость стала частью повседневной жизни. Высшая власть современного государства всегда опиралась в крайнем случае на монополию на насилие и готовность применить силу в случае необходимости. Но в оккупированной Европе власть заключалась в силе, применяемой без стеснения. Как ни странно, именно в этих обстоятельствах государство утратило монополию на насилие. Партизанские отряды и армии соперничали за легитимность, определяемую способностью утвердиться на определенной территории. Это было наиболее очевидно в отдаленных районах Греции, Черногории и у восточных границ Польши, где власть современного государства никогда не была очень твердой. Но к концу Второй мировой войны это стало применимо и для некоторых частей Франции и Италии.
Насилие породило цинизм. Оккупационные силы, ■■■ ■■■■■■■, ■■■ ■ ■■■■■■[63], подогревали войну всех против всех. Они не поощряли не только верность усопшей власти предыдущего режима или государства, но и любое чувство общности или связь между отдельными людьми, и в целом они преуспели. Если правящая власть поступила жестоко и беззаконно по отношению к вашему соседу за то, что он был евреем, членом образованной элиты, представителем этнического меньшинства, или попал в немилость к режиму, или вообще без всякой видимой причины, тогда почему вы должны проявлять больше уважения к нему? Действительно, часто было благоразумно идти дальше и заранее заручиться расположением властей, доставив ближнему неприятности.
По всей оккупированной немцами (и даже не оккупированной) Европе до самого конца войны интенсивность анонимных доносов, личных обвинений и простых слухов была поразительно высока. В период с 1940 по 1944 год поступило огромное количество доносов в СС, гестапо и местную полицию в Венгрии, Норвегии, Нидерландах и Франции. Многие были сделаны даже не ради вознаграждения или материальной выгоды. В советской сфере, особенно в бывшей Восточной Польше в 1939–1941 годы, также процветало поощрение информаторов в якобинском стиле и (французская) революционная привычка ставить под сомнение лояльность других.
Короче говоря, у всех были веские причины бояться друг друга. С подозрением относясь к мотивам остальных, люди спешили осудить их за какое-нибудь предполагаемое нарушение или незаконное преимущество. Не было никакой защиты сверху. Напротив, те, кто находился у власти, часто творили наибольшее беззаконие. Для большинства европейцев в 1939–1945 годах уже не существовало прав, гражданских, юридических, политических. Государство прекратило быть хранителем закона и справедливости. Наоборот, при гитлеровском «новом порядке» правительство само стало главным хищником. Отношение нацистов к жизни и здоровью людей печально известно. Но их отношение к собственности, возможно, оказалось их основным практическим наследием для облика послевоенного мира.
Во время немецкой оккупации право собственности было в лучшем случае условным. Евреев Европы просто лишили денег, товаров, домов, магазинов и бизнеса. Их имущество разделили между нацистами, коллаборационистами и их друзьями, а ненужное оставили для мародерства и кражи местному населению. Но секвестрация[64] и конфискация вышли далеко за рамки еврейской собственности. «Право» владения оказалось хрупким, часто бессмысленным, опирающимся исключительно на добрую волю, интересы или прихоти тех, кто находился у власти.
В этой серии радикальных принудительных имущественных сделок были как победители, так и проигравшие. Когда евреи и другие этнические жертвы исчезли, их магазины и квартиры могли занять местные жители, а их инструменты, мебель и одежду присваивали или крали новые владельцы. Этот процесс зашел дальше всего в «зоне уничтожения» от Одессы до Балтики, но в той или иной мере шел везде. Поэтому узники концлагерей по возвращении в Париж или Прагу в 1945 году часто обнаруживали, что их дома заняли «сквоттеры» военного времени, которые агрессивно заявляли о своих правах и отказывались уезжать. Таким образом, сотни тысяч простых венгров, поляков, чехов, голландцев, французов и представителей других национальностей стали соучастниками нацистского геноцида, хотя бы в качестве его бенефициаров.
В каждой оккупированной стране фабрики, транспортные средства, земля, машины и готовая продукция были экспроприированы в пользу новых правителей. Так происходила массовая де-факто национализация. Особенно в Центральной и Восточной Европе крупные частные владения и ряд финансовых учреждений были захвачены нацистами для своей военной экономики. Это не всегда оказывалось серьезным разрывом с прошлым. Катастрофический поворот к самодостаточной экономической модели в регионе после 1931 года повлек за собой высокий уровень государственного вмешательства и манипуляций, а в Польше, Венгрии и Румынии государственный сектор экономики значительно расширился в предвоенные и первые военные годы в качестве превентивной защиты от германского экономического проникновения. Государственное управление экономикой в Восточной Европе началось не в 1945 году.
Послевоенное выдворение немецкого населения из Польши в Югославию завершило радикальную трансформацию, начавшуюся с изгнания евреев немцами. Многие этнические немцы в Судетах, Силезии, Трансильвании и Северной Югославии владели обширными землями. Когда государство забрало их для перераспределения, эффект был мгновенным. В Чехословакии товары и имущество, отнятые у немцев и их пособников, составили до четверти национального богатства, в то время как одно только перераспределение сельскохозяйственных угодий принесло непосредственную пользу более чем 300 000 крестьян, сельскохозяйственным рабочим и членам их семей. Изменения такого масштаба можно назвать революционными. Как и сама война, они представляли собой радикальный рубеж, явный разрыв с прошлым и подготовку к еще большим изменениям в будущем.
В освобожденной Западной Европе нашлось мало принадлежащей немцам собственности, которую можно было бы перераспределить, и война не воспринималась как катаклизм, как это было на востоке. Но и там легитимность официальных властей оказалась под вопросом. Местные администрации во Франции, Норвегии и странах Бенилюкса не увенчали себя славой. Наоборот, они в целом с готовностью выполняли приказы оккупантов. В 1941 году немцы смогли управлять Норвегией силами лишь 806 чиновников. Число нацистских администраторов, управлявших Францией и проживавших в ней, составляло всего 1500 человек. Они были настолько уверены в надежности французской полиции и вооруженных формирований, что отрядили (в дополнение к административному персоналу) всего 6000 немецких гражданских и военных полицейских для обеспечения покорности нации численностью в 35 миллионов. То же самое происходило в Нидерландах. В послевоенных показаниях глава германской службы безопасности в Амстердаме утверждал, что «главную поддержку немецких войск в полицейском секторе и за его пределами оказывала голландская полиция. Без нее не было бы выполнено и 10 % немецких оккупационных задач». Сравните с Югославией, которая требовала неослабевающего внимания целых дивизий немцев только для сдерживания вооруженных партизан[65].
В этом заключалось одно из различий между Западной и Восточной Европой. Другим отличием стало отношение нацистов к оккупированным странам. Норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы, французы, а после сентября 1943 года и итальянцы подвергались унижениям и эксплуатации. Но если они не были евреями, коммунистами или участниками Сопротивления того или иного рода, их оставляли в покое. В результате освобожденные народы Западной Европы могли представить себе возвращение к чему-то, похожему на прошлое. Даже парламентские демократии межвоенных лет теперь выглядели чуть менее убогими благодаря нацистской интерлюдии. Гитлер успешно дискредитировал по крайней мере одну радикальную альтернативу политическому плюрализму и правопорядку. Истощенное население Западной Европы стремилось, прежде всего, восстановить атрибуты нормальной жизни в надлежащем образом устроенном государстве.
Положение в только что освободившихся государствах Западной Европы тогда было довольно плачевным. Но в Центральной Европе, по словам Джона Дж. МакКлоя, верховного комиссара американской зоны оккупации Германии, произошел «полный экономический, социальный и политический коллапс… масштабы которого не имеют равных в истории после крушения Римской империи». МакКлой имел в виду Германию, где союзным военным администрациям приходилось строить все с нуля: закон, порядок, службы, связь, управление. Но, по крайней мере, у них были ресурсы для этого. Дальше на восток дела обстояли еще хуже.
■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■[66]. История Центральной Европы, земель Германии и империи Габсбургов, северных частей старой Османской империи и даже самых западных территорий русских царей всегда существенно отличалась от истории национальных государств Запада. Но суть не обязательно была иной. До 1939 года венгры, румыны, чехи, поляки, хорваты и прибалты, возможно, смотрели с завистью на более удачливых жителей Франции или Нидерландов. Но они не видели причин не ждать такого же благополучия и стабильности. Румыны мечтали о Париже. Чешская экономика в 1937 году превзошла австрийского соседа и конкурировала с Бельгией.
Война изменила все. К востоку от Эльбы Советы и их местные представители унаследовали субконтинент, где уже произошел радикальный разрыв с прошлым. То, что не было полностью дискредитировано, оказалось безвозвратно разрушено. Изгнанные правительства из Осло, Брюсселя или Гааги могли вернуться из Лондона и надеяться восстановить законную власть, от которой они были вынуждены отказаться в 1940 году. Но старые правители Бухареста и Софии, Варшавы, Будапешта и даже Праги не имели будущего. Их мир был сметен трансформирующим насилием нацистов. Оставалось только определить политическую форму нового порядка, который пришел на смену безвозвратно утерянному прошлому.
II. Возмездие
«Война воспитала в бельгийцах, французах и голландцах веру в то, что их патриотический долг – лгать, управлять черным рынком, дискредитировать и обманывать. Эти привычки укоренились за пять лет».
Поль-Анри Спаак (министр иностранных дел Бельгии)
«Месть бессмысленна, но некоторым мужчинам не было места в мире, который мы стремились построить».
Симона де Бовуар
«Пусть будет вынесен и приведен в исполнение суровый и справедливый приговор, как того требует честь нации и заслуживает ее величайший предатель».
Резолюция чехословацких организаций Сопротивления с требованием сурового наказания для Йозефа Тисо, ноябрь 1946 г.
Чтобы правительства освобожденной Европы были легитимными и могли претендовать на власть в нормально устроенных государствах, им следовало сначала разобраться с наследием дискредитировавших себя режимов военного времени. Нацисты и их союзники потерпели поражение, но из-за масштабов их преступлений этого было явно недостаточно. Если законность послевоенных правительств основывалась лишь на их военной победе над фашизмом, то чем они лучше фашистских режимов? Важным стало определить деятельность последних как преступление и наказать их соответственно. За этим намерением стояли веские правовые и политические причины. Но желание возмездия затрагивало и более глубокую потребность. Для большинства европейцев Вторая мировая война ощущалась не как война маневров и сражений, а как повседневная деградация, в ходе которой мужчин и женщин предавали и унижали, принуждали к повседневным мелким преступлениям и самоуничижению, где каждый что-то терял, а многие лишились всего.
Более того, в отличие от все еще повсеместно живой памяти о событиях Первой мировой войны, последствия завершившегося кровопролития в 1945 году вызывали не гордость, а лишь чувства стыда и немалой вины. Как уже сказано выше, большинство европейцев пережили войну пассивно: сначала побежденные и оккупированные одной группой иностранцев и затем освобожденные другой. Единственным источником коллективной национальной гордости были вооруженные партизанские движения Сопротивления, которые боролись с захватчиками. Поэтому именно в Западной Европе, где реальное Сопротивление не особо проявлялось, миф о нем имел наибольшее значение. В Греции, Югославии, Польше или на Украине, где отряды партизан открыто боролись с фашистами и друг с другом, все, как правило, было сложнее.
В освобожденной Польше, например, советские власти не приветствовали публичное восхваление вооруженных партизан, чьи настроения были как минимум в такой же степени антикоммунистическими, как и антинацистскими. В послевоенной Югославии, как мы уже видели, одни участники Сопротивления были лучше других – по крайней мере, в глазах маршала Тито и его победоносных борцов-коммунистов. В Греции, ■■■ ■ ■■ ■■■■■■■[67], местные власти в 1945 году разыскивали, сажали в тюрьмы или расстреливали всех вооруженных партизан, которых могли найти.
Короче говоря, Сопротивление было изменчивым и неясным явлением, местами выдуманным. Но «коллаборационизм» – другое дело. Коллаборационистов можно было повсеместно искать и проклинать. Это были мужчины и женщины, которые работали на оккупантов или спали с ними, связывали свою судьбу с нацистами или фашистами, под прикрытием войны охотно преследовали политические или экономические выгоды. Иногда они были религиозным, национальным или языковым меньшинством и уже за это их презирали или боялись. И хотя «коллаборационизм» ранее не существовал как правонарушение в юридическом смысле с установленными наказаниями, коллаборационистов можно было убедительно обвинить в государственной измене, настоящем преступлении, влекущем за собой достаточно суровую кару.
Преследование коллаборационистов (настоящих и воображаемых) началось еще до окончания войны. На самом деле, оно происходило на протяжении всей войны, на индивидуальной основе или по указанию подпольных организаций Сопротивления. Но в промежутке между отступлением немецких армий и установлением эффективного контроля со стороны союзных правительств народное разочарование и личная месть, часто окрашенные политическим оппортунизмом и экономической выгодой, привели к кратковременной, но кровавой череде разборок. Во Франции около 10 000 человек были убиты в ходе «внесудебных расправ», многие – от рук независимых групп вооруженного Сопротивления, в частности группы Milices Patriotiques[68], которая устраивала облавы на подозреваемых в коллаборационизме, захватывала их имущество и нередко расстреливала.
Около трети таких расправ произошло до высадки в Нормандии 6 июня 1944 года, большинство остальных – в последующие четыре месяца боев на французской земле. Но цифры – скорее низкие, учитывая уровень взаимной ненависти и подозрительности во Франции после четырех лет оккупации и режима маршала Петена в Виши. Никого не удивляли акции возмездия. По словам пожилого бывшего французского премьер-министра Эдуара Эррио, «Франция должна сначала пройти через кровавую баню, прежде чем республиканцы снова смогут взять бразды правления в свои руки».
Те же настроения владели тогда Италией, где репрессии и неофициальное возмездие, особенно в регионах Эмилия-Романья и Ломбардия, привели к гибели приблизительно 15 000 человек за последние месяцы войны и случались эпизодически еще как минимум три года. В других странах Западной Европы масштаб кровопролития был гораздо меньше: в Бельгии линчевали или казнили около 265 мужчин и женщин, в Нидерландах менее 100 человек. Однако были широко распространены другие формы возмездия. Обвинения женщин в том, что франкоязычные циники окрестили «горизонтальным коллаборационизмом», были очень распространены: в Нидерландах таких женщин обливали смолой и обваливали в перьях, во Франции нередко наблюдались сцены обнажения и обривания налысо женщин на площадях. Как правило, подобное массово происходило в день освобождения территорий от оккупантов или вскоре после этого.
Частота обвинений женщин, в основном другими женщинами, в связях с немцами показательна. Многие нападки имели под собой реальные основания: предложение сексуальных услуг в обмен на еду, одежду или разную помощь было одним из вариантов выживания, часто единственным, для женщин и семей в отчаянном положении. Но популярность такого обвинения и мстительное удовольствие, получаемое от наказания, служит напоминанием о том, что как мужчинами, так и женщинами оккупация переживалась прежде всего как унижение. Жан-Поль Сартр позже описывал коллаборационизм в чисто сексуальных терминах как «подчинение» власти оккупанта. Во многих французских романах 1940-х годов коллаборационисты изображены как женщины или слабые («женственные») мужчины, соблазненные мужским очарованием своих тевтонских правителей. Месть падшим женщинам была одним из способов избавиться от неприятных воспоминаний о личном и коллективном бессилии.
Анархические акты карательного насилия в освобожденной Восточной Европе также были широко распространены, но принимали другие формы. На Западе немцы активно искали коллаборационистов, а на оккупированных славянских землях правили напрямую с помощью силы. Единственными коллаборационистами, которых они постоянно поощряли, были местные сепаратисты, до тех пор пока те служили немецким целям. После отступления немцев первыми жертвами стихийного возмездия на Востоке стали национальные меньшинства. Советские войска и их местные союзники не препятствовали этому. Напротив, спонтанное сведение счетов (порой не совсем импровизированное) способствовало дальнейшему устранению местных элит и политиков, которые могли оказаться препятствием для послевоенных коммунистических амбиций. В Болгарии, например, недавно созданный Отечественный фронт поддерживал неофициальное преследование коллаборационистов военного времени всех мастей, повсеместно обвиняя их в «сочувствии фашистам» и поощряя доносы на всех, кто подозревался в прозападных настроениях.
В Польше главной целью народной мести часто становились евреи: 150 евреев были убиты в освобожденной Польше в первые четыре месяца 1945 года. К апрелю 1946 года цифра составила почти 1200 человек. Более мелкие нападения происходили в Словакии (в Вельке Топольчаны в сентябре 1945 года) и в Венгрии (в Кунмадараше в мае 1946 года). Самый страшный погром произошел в Польше (в Кельце 4 июля 1946 года), где убили 42 еврея. Поводом к зверству послужили слухи о похищении и ритуальном убийстве местного ребенка. В некотором смысле это тоже было возмездие коллаборационистам, ибо в глазах многих поляков (в том числе бывших антифашистских партизан) евреи подозревались в симпатиях к советским оккупантам.
Точное число людей, убитых в контролируемой Советским Союзом Восточной Европе или в Югославии в первые месяцы «несанкционированных» чисток, неизвестно. Но подобный произвол не продолжался долго ни в одной стране. Ситуация, когда вооруженные банды бродят по местности, хватая, пытая и убивая по своему желанию, не отвечала интересам хрупких новых правительств, признанных не всеми и часто созданных спонтанно. Первой задачей властей было утвердить монополию на силу, законность и институты правосудия. Арестовывать и обвинять кого-то в преступлениях, совершенных во время оккупации, должны были соответствующие инстанции. Все судебные разбирательства должны были вестись в рамках закона. Любое кровопролитие – только по воле государства. Этот переход произошел, как только новые лидеры почувствовали себя достаточно сильными, чтобы разоружить бывших партизан, установить власть собственной полиции и подавить народные требования суровых и коллективных наказаний.
Разоружение участников Сопротивления прошло на удивление бесконфликтно, по крайней мере в Западной и Центральной Европе. На убийства и другие правонарушения, случившиеся в лихорадочные месяцы освобождения, закрывали глаза: временное правительство Бельгии объявило амнистию по всем преступлениям, совершенным силами Сопротивления и от его имени в течение 41 дня после официальной даты освобождения страны. Но все негласно понимали, что вновь созданные государственные институты должны взять на себя задачу наказания виновных.
Здесь и начались проблемы. Кто такие «коллаборационисты»? С кем они сотрудничали и с какой целью? Помимо простых случаев убийства или кражи, в чем провинились «коллаборационисты»? Кто-то должен был заплатить за страдания нации, но как определить эти страдания и на кого возложить ответственность за них? Формат этих головоломок варьировался от страны к стране, но дилемма оставалась общей: европейская история предыдущих шести лет не имела прецедентов.
Во-первых, любой закон, касающийся контактов коллаборационистов с немцами, обязательно приобретал обратную силу – до 1939 года о таком преступлении, как «сотрудничество с оккупантом», никто ничего не знал. Да, в предыдущих войнах оккупационные армии обращались за помощью и получали ее от местных, чью землю они захватили, но такое «сотрудничество» рассматривалось не как склонение к преступлению, а как часть сопутствующего ущерба войны[69].
Как уже отмечалось, преступное пособничество могло подпадать под действующее законодательство, только когда оно приравнивалось к государственной измене. Например, многие коллаборационисты во Франции – какими бы ни были детали их поведения – были привлечены к суду и осуждены по статье 75 Уголовного кодекса 1939 года за «передачу данных противнику». Но мужчины и женщины, представшие перед французскими судами, часто работали не на нацистов, а на режим Виши, возглавляемый и управляемый французами и претендовавший на законное наследие довоенной Франции. Здесь, как и в Словакии, Хорватии, протекторате Богемии, Социальной республике Муссолини в Сало, Румынии маршала Йона Антонеску и в Венгрии военного времени, коллаборационисты могли и действительно заявляли в свою защиту, что они работали только на власти своего государства.
В случае с высокопоставленными полицейскими или государственными служащими, явно виновными в службе интересам нацистов в составе марионеточных режимов, эта защита была лицемерной. Но фигуры меньшего ранга, не говоря о многих тысячах обвиненных в получении работы в этих администрациях или в сотрудничавших с ними структурах и на предприятиях, могли сослаться на искреннее заблуждение. Так правильно ли было обвинять человека, вступившего после мая 1940 года в политическую партию, которая законно существовала в довоенном парламенте, но стала сотрудничать с немцами во время оккупации?
Французское, бельгийское и норвежское правительства в изгнании пытались предвосхитить эти проблемы, издав декреты военного времени, предупреждающие о суровом послевоенном возмездии. Но они предназначались для того, чтобы удержать людей от сотрудничества с нацистами, и не касались более широких вопросов юриспруденции и справедливости. Более того, они не могли заблаговременно решить, какая ответственность важнее: личная или коллективная. Баланс политических выгод в 1944–1945 годах складывался в пользу того, чтобы возложить общую ответственность за военные преступления и преступления коллаборационистов на заранее определенные категории лиц: членов конкретных политических партий, военных организаций и государственных учреждений. Но такая процедура все равно обошла бы многих из тех, кого требовали наказать, зато в эту категорию попали бы люди, главным проступком которых были пассивность или трусость. И – самое главное – это повлекло бы за собой нечто вроде коллективной вины, неприемлемое для большинства европейских юристов.
Вместо этого к суду привлекались отдельные лица, приговоры которых сильно различались в зависимости от времени и места. Многие мужчины и женщины были несправедливо выделены из общего ряда и наказаны. Намного большее число вообще избежали возмездия. Возникали многочисленные процессуальные нарушения и парадоксы, а мотивы правительств, прокуратуры и присяжных не отличались безупречностью: подчас ими управляли личные интересы, политические расчеты или эмоции. Исход получился посредственным. Но когда мы оцениваем уголовные процессы и связанный с ним нравственный катарсис общества, сопровождавший переход Европы от войны к миру, нам нужно постоянно помнить о драматизме недавнего прошлого. Примечательно, что в условиях 1945 года удалось восстановить власть закона – никогда прежде Европа не стремилась определить новый перечень преступлений в таком масштабе и привлечь преступников к чему-то похожему на правосудие.
Количество осужденных и масштабы их наказаний сильно отличались в разных странах. В Норвегии, с населением всего 3 миллиона, предстали перед судом все члены Nasjonal Sammlung («Национального единения»), главной организации пронацистских коллаборационистов, – все 55 000 человек, а также почти 40 000 человек, не имеющих отношения к партии. 17 000 мужчин и женщин получили тюремные сроки, было вынесено тридцать смертных приговоров, из которых двадцать пять привели в исполнение.
В других странах Европы доля осужденных была значительно ниже. В Нидерландах расследовались дела 200 000 человек, из которых почти половину заключили в тюрьму, часть – за нацистское приветствие; 17 500 государственных служащих потеряли работу (это не коснулось сферы образования, бизнеса и свободных профессий); 154 человека приговорили к смертной казни, 40 из них казнены. В соседней Бельгии вынесли намного больше смертных приговоров (2940), но меньшая их доля (всего 242) была приведена в исполнение. Примерно такое же количество коллаборационистов посадили в тюрьму, но если голландцы вскоре амнистировали большинство осужденных, бельгийское государство держало их в заключении дольше, а бывшие коллаборационисты, осужденные за тяжкие преступления, так и не восстановились полностью в гражданских правах. Вопреки послевоенному мифу фламандское население не подвергалось непропорциональной дискриминации. Но, наказывая сторонников «нового порядка» военного времени (по большей части фламандских), довоенная бельгийская элита – католики, социалисты, либералы – восстановила контроль как над Фландрией, так и над Валлонией.
Разница между Норвегией, Бельгией, Нидерландами (и Данией), где законные правительства бежали в изгнание, и Францией, где режим Виши являлся законным в глазах многих, наводит на размышления. В Дании о преступном коллаборационизме практически ничего не знали. Тем не менее 374 из каждых 100 000 датчан были приговорены к тюремному заключению в ходе послевоенных процессов. Во Франции коллаборационизм в военное время распространился широко, и поэтому за него наказывали довольно мягко. Поскольку само государство являлось главным коллаборационистом, казалось жестоким и несправедливым обвинять простых граждан в подобном преступлении, тем более что три четверти судей на процессах над коллаборационистами во Франции сами прежде служили коллаборационистскому режиму. В действительности, 94 человека из каждых 100 000 – меньше 0,1 % населения – попали в тюрьму за преступления военного времени. Из 38 000 заключенных большинство было освобождено по частичной амнистии в 1947 году, а все остальные кроме 1500 человек – по амнистии в 1951 году.
В течение 1944–1951 годов официальные суды во Франции приговорили к смертной казни 6763 человека (3910 заочно) за государственную измену и связанные с ней преступления. Из этих приговоров было приведено в исполнение всего 791. Главное наказание, к которому приговаривали французских коллаборационистов, – «национальное унижение», введенное 26 августа 1944 года, сразу после освобождения Парижа. Оно язвительно описано Джанет Фланнер[70]: «Национальное унижение будет заключаться в лишении почти всего, что французы считают хорошим – например, права носить боевые награды; права быть юристом, нотариусом, школьным учителем, судьей или даже свидетелем; права управлять издательской, радио- или кинокомпанией; и прежде всего – права быть директором в страховой компании или банке».
Это наказание получили 49 723 французских мужчин и женщин. 11 000 гражданских служащих (1,3 % государственных служащих, но гораздо меньше, чем 35 000 потерявших работу при Виши) были уволены или подвергнуты иным санкциям, но большинство из них восстановили в правах в течение шести лет. В целом épuration (чистка), как известно, коснулась около 350 000 человек, жизнь и карьера большинства из которых не сильно пострадала. Никто не был наказан за то, что нам следует сейчас охарактеризовать как преступления против человечности. Ответственность за эти, как и за другие военные преступления, возлагалась только на немцев.
Итальянский опыт оказался особенным по ряду причин. Хотя Италия и являлась бывшей державой «оси», правительства союзников уполномочили ее провести собственные суды и чистки – в конце концов, в сентябре 1943 года она перешла на другую сторону. Но существовала значительная неопределенность в отношении того, что и кого следует преследовать в судебном порядке. В то время как в Европе большинство коллаборационистов по определению были запятнаны «фашизмом», в Италии этот термин охватывал слишком широкую и неоднозначную аудиторию. Управляемая собственными фашистами в 1922–1943 годах, страна была освобождена от правления Муссолини одним из его собственных маршалов, Пьетро Бадольо, чье первое антифашистское правительство состояло в основном из бывших фашистов.
Единственное фашистское преступление, которое однозначно преследовали в Италии, – это сотрудничество с врагом после 8 сентября 1943 года (дата немецкого вторжения). Большинство обвиняемых проживали на оккупированном севере и были связаны с марионеточным правительством, установленным в Сало на озере Гарда[71]. Распространенный в 1944 году и ставший предметом насмешек опросник «Были ли вы фашистом?» (Scheda Personale) фокусировался на разнице между фашистами Сало и остальными фашистами. Санкции в отношении первых основывались на Декрете № 159, принятом Временным законодательным собранием в июле 1944 года. В нем описывались «деяния особой тяжести, которые, хотя и не входили в состав преступления, [были] сочтены противоречащими нормам здравомыслия и политической порядочности».
Этот туманный законодательный акт был разработан, чтобы обойти проблему судебного преследования людей за действия, совершенные во время их службы у признанных национальных властей. Но Верховный суд, созданный в сентябре 1944 года для наиболее важных заключенных, был укомплектован судьями и адвокатами, которые в большинстве являлись бывшими фашистами, как и персонал чрезвычайных судов присяжных, сформированных для наказания мелких сотрудников коллаборационистского режима. В этих обстоятельствах вряд ли можно было ожидать, что процессы смогут завоевать большое уважение среди населения.
Неудивительно, что результаты заседаний никого не удовлетворили. К февралю 1946 года организаторы изучили дела 394 000 государственных служащих, из них уволили всего 1580 человек. Большинство подозреваемых утверждали, что проявляли gattopardismo («леопардизм», или «приспособленчество») и вели тонкую двойную игру перед лицом фашистского давления, ведь каждого государственного служащего обязывали вступать в фашистскую партию. Поскольку многие из тех, кто проводил допрос, могли с таким же успехом оказаться на месте обвиняемых, они определенно сочувствовали этой линии защиты. После нескольких громких судебных процессов над высокопоставленными фашистами и генералами обещанная чистка правительства и администрации прекратилась.
Верховная комиссия, которой поручили руководить чисткой, прекратила работу в марте 1946 года, а через три месяца объявили первые амнистии, включая отмену всех приговоров к тюремному заключению сроком до пяти лет. Практически каждый глава провинции, мэр и бюрократ среднего звена, вычищенный в 1944–1945 годах, получили обратно должность или избежали уплаты наложенных штрафов, и большинство из почти 50 000 итальянцев, заключенных в тюрьму за фашистскую деятельность, провели в ней незначительный срок[72]. В судебном порядке казнили за преступления не более 50 человек, и еще 55 фашистов убили партизаны в тюрьме Скио 17 июля 1945 года[73].
Во время холодной войны Италию часто обвиняли в подозрительно безболезненном превращении из члена «оси» в демократического союзника. Это объясняли иностранным (американским) давлением и политическим влиянием Ватикана. В действительности дело обстояло сложнее. Несомненно, католическая церковь отделалась очень легко, учитывая теплые отношения Пия XII с фашистами и то, что он охотно закрывал глаза на преступления нацистов в Италии и в других местах. Со стороны Церкви давление имело место. И англо-американские военные власти действительно неохотно отстраняли скомпрометированных чиновников, пытаясь восстановить нормальную жизнь на полуострове. Да и в целом чистка от фашистов эффективнее проводилась в регионах, где господствовало левое Сопротивление и его политические представители.
Но именно Пальмиро Тольятти, 51-летний лидер Итальянской коммунистической партии, находясь на посту министра юстиции в послевоенном коалиционном правительстве, разработал проект амнистии июня 1946 года. После двух десятилетий изгнания и многих лет на высоком посту в Коминтерне Тольятти не питал иллюзий относительно того, что возможно и невозможно после Второй мировой войны. Когда он вернулся из Москвы в марте 1944 года, то к смятению и удивлению многих последователей объявил в Салерно (в то время столица освобожденной Италии) о приверженности своей партии национальному единству и парламентской демократии.
В стране, где многие миллионы людей, далеко не все из них с правыми взглядами, были скомпрометированы связью с фашизмом, Тольятти не видел особой пользы в том, чтобы толкать нацию на порог гражданской войны или, вернее, продлевать уже начавшуюся гражданскую войну. Гораздо лучше работать над восстановлением порядка и нормальной жизни, оставить фашистскую эпоху позади и стремиться получить власть через выборы. Более того, Тольятти, являясь высокопоставленной фигурой в мировом коммунистическом движении и глядя дальше итальянских берегов, прекрасно видел, что происходило в Греции, и воспринимал тамошнюю ситуацию как предостережение.
В Греции, хотя и существовал значительный уровень коллаборационизма во время войны среди бюрократической и деловой элиты, послевоенные чистки были направлены не против правых, а против левых. Это уникальный, но показательный случай. Гражданская война в Греции в 1944–1945 годах убедила британцев, что только полное восстановление консервативного режима в Афинах стабилизирует эту маленькую, но стратегически важную страну. Чистка или иные запугивания бизнесменов или политиков, работавших с итальянцами или немцами, могли иметь радикальные последствия в стране, где революционные левые выражали готовность захватить власть.
Так, вскоре угроза стабильности в Эгейском море и на юге Балкан стала исходить не от отступающей немецкой армии, а от хорошо окопавшихся греческих коммунистов и их партизанских союзников, засевших в горах. За сотрудничество с державами «оси» строго наказаны были немногие, но в борьбе против левых широко применялась смертная казнь. Поскольку в Афинах не делали последовательного различия между левыми партизанами, воевавшими против Гитлера, и партизанами-коммунистами, пытавшимися разрушить послевоенное греческое государство (на самом деле чаще всего это были одни и те же люди), именно участников Сопротивления военного времени, а не их врагов-коллаборационистов чаще всего судили и сажали в тюрьму в последующие годы и исключали из гражданской жизни на десятилетия. Даже их дети и внуки были вынуждены расплачиваться: часто им отказывали в работе в раздутом государственном секторе вплоть до 1970-х годов.
Все это указывает на то, что чистки и судебные процессы в Греции носили откровенно политический характер. Но такими же по сути были и более традиционные суды в Западной Европе. Любой судебный процесс, прямо проистекающий из войны или борьбы за власть, был политическим. Настроение на процессах над Пьером Лавалем или Филиппом Петеном во Франции, или над начальником полиции Пьетро Карузо в Италии вряд ли можно было назвать обычным с юридической точки зрения. Сведение счетов, кровопролитие, месть и политический расчет сыграли решающую роль в этих и многих других послевоенных слушаниях и чистках. Это следует учитывать, когда мы обратимся к официальному послевоенному возмездию в Центральной и Восточной Европе.
На территории, находившейся под контролем Красной армии, также проходили суды, исполнялись наказания для коллаборационистов, фашистов и немцев. С точки зрения Сталина и советских оккупационных властей подобные действия были способом очистить местный политический и социальный ландшафт от препятствий для коммунистического правления. То же самое относилось к Югославии Тито. Многих мужчин и женщин обвинили в фашистских преступлениях, поскольку их главным преступлением была принадлежность к неправильной национальной или социальной группе, причастность к неудобным религиозным сообществам или политической партии, или просто излишняя примечательность или популярность в местном сообществе. Чистки, экспроприация земель, высылки, приговоры к тюремному заключению и казни были направлены на искоренение обвиняемых политических противников. Они стали, как мы увидим, важными промежуточными этапами в процессе социальных и политических преобразований. Но все-таки настоящих фашистов и военных преступников тоже преследовали и карали.
Так, в ходе гонения на католическую церковь в Хорватии Тито одновременно преследовал в судебном порядке печально известного кардинала Загреба Алоизия Степинаца, апологета худших преступлений режима усташей в Хорватии, которому повезло провести следующие четырнадцать лет под домашним арестом, прежде чем умереть в своей постели в 1960 году. Дража Михайлович, лидер четников, был осужден и казнен в июле 1946 года. Вслед за ним в течение двух лет после освобождения Югославии были убиты многие десятки тысяч других некоммунистов. Все они стали жертвами политически мотивированной мести; но, учитывая их военные действия в составе четников, усташей, словенских белогвардейцев или вооруженных домобранцев, многие из них получили бы суровые приговоры при любой правовой системе[74].
Югославы казнили и депортировали многих этнических венгров за их роль в резне, устроенной венгерскими военными в Воеводине в январе 1942 года[75], а их землю передали невенгерским сторонникам нового режима. Это был продуманный политический ход, но во многих случаях жертвы, безусловно, были обвинены справедливо.
В Югославии ситуация была особенно запутанной. Дальше на севере, в Венгрии, народные суды послевоенного времени действительно начинали с того, что судили настоящих военных преступников, особенно активистов прогерманских режимов Дёме Стояи и Ференца Салаши 1944 года. Доля фашистов и коллаборационистов, осужденных в Венгрии, относительно численности населения не превышала таковой в послевоенной Бельгии или Нидерландах. Несомненно, они совершили тяжкие преступления, в том числе поддерживая и с энтузиазмом выполняя немецкие планы по задержанию и отправке на смерть сотни тысяч венгерских евреев. Только позже венгерские власти добавили такие категории, как «саботаж» и «заговор», с явной целью затронуть более широкий ряд оппонентов и тех, кто мог сопротивляться коммунистическому захвату власти.
В Чехословакии чрезвычайные народные суды, учрежденные указом президента от 19 мая 1945 года, вынесли 713 смертных приговоров, назначили 741 пожизненное заключение и 19 888 более коротких сроков «предателям, коллаборационистам и фашистским элементам из рядов чешской и словацкой нации». Язык отдавал советским юридическим жаргоном и, безусловно, предрекал мрачное будущее Чехословакии. Но в оккупированной Чехословакии действительно существовали предатели, коллаборационисты и фашисты; один из них, Йозеф Тисо, был повешен 18 апреля 1947 года. Получили ли Тисо и другие справедливый суд – могли ли они получить справедливый суд в атмосфере того времени – законный вопрос. Но обращение с ними было не хуже, чем, например, с Пьером Лавалем. Послевоенное чешское правосудие было очень озабочено проблемной и неясной категорией «преступлений против нации», использовавшейся для коллективного наказания, в частности, судетских немцев. Но то же самое происходило в те годы с французским правосудием, хотя, возможно, в меньшей степени.
Трудно судить об успехе послевоенных процессов и антифашистских чисток в ранее оккупированной Европе. В то время схема вынесения приговоров подверглась резкой критике – те, кого судили во время войны или сразу после освобождения страны, могли получить более суровые наказания, чем те, кого привлекли к ответственности позже. В результате мелкие правонарушители, с которыми разобрались весной 1945 года, получили гораздо более длительные сроки тюремного заключения, чем крупные коллаборационисты, дела которых дошли до суда лишь через год и позже. В Богемии и Моравии очень высокий процент (95 %) смертных приговоров приводился в исполнение из-за правила, требующего, чтобы заключенных казнили в течение двух часов после вынесения приговора. В других местах любой, кто избегал немедленной казни, мог ожидать смягчения приговора.
Смертные приговоры в то время выносились часто, и они почти не вызывали возражений: во время войны человеческая жизнь обесценилась и такие вердикты перестали выглядеть крайней мерой, они оправдывались, в отличие от мирного периода. Больше негодования вызывала явная непоследовательность наказаний, местами дискредитировавшая весь процесс, не говоря уже о том, что многие приговоры выносились судьями и присяжными, чей послужной список военного времени был как минимум небезупречен. Хуже всех пришлось писателям и журналистам, оставившим письменные свидетельства своих настроений во время войны. Широко освещавшиеся судебные процессы над выдающимися интеллектуалами – вроде Робера Бразийака в Париже в январе 1945 года[76] – вызывали протесты преданных сторонников Сопротивления, таких как Альбер Камю, который считал несправедливым и неразумным осуждать и казнить людей за их мнения, какими бы неверными они ни были.
Напротив, бизнесмены и высокопоставленные чиновники, получившие прибыль от оккупации, мало пострадали, по крайней мере в Западной Европе. В Италии союзники настаивали на том, чтобы не трогать людей вроде Витторио Валлетта из FIAT, несмотря на его печально известную связь с фашистскими властями. Другие итальянские бизнесмены выжили, продемонстрировав былое несогласие с Социальной республикой Сало под руководством Муссолини. Они действительно часто выступали против нее именно потому, что она была слишком «социальной». Во Франции судебное преследование экономического сотрудничества упредила выборочная национализация – заводов Renault, например, в отместку за значительный вклад Луи Рено в военную экономику Германии. И всюду те мелкие бизнесмены, банкиры и чиновники, которые помогали оккупационным режимам управлять, строить «Атлантический вал»[77], чтобы предотвратить вторжение во Францию, снабжали немецкие войска и т. д., сохранили свою работу, чтобы оказывать аналогичные услуги пришедшим к власти демократиям и обеспечивать преемственность и стабильность.
Такие компромиссы, вероятно, были неизбежны. Сам масштаб разрушений и морального падения в 1945 году означал, что все оставшееся, вероятно, понадобится как строительный материал для будущего. Временные правительства в месяцы освобождения были почти беспомощны. Безусловное (и благодарное) сотрудничество экономической, финансовой и промышленной элиты казалось жизненно важным, когда слабое и голодающее население нуждалось в пище, одежде и топливе. Экономические чистки могли быть контрпродуктивными, даже губительными.
Но платой за это стали политический цинизм и резкое избавление от иллюзий и надежд периода освобождения. Уже 27 декабря 1944 года неаполитанский писатель Гульельмо Джаннини писал в L’Uomo Qualunque, газете, принадлежавшей новой итальянской одноименной партии и апеллировавшей именно к чувству насмешливого разочарования: «Я тот парень, который, встретив бывшего офицера, спрашивает: „Как ты стал чистильщиком?“… Я парень, который смотрит вокруг и говорит: „Это фашистские методы и системы“… Я парень, который больше не верит ни во что и никому».
В Италии, как мы видим, сложилась тяжелая ситуация. Но чувства, подобные чувствам Джаннини, широко распространились в Европе к концу 1945 года и подготовили почву для быстрого изменения настроений. Возложив вину за недавнее прошлое на тех, чьи дела были самыми вопиющими или психологически значимыми, наказав их, большинство людей в недавно оккупированных немцами странах скорее стремилось оставить неудобные или неприятные воспоминания позади и восстановить свою сломанную жизнь. В любом случае очень немногие мужчины и женщины в то время были склонны обвинять своих соотечественников в самых тяжких преступлениях. За эти последние, по общему мнению, немцы должны были взять на себя полную ответственность.
В самом деле, мнение, что вина за ужасы Второй мировой войны должна полностью лечь на Германию, было столь широко распространено, что даже Австрия избежала порицания. По соглашению союзников в 1943 году Австрия была официально объявлена «первой жертвой» Гитлера, и, таким образом, в конце войны ей было гарантировано иное обращение, чем Германии. Это соответствовало твердому убеждению Уинстона Черчилля в прусском происхождении нацизма, убеждению, обусловленному одержимостью его поколения появлением прусской угрозы европейской стабильности в последней трети XIX века. Но такое видение устраивало и других союзников – ключевое географическое положение Австрии и неуверенность в политическом будущем Центральной Европы подсказывали, что разумнее отделить ее судьбу от судьбы Германии.
Впрочем, Австрию вряд ли можно было рассматривать как еще одну оккупированную нацистами страну, где сначала требовалось наказать местных фашистов и пособников, а после можно возвращаться к нормальной жизни. В стране с населением менее 7 миллионов человек было 700 000 членов НСДАП: в конце войны в Австрии еще оставалось 536 000 зарегистрированных нацистов; 1,2 миллиона австрийцев служили в немецких частях во время войны. Австрийцы были непропорционально высоко представлены в СС и в администрации концлагерей. Австрийская общественная жизнь и высокая культура были перенасыщены людьми, сочувствующими нацистам, – 45 из 117 членов Венского филармонического оркестра оказались нацистами (тогда как в Берлинском филармоническом оркестре было всего восемь членов нацистской партии из 110 музыкантов).
В этих обстоятельствах Австрия легко отделалась, на удивление легко. Расследовались военные преступления 130 000 австрийцев, из них 23 000 предстали перед судом, 13 600 были осуждены, 43 человека приговорены к смертной казни и всего 30 казнены. Было уволено около 70 000 государственных служащих. Осенью 1946 года четыре оккупационные союзные державы позволили Австрии самой заниматься своими преступниками и «денацификацией». Система образования, особенно зараженная идеологией, была очищена: уволили 2943 учителя начальных классов и 477 учителей средних школ, но среди профессорского состава университетов лишь 27 человек потеряли свои места, хотя многие заслуженные ученые открыто симпатизировали нацизму.
В 1947 году австрийские власти приняли закон, определяющий разницу между «более» и «менее» виновными нацистами. 500 000 представителей второй группы были амнистированы в следующем году, а их политические права восстановлены. Первые – всего около 42 000 – получили амнистию к 1956 году. После этого австрийцы просто забыли о своей причастности к Гитлеру. Одна из причин легкости, с которой Австрия отделалась от своей интрижки с нацизмом, состоит в том, что всем было выгодно приспособить недавнее прошлое к своим интересам. Консервативная Народная партия, наследница довоенной Христианско-социальной партии, имела все причины приукрасить свои собственные и в целом австрийские «негерманские» черты, чтобы отвлечь внимание от корпоративистского режима, который она навязала стране силой в 1934 году. Австрийские социал-демократы, бесспорные антифашисты, тем не менее должны были очистить историю своих призывов к аншлюсу с Германией до 1933 года. Другая причина заключалась в том, что все партии были заинтересованы в умиротворении и привлечении голосов бывших нацистов, значительного по размерам электората, который определял политическую систему страны в будущем. А затем, как мы увидим, с началом холодной войны появились новые обстоятельства[78].
Подобные расчеты присутствовали и в Германии. Но там местному населению не предоставили права выбирать свою судьбу. В той же Московской декларации от 30 октября 1943 года, снявшей с Австрии ответственность за приверженность нацистам, союзники предупредили немцев, что они будут нести ответственность за свои военные преступления. Так и произошло. В серии судебных процессов между 1945 и 1947 годами союзные оккупационные державы в Германии преследовали нацистов и их пособников за военные преступления, преступления против человечности, убийства и другие общеуголовные преступления, совершенные ради нацистских целей.
Среди этих процессов наиболее известен Международный военный трибунал в Нюрнберге, судивший руководителей нацистской Германии в период с октября 1945 по октябрь 1946 года, но было и много других. Американские, британские и французские военные суды разбирали дела нацистов низшего звена в соответствующих зонах оккупированной Германии, и вместе с Советским Союзом они доставляли нацистов в другие страны, в частности в Польшу и Францию, – для суда в тех местах, где были совершены их преступления. Программа судебных процессов над военными преступниками осуществлялась на протяжении всей оккупации Германии союзниками. В западных зонах более 5000 человек были осуждены за военные преступления или преступления против человечности, из них немногим менее 800 человек были приговорены к смертной казни и 486 человек, в конце концов, казнены – последний из них в Ландсбергской тюрьме в июне 1951 года после громких просьб немцев о помиловании.
Вряд ли речь могла идти о наказании немцев только за их идеологию, хотя в Нюрнберге признали нацистскую партию преступной организацией. Цифры были слишком велики, а аргументы против коллективной вины слишком убедительны. В любом случае, никто не понимал, к чему могло привести признание виновными многих миллионов людей. Однако ответственность нацистских лидеров была ясна, и никогда не возникало сомнений относительно их участи. По словам Телфорда Тейлора, одного из обвинителей от США в Нюрнберге и главного обвинителя на последующих судебных процессах[79]: «Слишком многие люди считали, что руководство Третьего рейха нанесло им неправомерный ущерб, и хотели получить решение на этот счет».
С самого начала судебные процессы по делам о германских военных преступлениях служили не только справедливости, но и воспитанию. Главный Нюрнбергский процесс дважды в день транслировался по немецкому радио, и собранные доказательства были предъявлены в школах, кинотеатрах и центрах перевоспитания по всей стране. Однако показательные преимущества судов не всегда были очевидны. В ранней серии судов над комендантами и охранниками концентрационных лагерей многие избежали наказания. Их адвокаты использовали англо-американскую систему состязательного правосудия в своих интересах, допрашивая и унижая свидетелей и выживших в лагерях. На суде в Люнебурге над персоналом Берген-Бельзена (17 сентября – 17 ноября 1945 года) именно британские адвокаты защиты с некоторым успехом доказывали, что их клиенты всего лишь соблюдали (нацистские) законы: 15 из 45 подсудимых были оправданы.
В целом трудно понять, насколько суды над нацистами способствовали политическому и нравственному перевоспитанию Германии и немцев. Конечно, многие считали их «правосудием победителей», и именно таковыми они являлись. Но это были настоящие суды над реальными преступниками за явно преступные действия, и они создали жизненно важный прецедент для международной юриспруденции на десятилетия вперед. Суды и расследования 1945–1948 годов (когда Комиссия ООН по военным преступлениям была расформирована) привели к сохранению чрезвычайно большого количества документов и записей показаний (в частности, касающихся немецкого проекта по уничтожению евреев Европы) в тот самый момент, когда немцы и другие стремились как можно скорее забыть о произошедшем. Эти процессы ясно дали понять, что преступления, совершенные отдельными лицами в идеологических или государственных целях, – тем не менее ответственность конкретных лиц, подлежащих наказанию по закону. Следование приказам не освобождало от ответственности.
Однако наказания немецких военных преступников союзниками имели два неизбежных недостатка. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■ «■■■■■■■■■■■», ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ – ■■ ■■■■■ ■■■■, ■■■, ■■■■■ ■■■■, ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■. ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■-■ ■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■. ■■■ ■■■■, ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■, «■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■, ■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■, ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■».
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■[80].
Второй недостаток заключался в самой природе судебного процесса. Личная вина нацистского руководства, начиная с самого Гитлера, была продемонстрирована явно и полно, поэтому многие немцы полагали, что остальные граждане страны невиновны, что коллективно они оказались такими же пассивными жертвами нацизма, как и другие. Преступления нацистов могли быть «совершены во имя Германии» (цитируя бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, говорившего полвека спустя), но мало кто действительно сознавал, что они были совершены немцами.
Американцы, в частности, хорошо знали об этом и немедленно инициировали программу перевоспитания и денацификации в своей зоне[81]. Они поставили цель уничтожить нацистскую партию и взамен укоренить демократию и свободу в немецкой общественной жизни. Армию США в Германии сопровождала армия психологов и других специалистов, которым поставили задачу понять, почему немцы зашли так далеко. Подобные проекты предпринимали британцы, хотя и с большим скептицизмом и меньшими ресурсами. Французы мало интересовались этим вопросом. Советы же изначально полностью поддерживали эту линию, поэтому агрессивные меры по денацификации были одним из немногих вопросов, по которым союзные оккупационные власти соглашались друг с другом, по крайней мере, некоторое время.
Однако полностью устранить нацистов из немецкой жизни в условиях 1945 года оказалось невыполнимой задачей. По словам генерала Люциуса Клея, руководителя американской военной администрации, «наша главная административная проблема заключалась в том, чтобы найти достаточно компетентных немцев, которые не были связаны каким-либо образом с нацистским режимом… Кажется, слишком часто только у карьерных госслужащих… есть необходимая квалификация… а большинство из них были не просто номинальными участниками (по нашему определению) в деятельности нацистской партии».
Клей не преувеличивал. 8 мая 1945 года, когда закончилась война в Европе, в Германии было 8 миллионов нацистов. В Бонне 102 из 112 врачей состояли на тот момент или ранее в партии. В разрушенном Кёльне из 21 специалиста городской водопроводной сети, в чьих навыках город жизненно нуждался для реконструкции водопровода и канализации и профилактики заболеваний, 18 человек были нацистами. Гражданская администрация, здравоохранение, городское строительство и частное предпринимательство в послевоенной Германии неизбежно осуществлялись такого рода людьми, хотя и под наблюдением союзников. О том, чтобы просто исключить их из немецкой жизни, не могло быть и речи.
Тем не менее определенные усилия прикладывались. Жители трех западных зон оккупированной Германии заполнили 16 млн Frageboden (анкет), большинство из них на территории под американским контролем. Так власти США насчитали 3,5 миллиона немцев (около четверти всего населения зоны), «подлежащих судебной процедуре», хотя многие из них так и не предстали перед местными трибуналами по денацификации, созданными в марте 1946 года немцами под надзором союзников. Немецких гражданских лиц водили в обязательном порядке в концлагеря и заставляли смотреть документальные фильмы о зверствах нацистов. Учителей-нацистов уволили, очистили фонды библиотек, а газетную бумагу и печать союзники взяли под непосредственный контроль и передавали их новым владельцам и редакторам с подлинными антинацистскими убеждениями.
Но даже эти меры встретили значительное сопротивление. 5 мая 1946 года будущий канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр высказался против денацификации в публичном выступлении в Вуппертале, потребовав, чтобы «нацистских попутчиков» оставили в покое. Двумя месяцами позже, выступая перед своим недавно созданным Христианско-демократическим союзом[82], он выразил ту же мысль: денацификация длилась слишком долго и не принесла пользы. Обеспокоенность Аденауэра была искренней. По его мнению, столкновение немцев с преступлениями нацистов – будь то в судах, трибуналах или проектах по перевоспитанию – скорее спровоцирует националистическую реакцию, чем побудит раскаяние. Просто потому, что нацизм имел такие глубокие корни в его стране, будущий канцлер счел более благоразумным разрешать и даже поощрять замалчивание темы.
В его действиях был резон. Немцы в 1940-х плохо представляли, какими их видел весь остальной мир. Они не понимали, что они и их лидеры натворили, и были больше озабочены своими послевоенными трудностями – нехваткой продовольствия и жилья и тому подобным, – а не страданиями их жертв в оккупированной Европе. Действительно, они чаще видели себя в роли жертвы и поэтому рассматривали судебные процессы и другие столкновения с нацистскими преступлениями как месть победивших союзников умершему режиму[83]. За некоторыми благородными исключениями, послевоенные политические и религиозные власти Германии почти не противоречили этой точке зрения, и естественные лидеры страны – в свободных профессиях, судебной системе, на государственной службе – были наиболее скомпрометированы.
Поэтому к анкетам относились с насмешкой. Они служили в основном для того, чтобы обелить подозрительных лиц, помогая им получить свидетельство с хорошей характеристикой (так называемые свидетельства Persil, от одноименного популярного моющего средства). Перевоспитание имело явно ограниченный эффект[84]. Одно дело – заставить немцев ходить на документальные фильмы, совсем другое – заставить их смотреть эти фильмы и тем более думать о том, что увидели.
Много лет спустя писатель Стефан Хермлин описал сцену во франкфуртском кинотеатре, куда немцев привели смотреть документальные ленты о Дахау и Бухенвальде, прежде чем выдать продуктовые карточки: «В тусклом свете проектора я увидел, что большинство отвернулись после начала фильма и оставались в таком положении до самого конца сеанса. Сегодня я думаю, что эти отвернувшиеся лица выражали позицию многих миллионов… Мой несчастный народ был одновременно сентиментален и черств. Они не хотели быть потрясенными реальностью, не хотели „познавать сами себя“»[85].
К тому времени, когда западные союзники с приходом холодной войны отказались от своих усилий по денацификации, стало ясно, что они имели явно ограниченное влияние. В Баварии около половины учителей средних школ, уволенных к 1946 году, вернулись к своим обязанностям через два года. В 1949 году недавно созданная Федеративная Республика прекратила все расследования прошлых проступков государственных служащих и армейских офицеров. В Баварии в 1951 году бывшими нацистами являлись 94 % судей и прокуроров, 77 % служащих министерства финансов и 60 % государственных служащих регионального министерства сельского хозяйства. К 1952 году каждый третий чиновник министерства иностранных дел в Бонне являлся бывшим членом нацистской партии. Из новообразованного западногерманского дипломатического корпуса 43 % составляли бывшие эсэсовцы, а еще 17 % служили в СД[86] или гестапо[87]. Ганс Глобке, глава администрации Аденауэра на протяжении 1950-х, был человеком, ответственным за официальные комментарии к Нюрнбергским законам Гитлера 1935 года. Начальник полиции земли Рейнланд-Пфальц Вильгельм Хаузер был оберштурмфюрером, ответственным за массовые убийства в военное время в Белоруссии.
Та же картина наблюдалась и за пределами государственной службы. Университеты и суды меньше всего пострадали от денацификации, несмотря на их печально известную симпатию к гитлеровскому режиму. Легко отделались и бизнесмены. Фридрих Флик, осужденный как военный преступник в 1947 году, через три года был освобожден боннскими властями и восстановил прежнее положение в качестве ведущего акционера Daimler-Benz. Все руководители преступных промышленных объединений IG Farben и Krupp были досрочно освобождены и вновь вошли в общественную жизнь лишь слегка потрепанными. К 1952 году Fordwerke, немецкое отделение Ford Motor Company, заново собрало все свое высшее руководство времен нацизма. Даже нацистским судьям и врачам концлагерей, осужденным американскими оккупационными властями, сократили или отменили сроки заключения (при участии американского верховного комиссара Джона Макклоя).
Данные опросов общественного мнения первых послевоенных лет подтверждают ограниченность успеха союзников. В октябре 1946 года, когда закончился Нюрнбергский процесс, только 6 % немцев были готовы признать, что они считали его «несправедливым». Но четыре года спустя каждый третий придерживался этой точки зрения. Неудивительно, что они чувствовали себя так, поскольку на протяжении 1945–1949 годов стабильное большинство немцев верили, что «нацизм был хорошей идеей, но плохо реализованной». В ноябре 1946 года 37 % немцев, прошедших опрос в американской зоне, высказали мнение, что «уничтожение евреев и поляков и других неарийцев было необходимо для безопасности немцев».
В том же опросе, проведенном в ноябре 1946 года, каждый третий немец согласился с утверждением, что «евреи не должны иметь тех же прав, что и люди, принадлежащие к арийской расе». Это не особенно удивляет, учитывая, что респонденты провели 12 лет при авторитарном правительстве, убежденном в этой точке зрения[88]. Что действительно поражает, так это опрос, проведенный шестью годами позже, в котором чуть более высокий процент западных немцев – 37 % – утверждал, что для Германии лучше не иметь евреев на своей территории. Но затем, в том же году (1952-м) 25 % западных немцев признались, что были «хорошего мнения» о Гитлере.
В советской оккупационной зоне к нацистскому наследию относились несколько иначе. Хотя в Нюрнбергском процессе принимали участие советские судьи и адвокаты, основной упор в денацификации на Востоке делался на коллективное наказание нацистов и искоренение нацизма из всех сфер жизни. Местное коммунистическое руководство не питало иллюзий по поводу случившегося. Как выразился Вальтер Ульбрихт, будущий лидер Германской Демократической Республики, в речи перед представителями Коммунистической партии Германии в Берлине всего через шесть недель после поражения его страны: «Трагедия немецкого народа состоит в том, что он повиновался группе преступников… Немецкий рабочий класс и производительные части населения потерпели крах перед судом истории».
Это было больше, чем Аденауэр или большинство западногерманских политиков были готовы признать, по крайней мере, публично. Но Ульбрихт, как и советские власти, перед которыми он отчитывался, больше интересовались установлением коммунистической власти в Германии и ликвидацией капитализма, чем возмездием за нацистские преступления. Хотя денацификация в советской зоне действительно в некоторых случаях пошла дальше, чем на Западе, она основывалась на двух искажениях самого понятия нацизма: ■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■[89].
Марксизм и советская официальная доктрина сходились в том, что нацизм – это просто фашизм, и этот фашизм, в свою очередь, – продукт капиталистического эгоизма в момент кризиса. Поэтому советские власти мало внимания уделяли отчетливо расистской стороне нацизма и его геноцидальным результатам и вместо этого сосредоточились на арестах и экспроприации бизнесменов, запятнанных чиновников, учителей и других ответственных за продвижение интересов социального класса, предположительно стоявшего за Гитлером. Таким образом, советский демонтаж наследия нацизма в Германии принципиально не отличался от социальных преобразований, которые Сталин проводил в других частях Центральной и Восточной Европы.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■[90]. Коммунисты в оккупированной Германии не могли похвастаться влиятельностью – и их прибытие с Красной армией вряд ли вызвало симпатию у избирателей. Их единственная политическая перспектива, помимо грубой силы и мошенничества на выборах, заключалась в расчетливом обращении к личным интересам. На востоке и юге коммунисты поощряли изгнание этнических немцев и предлагали себя в качестве гаранта и защитника для новых польских/словацких/сербских владельцев оставленных немцами ферм, предприятий и квартир. Это было совершенно невозможно в самой Германии. В Австрии местная коммунистическая партия совершила ошибку на выборах, состоявшихся в конце 1945 года, отвергнув поддержку мелких нацистов и бывших членов партии, а ведь они могли решить исход голосования. Тем самым перспектива развития коммунизма в послевоенной Австрии угасла. Урок не прошел даром для Берлина. Коммунистическая партия Германии (КПГ) решила предложить свои услуги и защиту миллионам бывших нацистов.
Два фактора – доктрина и расчет – не обязательно противоречили друг другу. Ульбрихт и его коллеги определенно считали, что социально-экономические преобразования способны изгнать нацизм из Германии: они не особенно интересовались личной ответственностью или моральным перевоспитанием. Но они также понимали, что нацизм был не просто фокусом для невинного немецкого пролетариата. Немецкий рабочий класс, как и немецкая буржуазия, не справился со своими обязанностями. Но именно по этой причине он с большей, а не с меньшей вероятностью приспособился бы к коммунистическим целям при правильном сочетании кнута и пряника. И в любом случае власти в Восточной Германии, как и на Западе, не имели выбора – с кем еще им управлять страной, кроме бывших нацистов?
Таким образом, с одной стороны, советские оккупационные силы уволили с работы огромное количество бывших нацистов – 520 000 человек к апрелю 1948 года – и назначили «антифашистов» на административные посты в своей зоне оккупации. ■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■. ■■■■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■, ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■ ■■■■■■ ■■■■-■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■ ■ ■■■■■ ■■ % ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ (■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■) ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ «■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■» ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■[91].
Легкость, с которой отдельные лица и институты переходили от нацизма или фашизма к коммунизму, не была уникальной для Восточной Германии, за исключением, возможно, масштаба. Сопротивление военного времени в Италии включало в себя немало бывших фашистов различных слоев и рангов, а послевоенная умеренность Итальянской коммунистической партии, вероятно, в какой-то мере объясняется тем, что многие из ее потенциальных сторонников были скомпрометированы фашизмом. В послевоенной Венгрии коммунисты открыто обхаживали бывших членов фашистской Партии скрещенных стрел[92], вплоть до того, что предлагали им помощь в отношении евреев, добивавшихся возврата своего имущества. В военное время в Лондоне словацкие коммунисты Владо Клементис и Эвжен Лёбл преследовались советскими агентами, завербованными из членов довоенной чешской фашистской партии, чьи показания были использованы против них на показательном суде десятилетие спустя[93].
Не только коммунисты закрывали глаза на нацистское или фашистское прошлое людей в обмен на послевоенные политические услуги. В Австрии западные власти часто благоволили бывшим фашистам и позволяли работать в журналистике и других деликатных профессиях. Их антипатия к левым была все более полезна и заслуживала доверия. А связь с корпоративистским, авторитарным режимом довоенной Австрии стерлась нацистским вторжением.
Союзное военное правительство в приграничной зоне северо-востока Италии защищало бывших фашистов и коллаборационистов, когда многих из них разыскивали югославы. Западная разведка повсеместно вербовала опытных и хорошо информированных бывших нацистов – в том числе «лионского мясника», офицера гестапо Клауса Барбье – на будущее: в том числе и для противостояния бывшим нацистам ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■[94] которых они могли идентифицировать.
В своем первом официальном обращении к парламенту Федеративной Республики Германии 20 сентября 1949 года Конрад Аденауэр сказал о денацификации и нацистском наследии следующее: «Правительство Федеративной Республики, считая, что многие субъективно искупили свою нетяжелую вину, намеревается там, где это кажется приемлемым, оставить прошлое позади». Нет сомнений, что многие немцы искренне поддержали это утверждение. Если денацификация и была прервана, то только потому, что немцы спонтанно «денацифицировали» сами себя 8 мая 1945 года.
И немецкий народ был не одинок. В Италии ежедневная газета новой Христианско-демократической партии обратилась с аналогичным призывом к забвению в день смерти Гитлера: «У нас есть сила забыть! – провозгласила она. – Забыть как можно скорее!»
На Востоке главным козырем коммунистов было обещание начать новую жизнь в странах, где каждому было что забыть: совершенное с ними или то, что сотворили они сами. По всей Европе распространилось твердое намерение отбросить прошлое и начать все заново, следуя рекомендации Исократа афинянам в конце Пелопоннесской войны: «Давайте править совместно, как будто ничего плохого не произошло».
Эта подозрительно короткая память, поиск удобных мифов об антифашизме – немецких антинацистах, французских членах Сопротивления или польских жертвах – были самым важным незримым наследием Второй мировой войны в Европе. Оно поддерживало национальное восстановление, позволяя таким людям, как маршал Тито, Шарль де Голль или Конрад Аденауэр, предложить своим согражданам убедительную и даже благородную версию их собственного прошлого. Даже ГДР заявляла о своем достойном начале: легендарное и отчасти сфабрикованное коммунистическое «восстание» в Бухенвальде в апреле 1945 года[95]. Такие истории позволяли странам вроде Нидерландов, остававшимся пассивным всю войну, забыть о своих компромиссах, а тем, кто был вполне активен, но не на правильной стороне, как, например, Хорватия, спрятать прошлое за переплетениями различных проявлений героизма.
Без такой коллективной амнезии удивительное послевоенное восстановление Европы было бы невозможно. Конечно, многое выброшенное из головы впоследствии вернулось в самой неприятной форме. Но насколько послевоенная Европа опиралась на основополагающие мифы, которые разрушались и менялись с течением лет, стало ясно гораздо позже. В условиях 1945 года на континенте, покрытом обломками, можно было многого достичь, делая вид, что прошлое действительно мертво и похоронено и новая эра вот-вот начнется. Платой за это стало избирательное коллективное забвение, особенно в Германии. Но везде, и особенно в Германии, было много такого, о чем хотелось забыть.
III. Восстановление Европы
«Все мы уже знаем, что после этой войны нет пути назад к обществу невмешательства, что война как таковая творит тихую революцию, подготавливая путь для нового типа плановой системы».
Карл Маннгейм
«Похоже, почти всеобщее мнение состоит в том, что капиталистические методы не справятся с задачей реконструкции».
Йозеф Шумпетер
«Многие из нас были разочарованы Британией, в которую вернулись… никто не мог заставить ее за одну ночь превратиться в ту Британию, которую мы хотели».
Миссис Винни Уайтхаус (в книге Пола Эддисона «Война окончена»)
«Лекарство заключается в том, чтобы разорвать порочный круг и восстановить уверенность европейцев в экономическом будущем своих стран и Европы в целом».
Джордж К. Маршалл
Огромный масштаб европейского бедствия открыл новые возможности. Война изменила все. Почти никто не сомневался: вернуться к довоенному образу жизни невозможно. Так, естественно, считала радикальная молодежь, но и для проницательных наблюдателей старшего поколения это было столь же очевидно. Шарль де Голль родился в среде консервативной католической буржуазии Северной Франции, ему было 54 года, когда освободили Францию. Он выразился о происходящем с характерной точностью: «Во время катастрофы, под бременем поражения, великая перемена произошла в сознании людей. Многим катастрофа 1940 года казалась провалом правящего класса и системы во всех сферах».
Но во Франции или где-либо еще проблемы начались не в 1940 году. Участники антифашистского сопротивления повсюду видели себя борцами не только против оккупантов и их местных ставленников, но и против всей политической и социальной системы. Они считали, что именно последняя напрямую несет ответственность за все бедствия, что претерпели их страны. Политики, банкиры, бизнесмены и солдаты межвоенного периода довели все до катастрофы, предали жертв Первой мировой войны и подготовили почву для Второй. В одной британской брошюре осуждались консервативные сторонники политики умиротворения до 1940 года. По ее словам, они были «виновными». Во время войны именно они и их система виделись мишенями послевоенного переустройства.
Поэтому Сопротивление везде было революционным по своей природе. Такова была его логика. Отказ от общества, породившего фашизм, естественно приводил «к мечте о революции, которая возникла бы с tabula rasa[96]» (Итало Кальвино). В большей части Восточной Европы поле действительно было полностью расчищено, как мы уже видели. Но даже в Западной Европе повсюду ожидали значимых и быстрых социальных преобразований: кто, в конце концов, встал бы у них на пути?
С точки зрения участников Сопротивления военного времени, послевоенная политика была продолжением их борьбы, естественной проекцией и развитием их тайного существования. Многие юноши и девушки, вышедшие на передовые позиции в военном подполье, не знали другой формы общественной жизни: в Италии с 1924 года, в Германии, Австрии и большей части Восточной Европы с начала 1930-х годов, а во всей оккупированной континентальной Европе с 1940 года никто не представлял, что такое «нормальная» политика. Политические партии были запрещены, выборы фальсифицировались или отменялись. Противостоять властям, выступать за социальные перемены или даже политические реформы – значило ставить себя вне закона.
Так, для нового поколения политика заключалась в сопротивлении – сопротивлении власти, сопротивлении традиционным социальному или экономическому устройству, сопротивлении прошлому. Клод Бурде, активист французского Сопротивления, видный редактор левого журнала и писатель послевоенных лет, уловил это настроение в своих мемуарах L’aventure incertaine («Неопределенное приключение»). «Сопротивление, – писал он, – превратило нас всех в противников во всех смыслах этого слова как по отношению к людям, так и по отношению к обществу». Переход от Сопротивления фашизму к сопротивлению послевоенному возвращению к ошибкам 1930-х годов казался естественным шагом. Отсюда возникло странное оптимистичное настроение, которое отмечали многие наблюдатели сразу после освобождения. Несмотря на царившую вокруг нищету – более того, именно из-за нее, – неизбежно должно было проявиться что-то новое и лучшее. «Никто из нас, – писали редакторы итальянского журнала Società в ноябре 1945 года, – не признает собственное прошлое. Нам оно кажется непонятным… В нашей сегодняшней жизни господствуют чувство оцепенения и инстинктивный поиск направления. Мы просто обезоружены фактами».
Главным препятствием для радикальных перемен после поражения Гитлера были не реакционеры или фашисты, связавшие свою судьбу с диктаторами и смещенные вместе с ними, а законные правительства в изгнании, большинство из которых пересидели войну в Лондоне, планируя возвращение. Они считали местное Сопротивление проблемой, а не союзниками: нерадивые юнцы, которых необходимо разоружить и вернуть к гражданской жизни, передав общественные дела в руки политического класса, должным образом очищенного от коллаборационистов и предателей. Более мягкий подход означал бы анархию или бессрочную оккупацию армиями союзников.
Группы Сопротивления военного времени, ставшие в 1944–1945 годы различными политическими движениями, отвечали такой же подозрительностью. Для них политики, чиновники, придворные, избежавшие оккупации, были дискредитированы вдвойне: довоенными ошибками и последующим бегством. Во Франции и Норвегии законодатели, избранные в 1936 году, были скомпрометированы своими действиями в 1940 году. Когда после пяти лет отсутствия правительства Бельгии и Нидерландов вернулись на родину, они не понимали страданий местного населения и изменений в общественном настроении, вызванных нацистской оккупацией. В Центральной и Восточной Европе, за важным исключением Чехословакии, прежние власти потеряли значимость с приходом Красной армии (хотя осознали это не сразу).
Вернувшаяся администрация вполне охотно шла на компромисс в вопросах политики – в частности, касательно социальных и экономических реформ, как мы еще увидим. При этом они настаивали на том, что де Голль и другие считали «упорядоченным переходом». Поскольку такого же подхода придерживались и союзные оккупационные администрации как на Западе, так и на Востоке, иллюзии Сопротивления вскоре рассеялись. В Восточной Европе (за исключением Югославии) СССР определил форму послевоенных правительств и действия руководителей. В Западной Европе временные правительства пришли к власти впредь до новых выборов. И в каждом случае они подталкивали и даже принуждали силы Сопротивления сложить оружие и прекратить существование.
При взгляде в прошлое поражает, как мало сопротивления встретило восстановление институционального статус-кво. В Польше и некоторых западных частях Советского Союза вооруженные партизанские отряды просуществовали еще несколько лет, но они носили исключительно национальный характер и боролись с коммунизмом. В Норвегии, Бельгии, Франции и Италии организованное Сопротивление мирно, лишь с тихим протестом, влилось в послевоенные политические партии и союзы. В Бельгии в ноябре 1944 года вооруженным участникам подполья военного времени дали две недели на то, чтобы сдать оружие. Это вызвало большую акцию протеста в Брюсселе 25 ноября. Полиция открыла огонь по демонстрантам, ранив 45 человек. Но такие инциденты случались редко[97]. Более типичной была ситуация, когда 200 000 французских участников Сопротивления успешно интегрировались в регулярную армию после того, как их организацию «Французские внутренние силы» (Forces Françaises de l’Intérieur) распустили без протеста.
Демобилизации Сопротивления в значительной степени способствовала советская стратегия, которая содействовала восстановлению парламентских режимов в Западной Европе (а номинально и в Восточной). Коммунистические лидеры, такие как Морис Торез во Франции и Пальмиро Тольятти в Италии, сыграли значительную роль в обеспечении мирного сотрудничества своих (иногда ошеломленных) последователей. Но многие были готовы поверить, что энергия и амбиции Сопротивления теперь будут направлены на политические проекты национального возрождения.
Контакты, установленные в Сопротивлении, иногда сохранялись. Например, послевоенное «соединение» голландского общества, сокращение многовековой конфессиональной пропасти между общинами католиков и протестантов, началось с личных связей, возникших в военное время. Но планы создания послевоенной «Партии Сопротивления» везде провалились. Ближе всего они подошли к осуществлению в Италии, где Ферруччо Парри[98] стал премьер-министром в июне 1945 года и пообещал, что его Партия действия будет следовать духу и целям Сопротивления. Но Парри не был политиком, и когда он пал шесть месяцев спустя, власть окончательно перешла в руки традиционных партий. Де Голль во Франции оказался гораздо лучшим политическим стратегом, но и он покинул пост (через месяц после Парри) и не смог приспособить свои амбиции военного времени к парламентской рутине, тем самым невольно отдавая дань собственному успеху в восстановлении преемственности Республики.
Вместо того чтобы последовать за новым братским сообществом представителей Сопротивления, большинство европейцев в первые послевоенные годы оказались под властью коалиций левых и левоцентристских политиков, довольно похожих на Народные фронты 1930-х годов. Это имело смысл. Единственными довоенными политическими партиями, способными нормально работать в эти годы, были те, которые имели антифашистскую репутацию. А в контролируемой Советским Союзом Восточной Европе – те, за кем новые власти считали выгодным таковыми считать, по крайней мере на данный момент. На практике в этой роли выступали коммунисты, социалисты и горстка либеральных или радикальных групп. Они вместе с недавно появившимися христианско-демократическими партиями составляли правительство в первые послевоенные годы и вывели на первый план многих политиков и деятелей эпохи Народного фронта.
Существующие левые партии очень выиграли от участия в Сопротивлении военного времени: особенно во Франции, где коммунистам удалось превратить свои (иногда преувеличенные) военные подвиги в политический капитал и убедить даже беспристрастных наблюдателей в своем уникальном моральном статусе «великих героев Сопротивления», как описала их Джанет Фланнер в декабре 1944 года. Потому нет ничего необычного в том, что программы реформ послевоенных европейских правительств повторяли и резюмировали незавершенные проекты 1930-х годов.
Опытным партийным политикам удалось так легко вытеснить активистов военного времени после 1945 года потому, что движение Сопротивления и его наследники хоть и разделяли антифашистские взгляды и широко распространенное стремление к переменам, конкретики в своих программах не имели. Партия действия в Италии стремилась отменить монархию, национализировать крупный капитал и промышленность, реформировать сельское хозяйство. В программе действий французского Национального совета Сопротивления не значилось смещение короля, но в остальном амбиции были столь же расплывчатыми. Подразделения Сопротивления были слишком увлечены борьбой или просто выживанием, чтобы заниматься подробными планами послевоенного законодательства.
Но прежде всего членам Сопротивления мешало отсутствие опыта. Среди подпольных организаций только коммунисты имели практические познания в политике, да и то, за исключением французов, не столь глубокие. Но важно, что коммунисты не хотели связывать себе руки подробными программными заявлениями, которые могли бы оттолкнуть будущих тактических союзников. Поэтому Сопротивление мало что оставило в наследство послевоенным проектам, кроме возвышенных заявлений о намерениях и широких обобщений – и даже они, как заметил сочувствующий им Франсуа Мориак в августе 1944 года, были «наспех напечатанными фантастическими программами».
В одном, однако, соглашались все: и члены Сопротивления, и политики. Речь о «планировании». Катастрофы межвоенных десятилетий – упущенные возможности после 1918 года, «великая депрессия», последовавшая за крахом фондового рынка в 1929 году, массовая безработица, неравенство, несправедливость и неэффективность свободного капитализма, которые привели столь многих к искушению авторитаризма, наглое безразличие и высокомерие правящей элиты и некомпетентность политического класса – все казалось связанным с полной неспособностью лучше организовать общество. Если демократия должна была работать, если она должна была восстановить свою привлекательность, ее нужно было планировать.
Можно встретить предположение, что эта вера в планирование – политическая религия послевоенной Европы, перенятая из опыта Советского Союза: советская плановая экономика, якобы избежавшая травм капиталистической Европы, выдержала нацистское нападение и выиграла Вторую мировую войну благодаря серии тщательно спланированных пятилеток. Это предположение совершенно ошибочно. В послевоенной Западной и Центральной Европе только коммунисты верили в планирование советского типа (о котором знали очень мало), но даже они не представляли, как применить его к местным обстоятельствам. Советская одержимость количественными показателями, производственными квотами и централизованным управлением была чужда всем, кроме горстки апологетов планирования на Западе, но даже они использовали совсем другой инструментарий.
Мода на планы и планирование началась задолго до 1945 года. На протяжении межвоенной экономической депрессии от Венгрии до Великобритании раздавались голоса в поддержку плановой экономики того или иного вида. Некоторые высказанные идеи, в частности в Австрии и среди британских фабианцев[99], восходили к более старой социалистической традиции, но многие замыслы брали свое начало в либеральном реформизме до 1914 года. «Государство – ночной сторож» XIX века, внимание которого ограничивалось безопасностью и охраной порядка, устарело. Таков был аргумент. Хотя бы из благоразумных соображений – для предотвращения политического переворота – теперь было необходимо вмешиваться в экономические дела, чтобы отрегулировать дисбаланс, устранить неэффективность и компенсировать неравенство и несправедливость рынка.
До 1914 года основной упор в таких реформистских проектах делался исключительно на призывах к прогрессивному налогообложению, защите труда и иногда национализации ограниченного числа естественных монополий. Но с крахом международной экономики и последовавшей за ней войной планирование приобрело большую актуальность и амбициозность. Конкурирующие предложения по национальному плану, согласно которым государство будет активно вмешиваться в экономику, чтобы поддерживать, препятствовать, облегчать и при необходимости направлять ключевые отрасли, широко распространялись среди молодых инженеров, экономистов и государственных служащих во Франции и Германии.
Большую часть межвоенных лет потенциальные планировщики и их сторонники в отчаянии томились на обочине политики. Старшее партийное поколение было глухо к их призывам: у многих консервативных правых и центристских политиков государственное вмешательство в экономику все еще вызывало отвращение, в то время как среди социалистических левых в целом считалось, что только постреволюционное общество может планировать свои экономические дела рационально. До этого момента капитализм обречен на страдания и, в конце концов, на крах из-за собственных противоречий. Идея о том, что можно «планировать» капиталистическую экономику, казалась обеим сторонам бессмысленной. Разочарованные сторонники экономического планирования часто находили привлекательными авторитарные партии радикальных правых, явно более благосклонные к их подходу.
Поэтому неслучайно Освальд Мосли и некоторые другие британские лейбористы обратились к фашизму после разочарования в неадекватном ответе своей партии на Великую депрессию. В Бельгии Хендрику де Ману также не удалось убедить своих товарищей-социалистов в жизнеспособности его «плана», поэтому он начал предлагать более авторитарные решения. Во Франции некоторые яркие молодые лидеры Социалистической партии были разочарованы тем, что партия не смогла творчески отреагировать на экономический кризис; они откололись, чтобы сформировать новые движения. Многие из них и подобных им стали фашистами.
Сторонники Муссолини во Франции и Британии до 1940 года завидовали его внешнему успеху в преодолении экономических проблем Италии с помощью государственного планирования и создания координационных органов для целых секторов экономики. Альберт Шпеер, администратор гитлеровского «Нового порядка», пользовался большим уважением за границей благодаря своей программе экономического управления и регулирования. В сентябре 1943 года Шпеер и Жан Бишелон, министр промышленности Виши, разработали систему снижения тарифов, основанную на межвоенных идеях «планирования», которые предвосхитили европейские торговые отношения и франко-германскую экономическую координацию в более поздние годы. В «Молодой Европе», ассоциации, основанной в 1933 году для молодых мыслителей и политиков, желающих определить новое направление в политике, будущий бельгийский государственный деятель и еврофил Поль-Анри Спаак обменивался идеями об усилении роли государства с единомышленниками со всего континента, среди которых были Отто Абец, будущий нацистский администратор Парижа военного времени.
Словом, «планирование» имело сложную историю. Многие из его сторонников получили первый опыт работы в качестве государственных служащих и руководителей предприятий в условиях оккупационных режимов военного времени во Франции, Бельгии и Чехословакии, не говоря уже о Германии и Италии. Британия не была оккупирована, но и там война ввела (и сделала обыденным) до сих пор довольно абстрактное представление о государственном планировании. В Британии именно война позволила правительству стать центром экономической жизни. Закон о чрезвычайных полномочиях от мая 1940 года позволил правительству в национальных интересах приказывать кому угодно совершать любые действия, контролировать любую собственность, использовать любое промышленное предприятие для любой национальной цели, которую оно наметило. По словам Кеннета Харриса, биографа Клемента Эттли, британского послевоенного лидера лейбористов: «Национальное планирование и национализация, которые в период 1945–1951 годов казались результатом претворения в жизнь социалистических принципов лейбористским правительством, были в значительной степени наследием государства, организованного для ведения тотальной войны».
Таким образом, фашизм и война были мостом, соединяющим неортодоксальные, маргинальные и часто противоречивые представления об экономическом планировании с господствующей послевоенной экономической политикой. Однако это сомнительное наследие мало повлияло на привлекательность планирования. Как бы оно ни ассоциировалось с крайне правыми, крайне левыми, оккупацией или войной, планирование было совершенно точно не связано с дискредитированной политикой межвоенных лет, и это часто приводилось как аргумент в его пользу. На самом деле планирование было связано с верой в государство. Во многих странах это отражало подкрепленное пережитой войной понимание того, что при отсутствии какого-либо регулирующего или распределительного органа только государство стоит между индивидуумом и нищетой. Но тогдашний восторг в отношении активного вмешательства государства выходил за рамки отчаяния или собственных интересов. Клемент Эттли, чья лейбористская партия неожиданно победила консерваторов Черчилля на выборах 1945 года, красноречиво описал тогдашние настроения: теперь нужны были «хорошо спланированные, хорошо построенные города, парки и игровые площадки, дома и школы, фабрики и магазины».
Была глубокая вера в способность (а не только обязанность) правительства решать масштабные проблемы, мобилизуя и направляя людей и ресурсы на общественно полезные цели. Очевидно, такой взгляд на вещи был особенно привлекателен для социалистов; но идея, что хорошо спланированная экономика означает более богатое, более справедливое и лучше регулируемое общество, была подхвачена очень широким кругом сторонников (в том числе христианско-демократическими партиями), приобретавшим влияние по всей Западной Европе. В ноябре 1945 года английский историк А. Дж. П. Тейлор заявил слушателям Би-би-си, что «[никто] в Европе не верит в американский образ жизни, то есть в частное предпринимательство. Или, скорее, те, кто верят в него, относятся к побежденной партии, имеющей такое же будущее, как якобиты в Англии после 1688 года[100]». Тейлор, как всегда, преувеличивал. В итоге он ошибся (все ошибаются) в долгосрочной перспективе и, возможно, был бы удивлен, узнав, что многие видные члены тогдашней американской оккупационной администрации Германии – сторонники «Нового курса»[101] – с воодушевлением планируют. Но в то время он в целом был прав.
Чем было «планирование»? Термин вводит в заблуждение. Объединяла всех его сторонников вера в усиление роли государства в социальных и экономических делах. Но кроме этого существовали сильные различия в понимании процесса, обусловленные национальными политическими традициями. В Британии, где настоящего планирования практически не проводилось, акцент был сделан на контроле – над промышленностью и социально-экономической сферой – через развитие государственной собственности в качестве самоцели. Таким образом, национализация – особенно шахт, железных дорог, грузоперевозок и коммунальных услуг, – а также оказание медицинских услуг находились в основе программы Лейбористской партии после 1945 года. «Командные высоты» экономики были захвачены. Но не более того.
В Италии фашистское институциональное наследие, отдавшее большие сектора экономики под контроль государства, после войны практически осталось нетронутым. Изменилась политическая окраска партий, которые теперь извлекали выгоду из промышленной и финансовой базы, предоставленной им холдинговыми компаниями и государственными агентствами. В Западной Германии после 1948 года экономика оставалась в основном в частных руках, но существовал подробный, одобренный общественностью механизм управления фабриками, отношений между работодателем и работниками, условий найма и распределения. В Нидерландах централизованное планирование повлекло за собой различные сочетания прогнозирующих и предписывающих указов о частном предпринимательстве.
В большинстве стран Западной Европы государственный сектор быстро рос, если измерять его государственными расходами или количеством служащих. Но только во Франции громкие слова по поводу государственного планирования осуществились на деле. Подобно британцам, послевоенные французские правительства национализировали: воздушный транспорт, банки, 32 страховые компании, коммунальные предприятия, шахты, военную промышленность, авиастроение и гигантский концерн «Рено» (в наказание за вклад его владельца в военные усилия Германии). Пятая часть всех французских промышленных мощностей к маю 1946 года находилась в государственной собственности.
Между тем 4 декабря 1945 года Жан Монне представил президенту де Голлю свой «План модернизации и развития». Через месяц был создан Генеральный комиссариат по планированию во главе с Монне. В течение нескольких месяцев Монне создал комиссии по модернизации различных отраслей промышленности: сначала горнодобывающей, электроэнергетики, транспорта, строительных материалов, металлургии и сельскохозяйственной техники, а затем нефтяной, химической, судоходства, производства удобрений и синтетических волокон. Эти комиссии, в свою очередь, разработали предложения и отраслевые планы. Спустя ровно год после создания Комиссариата, в январе 1947 года, его первый национальный план был одобрен французским кабинетом без обсуждения.
План Монне был уникальным. Необычным человеком был и его создатель[102]. Но в первую очередь этот план был продуктом политической культуры, которая уже благосклонно относилась к авторитарному принятию решений и достижению консенсуса по указу правительства. Под его эгидой Франция стала первой западной страной, полностью отдавшей экономический рост и модернизацию в руки государственной политики. План в значительной степени зависел от возможностей Франции получить доступ к немецкому сырью и рынкам. Таким образом, история его успеха – часть истории отношений Франции с Германией и остальной Европой в послевоенное десятилетие: истории множества фальстартов, ограничений и разочарований.
Первый план Монне был в значительной степени экстренной мерой для разрешения послевоенного кризиса во Франции. Позже он был расширен и адаптирован к условиям плана Маршалла[103]. Но основные аспекты послевоенной французской экономической стратегии присутствовали с самого начала. Французское планирование всегда было «ориентировочным»: оно определяло только цели, а не производственные квоты. В этом отношении оно сильно отличалось от советского планирования, характерной чертой (и главным недостатком) которого были относительно четкие и жесткие нормы производства по отраслям и товарам. План Монне ограничивался предоставлением правительству стратегии и рычагов, позволявшим активно двигаться к выбранным целям. По тем временам идея оказалась поразительно оригинальной.
В Чехословакии в июне 1946 года Центральная плановая комиссия с похожими на план Монне чертами и задачами была создана для руководства и координации крупного государственного сектора, национализированного президентом Бенешем в 1945 году. За год до коммунистического переворота в феврале 1948 года 93 % занятых в транспортной сфере и 78 % занятых в промышленности уже работали на государство. Банки, шахты, страховые компании, основные коммунальные предприятия, металлургические и химические заводы, пищевая промышленность и все крупные предприятия были национализированы: 2119 фирм, на долю которых приходилось около 75 % промышленного производства.
Таким образом, в случае Чехословакии национализация и государственное планирование экономики начались задолго до прихода к власти коммунистов и представляли политические предпочтения подлинного большинства избирателей. Только в феврале 1949 года, спустя год после коммунистического переворота, Комиссия по планированию была «вычищена» и переименована в «Госплан» с совершенно иными полномочиями. В других частях региона крупномасштабные национализации, например, предусмотренные польским Законом о национализации от января 1946 года, были делом рук коалиционных правительств, в которых доминировали коммунисты. Но и они имели докоммунистические корни: еще в 1936 году авторитарное правительство довоенной Польской республики ввело «Четырехлетний инвестиционный план» с элементарной системой централизованного директивного планирования.
Главной целью планирования в послевоенной континентальной Европе были государственные инвестиции. В условиях острой нехватки капитала и огромного спроса на инвестиции во всех отраслях государственное планирование предполагало трудный выбор: куда вложить ограниченные ресурсы государства и за чей счет. В Восточной Европе акцент неизбежно делался на базовые расходы – дороги, железные дороги, фабрики, коммунальные услуги. Но при таком раскладе оставалось мало на еду и жилье, а тем более на медицину, образование и другие социальные услуги; и вообще ничего не оставалось на второстепенные потребительские товары. Эта схема расходов вряд ли могла понравиться электорату, особенно в странах, уже переживших годы материальных лишений. Неудивительно, что такое планирование в условиях острого дефицита почти всегда сопровождалось авторитарным правлением и полицейским государством.
Но ситуация на Западе несильно отличалась. Британцы, как мы увидим, были вынуждены принять годы «аскезы» в качестве платы за восстановление экономики. Во Франции или Италии, где рынок долгосрочного частного капитала почти отсутствовал, все крупные инвестиции должны были финансироваться государством – вот почему в первом плане Монне произошел перекос в сторону капитальных вложений в основные отрасли промышленности за счет внутреннего потребления, жилья и услуг. Политические последствия этого были предсказуемы: к 1947 году Франции, как и Италии, угрожали забастовки, бурные демонстрации и неуклонный рост поддержки Коммунистической партии и ее профсоюзов. Умышленное пренебрежение сектором потребительских товаров и переброска скудных национальных ресурсов на горстку ключевых промышленных отраслей имели экономический смысл в долгосрочной перспективе: но эта стратегия несла высокий риск.
Экономика планирования напрямую опиралась на уроки 1930-х годов: успешная стратегия послевоенного восстановления должна исключать любой возврат к экономическому застою, депрессии, протекционизму и, прежде всего, безработице. Такие же соображения лежали в основе создания современного европейского государства всеобщего благосостояния[104]. По расхожему мнению 1940-х годов, политическая поляризация последнего межвоенного десятилетия возникла из-за экономической депрессии и ее социальных издержек. И фашизм, и коммунизм расцвели на почве социального отчаяния, благодаря огромной пропасти, разделяющей богатых и бедных. Если нужно было восстанавливать демократию, следовало подумать о «положении народа». Томас Карлейль сказал веком раньше: «Если что-то не будет сделано, что-то однажды сделается само собой, да так, что никому не понравится».
Но «государство всеобщего благосостояния» – социальное планирование – было не просто профилактикой политических потрясений. Наше нынешнее отторжение понятий расы, евгеники, «вырождения» и тому подобных затемняет ту важную роль, которую они играли в европейском общественном мышлении в первой половине XX века: не только нацисты относились к таким вещам серьезно. К 1945 году два поколения европейских врачей, антропологов, чиновников общественного здравоохранения и политических обозревателей внесли свой вклад в широкомасштабные дебаты и полемику о «здоровье расы», росте населения, экологическом и профессиональном благополучии, а также государственной политике, посредством которой их можно улучшить и защитить. Было достигнуто соглашение о том, что физическое и моральное состояние граждан – вопрос общего интереса, и поэтому государство частично несет за него ответственность.
Элементарные нормы социального обеспечения уже были широко распространены до 1945 года, хотя их качество и охват сильно разнились. Германия, как правило, шла впереди: здесь еще при Бисмарке между 1883 и 1889 годами создали системы пенсионного и медицинского страхования, а также страхования от несчастных случаев. Но другие страны начали догонять ее непосредственно накануне и после Первой мировой войны. Начальные схемы национального страхования и пенсионного обеспечения были введены в Британии либеральным правительством Асквита в первом десятилетии XX века; и в Великобритании, и во Франции сразу же после окончания Первой мировой войны были созданы министерства здравоохранения, в 1919 и 1920 годах соответственно.
Обязательное страхование по безработице, впервые введенное в Великобритании в 1911 году, появилось затем в Италии (1919 год), Австрии (1920 год), Ирландии (1923 год), Польше (1924 год), Болгарии (1925 год), Германии и Югославии (1927 год) и Норвегии (1938 год). В Румынии и Венгрии уже до Первой мировой войны существовали схемы страхования от несчастных случаев и болезней, и все страны Восточной Европы ввели национальные пенсионные системы между войнами. Семейные пособия были ключевым элементом планов по увеличению рождаемости – тому, чем были озабочены после 1918 года страны, понесшие серьезные потери во время войны. Эти пособия ввели сначала в Бельгии (1930 год), затем во Франции (1932 год), а в Венгрии и Нидерландах их начали выплачивать незадолго до начала войны.
Но ни одно из этих решений, даже нацистское, не создало комплексную систему социального обеспечения. Это была последовательность единичных реформ, каждая из которых касалась конкретной социальной проблемы или направлялась на устранение недостатков предыдущих схем. Различные пенсионные и медицинские системы страхования, введенные в Великобритании, например, давали очень ограниченные льготы и применялись только к работающим мужчинам: жены и другие иждивенцы не учитывались. Право на получение пособия по безработице в межвоенной Британии имели только прошедшие «проверку нуждаемости». Она опиралась на закон о бедных XIX века, в основе которого лежал принцип «меньшей приемлемости»,[105] и требовании от заявителя продемонстрировать свою фактическую нищету для получения государственной помощи. Нигде еще не рассматривалась обязанность государства гарантировать определенный набор услуг всем гражданам – мужчинам и женщинам, работающим и безработным, старым и молодым.
Все изменила война. Подобно тому, как Первая мировая ускорила принятие законодательства и норм социального обеспечения – хотя бы для того, чтобы разобраться с вдовами и сиротами, инвалидами и безработными в первые послевоенные годы, – так и Вторая мировая изменила роль современного государства и ожидания, возлагаемые на него. Преобразования были наиболее заметны в Великобритании, где Мейнард Кейнс верно предугадал послевоенную «тягу к социальной и личной безопасности». Но повсюду (по словам историка Майкла Говарда) «война и социальное обеспечение шли рука об руку». В некоторых странах питание и медицинское обеспечение действительно улучшились во время войны: мобилизация мужчин и женщин для тотальной войны вынудила лучше изучать и отслеживать их состояние и делать все необходимое, чтобы поддерживать их работоспособность.
Европейские государства всеобщего благосостояния после 1945 года значительно различались по видам и объемам предоставляемых ресурсов и способам финансирования. Но можно сделать некоторые обобщения. Социальные услуги в основном касались сферы образования, жилья, медицинского обслуживания, городских зон отдыха, дотируемого общественного транспорта, бюджетного финансирования искусства и культуры, а также других косвенных государственных благ. Социальное обеспечение заключалось в основном в государственном страховании от болезней, безработицы, несчастных случаев и проблем старости. Каждое европейское государство в послевоенные годы предоставило или профинансировало основную часть этих ресурсов – одно больше, другое меньше.
Важные различия заключались в схемах, установленных для оплаты новых государственных услуг. Некоторые страны собирали доходы за счет налогообложения и предоставляли услуги бесплатно или с большими субсидиями – эта система использовалась в Британии и отражала современный выбор в пользу государственных монополий. В других странах денежные пособия выплачивались гражданам в соответствии с социально установленными критериями, при этом получатели могли приобретать услуги по своему усмотрению. Предполагалось, что граждане Франции и некоторых небольших стран будут платить авансом за некоторые виды медицинской помощи, но затем смогут потребовать у государства вернуть большую часть их расходов.
Эти подходы отражали разницу в системах национального финансирования и бухгалтерского учета, но они также обозначали принципиальный стратегический выбор. Само по себе социальное страхование, каким бы щедрым оно ни было, в принципе не считалось чем-то политически радикальным – оно появилось относительно рано даже в самых консервативных режимах. Однако комплексные системы социального обеспечения по своей сути перераспределительные. Их универсальный характер и масштабы, в которых они действуют, требуют передачи ресурсов – обычно путем налогообложения – от привилегированных к менее обеспеченным. В целом, государство всеобщего благосостояния само по себе было радикальным предприятием, и различия между европейскими государствами всеобщего благосостояния после 1945 года отражали не только институциональные процедуры, но и политический расчет.
В Восточной Европе, например, коммунистические режимы после 1948 года обычно не отдавали предпочтения всеобщим системам социального обеспечения – в этом не было необходимости, поскольку они могли свободно перераспределять ресурсы силой, не тратя скудные государственные средства на общественные услуги. Крестьяне, например, часто исключались из социального страхования и пенсионного обеспечения по политическим мотивам. В Западной Европе только шесть стран – Бельгия, Италия, Норвегия, Австрия, Федеративная Республика Германия и Великобритания – ввели после 1945 года обязательное и всеобщее страхование от безработицы. Субсидируемые добровольные схемы оставались в Нидерландах до 1949 года, во Франции – до 1967 года, в Швейцарии – до середины 1970-х годов. В католической Европе давно сложившееся местное и общинное страхование от безработицы, вероятно, препятствовало развитию универсальных систем страхования, снижая потребность в них. В странах, где межвоенная безработица была особенно травматична (Великобритания или Бельгия), расходы на социальное обеспечение отчасти обуславливались желанием сохранить полную или почти полную занятость. Там, где это не имело такого значения, например во Франции или Италии, – это отразилось на смене приоритетов.
Хотя Швеция и Норвегия (но не Дания) считались лидерами по предоставлению широкого спектра социальных услуг, а Западная Германия сохранила порядок социального обеспечения от прошлых режимов (включая программы нацистской эпохи, направленные на поощрение высокой рождаемости), именно в Великобритании приложили значительные усилия, чтобы создать с нуля подлинное «государство всеобщего благосостояния». Частично это отражало уникальную позицию британской Лейбористской партии, безоговорочно победившей на выборах в июле 1945 года. И в отличие от правительств большинства других европейских стран, она могла свободно законодательно оформлять всю свою предвыборную программу без каких-либо ограничений со стороны партнеров по коалиции. Но в основе этого лежат довольно своеобразные истоки британского реформизма.
Социальное законодательство послевоенной Британии базировалось на заслуженно известном докладе военного времени сэра Уильяма Бевериджа, опубликованного в ноябре 1942 года и сразу же ставшего бестселлером. Беверидж родился в 1879 году в семье британского судьи в Индии, и он разделял чувства и амбиции великих либералов-реформаторов эдвардианской Британии[106]. Его доклад был одновременно обвинением британского общества до 1939 года в социальной несправедливости и политическим проектом коренных реформ после окончания войны. Даже Консервативная партия не осмелилась выступить против его основных рекомендаций, которые стали моральным фундаментом для самых популярных и устойчивых элементов послевоенной программы лейбористов.
Беверидж сделал четыре предположения о послевоенном социальном обеспечении, каждое из которых следовало включить в британскую политику следующего поколения: наличие национальной службы здравоохранения, адекватной государственной пенсии, семейных пособий и почти полной занятости. Последнее само по себе не было социальной услугой, но лежало в основе всего остального, поскольку считалось само собой разумеющимся, что здоровый взрослый после войны должен работать на полную ставку. При таком допущении можно было делать щедрые отчисления на страхование по безработице, пенсии, семейные пособия, медицинские и другие услуги, поскольку платились за счет сборов с заработной платы, а также путем прогрессивного налогообложения всего работающего населения.
Последствия были значительными. Неработающие женщины, не застрахованные в частном порядке, впервые получили страховое покрытие. С унижением и социальной зависимостью от старой системы Закона о бедных – проверки нуждаемости было покончено – в тех (предположительно) редких случаях, когда гражданин государства всеобщего благосостояния нуждался в общественной помощи, он или она теперь имели на нее законное право. Медицинские и стоматологические услуги предоставлялись бесплатно по месту службы, пенсионное обеспечение стало всеобщим, появились семейные пособия (из расчета 5 шиллингов [25 пенсов] в неделю на второго и последующих детей). Основной парламентский законопроект, закрепляющий эти положения, получил королевское одобрение в ноябре 1946 года. Закон о Национальной службе здравоохранения – ядро системы социального обеспечения – вступил в действие 5 июля 1948 года.
Британское государство всеобщего благосостояния было продуктом предыдущего цикла реформ, корни которого уходят в Законы о фабриках середины XIX века, и одновременно по-настоящему радикальным изменением. Контраст между Британией из книги Джорджа Оруэлла «Дорога на Уиган-Пирс» (опубликована в 1937 году) и Британией премьер-министра консерваторов Гарольда Макмиллана, знаменитого острым ответом на критику двадцать лет спустя («Тебе еще никогда не было так хорошо»), – это заслуга государственной системы здравоохранения и обеспечения безопасности, доходов и занятости.
Оглядываясь сегодня на просчеты первых послевоенных реформаторов, слишком легко преуменьшить или даже не признавать их достижения. В течение нескольких лет многие из универсальных составляющих Национальной службы здравоохранения оказались неприлично дорогими; качество предоставляемых услуг со временем упало; и с годами стало ясно, что некоторые из основных допущений, лежавших в основе страховой системы, включая оптимистичные предсказания о постоянной полной занятости, оказались в лучшем случае недальновидными. Но у любого, кто вырос (как и автор этих строк) в послевоенной Британии, есть веские основания быть благодарным государству всеобщего благосостояния.
То же самое относится и к послевоенному поколению на всем европейском континенте, хотя нигде за пределами Великобритании не предпринимались попытки обеспечить всестороннее социальное обеспечение в таких широких масштабах. Благодаря появлению государств всеобщего благосостояния европейцы питались обильнее и (в основном) лучше, дольше жили и дольше сохраняли здоровее, имели более хорошие жилье и одежду, чем когда-либо прежде. Но главное, они были более уверенными. Не случайно большинство европейцев на вопрос, что они думают о своих государственных услугах, почти всегда говорили в первую очередь о страховке и пенсионной поддержке, которые им предоставило послевоенное государство. Даже в Швейцарии, стране с явно недостаточным уровнем социального страхования по европейским стандартам, принятый в декабре 1948 году Федеральный закон о страховании по старости и в связи с потерей кормильца рассматривается многими гражданами как одно из главных достижений страны.
Государство всеобщего благосостояния обошлось недешево. Его стоимость для стран, еще не восстановившихся от кризиса 1930-х годов и разрушений войны, была очень значительной. Франция выделяла всего 5 % своего валового внутреннего продукта (ВВП) на социальные услуги в 1938 году, а в 1949 году – уже 8,2 %, т. е. больше на 64 %. В Великобритании к 1949 году почти 17 % всех государственных расходов приходились только на социальное обеспечение (не включая общественные услуги и объекты, не входящие в эту сферу), что на 50 % больше уровня 1938 года. Это происходило в момент серьезной нагрузки на финансы страны. Даже в Италии, гораздо более бедной стране, чье правительство пыталось избежать высоких расходов на социальное обеспечение, перекладывая предоставление услуг и поддержки на частный сектор, государственные расходы на социальные услуги в процентах от ВВП выросли с 3,3 % в 1938 году до 5,2 % в 1949 году.
Почему европейцы были готовы платить так много за страхование и другие долгосрочные социальные услуги, в то время, когда жизнь все еще была по-настоящему тяжелой, а нехватка средств повальной? Первая причина заключается именно в том, что времена были трудными и послевоенные системы социального обеспечения стали гарантией определенного минимума справедливости. Это не была та духовная и социальная революция, о которой мечтали многие участники Сопротивления военного времени, но так выглядел первый шаг прочь от безысходности и цинизма довоенных лет.
Во-вторых, государства всеобщего благосостояния в Западной Европе не вызывали политических разногласий. Они выполняли роль социального распределителя в общем смысле (некоторые в большей степени, чем другие), но при этом не считались революционными – не «выкачивали деньги из богатых». Наоборот: хотя наибольшую прямую выгоду ощущали бедняки, настоящим долгосрочным выгодоприобретателем оказывался профессиональный и коммерческий средний класс. Во многих случаях его представители ранее не имели права на получение связанных с работой медицинских пособий, пособий по безработице или пенсий и были вынуждены перед войной приобретать такие услуги и льготы самостоятельно. Теперь они получили полный доступ к этим услугам бесплатно или по низкой цене. Предоставление государством бесплатного или субсидируемого полного среднего и высшего образования для их детей позволило наемным профессионалам и классу «белых воротничков»[107] улучшить качество жизни и повысить располагаемый доход. Европейское государство всеобщего благосостояния не только не настроило социальные классы друг против друга, но и объединило их, как никогда прежде, общим интересом в его сохранении и защите.
Но главная причина поддержки финансируемых государством социальных программ заключалась в распространенном ощущении, что они соответствовали истинным задачам государства. Послевоенное государство по всей Европе было «социальным» государством с неявной (а часто прописанной в конституции) ответственностью за благополучие своих граждан. Оно было обязано предоставлять не только институты и услуги, необходимые для благоустроенной, безопасной и процветающей страны, но и улучшать состояние населения, измеряемое разнообразным и расширяющимся набором индексов. Могло ли оно действительно удовлетворить все нужды – другой вопрос.
Очевидно, было легче достичь идеалов социального государства «от колыбели до могилы» для небольшого населения такой богатой и однородной страны, как Швеция, чем в такой стране, как Италия. Но вера в государство была столь же сильна в бедных странах, как и в богатых, а может быть, даже сильнее, так как там только государство давало населению надежду или спасение. А после депрессии, оккупации и гражданской войны государство – как агент благосостояния, безопасности и справедливости – было жизненно важным источником чувства общности и социальной сплоченности. Сегодня многие комментаторы склонны рассматривать государственную собственность и зависимость от государства как европейскую проблему, а «спасение свыше» – как иллюзию века. Но для поколения 1945 года настоящий баланс между политическими свободами и рациональной, справедливой распределительной функцией административного государства казался единственным разумным выходом из тупика.
Стремление к переменам после 1945 года вышло далеко за рамки социального обеспечения. Годы после Второй мировой войны были своего рода эпохой реформ, в течение которой с запозданием решались многие давние проблемы. Одним из наиболее важных был вопрос об аграрной реформе, которую многие хорошо информированные современники считали самой насущной проблемой Европы. Прошлое все еще довлело над европейским крестьянством. Только в Англии, Нидерландах, Дании, альпийских странах и частях Франции можно было говорить о процветающем, независимом классе земледельцев. Подавляющее же большинство преимущественно сельского населения Европы жило в условиях долгов и нищеты.
Одна из причин этого заключалась в том, что большие площади лучших пахотных и особенно пастбищных земель все еще находились в руках относительно узкого круга богатых землевладельцев. Зачастую они жили в других местах и при этом категорически возражали против любого улучшения состояния своих земель, условий для арендаторов или рабочих. Еще одним фактором стал длительный спад цен на сельскохозяйственную продукцию по отношению к промышленной, процесс, усугубившийся с 1870-х годов за счет ввоза дешевого зерна, а затем и мяса из Америки и британских доминионов. К 1930-м годам почти три поколения европейских крестьян жили в постоянно ухудшающихся условиях. Многие эмигрировали из Греции, Южной Италии, с Балкан, из Центральной и Восточной Европы в США, Аргентину и другие страны. Те, кто остался, часто оказывались легкой добычей для националистических и фашистских демагогов. После войны широко распространилось мнение, особенно среди левых, что фашизм обращался именно к отчаявшимся крестьянам и что любое возрождение фашизма в Европе начнется в деревне. Таким образом, аграрная проблема имела две стороны: как улучшить экономические перспективы крестьянина и тем самым отвлечь его от авторитарного искушения.
Попытка достичь первой цели уже была предпринята после Первой мировой войны с помощью ряда земельных реформ – в частности в Румынии и Италии, но в какой-то мере практически везде. Предполагалось перераспределить крупные владения, сократить число «микрофундий» (неэффективных наделов) и предоставить фермерам больше шансов на эффективное производство для рынка. Но эти реформы не привели к ожидаемым результатам – частично потому, что в катастрофических экономических условиях межвоенной Европы цены падали еще быстрее, чем до 1914 года, и новые «независимые» крестьяне-землевладельцы на деле оказывались более уязвимы, чем когда-либо.
После Второй мировой войны была предпринята еще одна попытка добиться перемен в сельском хозяйстве. В ходе земельной реформы в Румынии, проведенной в марте 1945 года, миллион гектаров земли «кулаков» и «военных преступников» раздали более чем 600 000 бедных или безземельных крестьян. В Венгрии, где межвоенный режим адмирала Хорти блокировал любое значительное перераспределение земель, одна треть территории страны была экспроприирована у предыдущих владельцев в соответствии с Сегедской программой временного послевоенного коалиционного правительства от декабря 1944 года. Правительство Чехословацкого национального фронта военного времени составило в том же году аналогичную программу и должным образом перераспределило значительные участки земли – в первую очередь фермы, захваченные у судетских немцев и венгров, – в послевоенные месяцы. Между 1944 и 1947 годами в каждой восточноевропейской стране образовался большой класс мелких землевладельцев, обязанных новым властям своей землей. Через несколько лет те же самые мелкие землевладельцы, в свою очередь, будут лишены собственности коммунистическими режимами в процессе коллективизации. Но при этом целые классы помещиков и крупных фермеров в Польше, Восточной Пруссии, Венгрии, Румынии и Югославии просто исчезли.
В Западной Европе только Южная Италия видела что-либо, сравнимое с драматическими переменами, произошедшими на востоке. Стремительно принятые законы о реформах 1950 года объявили о перераспределении помещичьей земли на Сицилии и в Меццоджорно[108] после захвата и оккупации земель в Базиликате, Абруцци и Сицилии. Но по факту вся эта суета мало изменила ситуацию. Большая часть земли, выведенная из состава старых латифундий[109], не имела доступа к воде, дорогам и жилью. Из 74 000 гектаров, перераспределенных на Сицилии после Второй мировой войны, 95 % оказалось «маргинальной» или «неполноценной» землей, непригодной для возделывания. Нищие крестьяне, которым предложили землю, не имели ни денег, ни доступа к кредиту; они мало что могли сделать со своими новыми владениями. Земельная реформа в Италии провалилась. Заявленная ими цель – решение «южного вопроса»[110] – будет достигнута лишь десятилетием позже, да и то отчасти, когда избыточное крестьянское население Юга покинет землю и уйдет искать работу в бурно развивающиеся северные города итальянского «чуда».
Но в Южной Италии ситуация была тяжелее. Новые юридические права для фермеров-арендаторов во Франции и в других местах дали земледельцам стимул вкладывать средства в свои мелкие владения, в то время как новые кредитные системы и сельские банки помогли осуществить это. Государственные субсидируемые программы поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию помогли обратить вспять продолжавшееся десятилетия падение цен, поощряя фермеров производить как можно больше и гарантируя покупку их продукции по фиксированной минимальной ставке. Тем временем неслыханный послевоенный спрос на рабочую силу в городах истощил избыточную рабочую силу, пришедшую из более бедных сельских районов, в результате чего среди трудоспособного сельского населения осталось меньше голодных ртов.
Политические аспекты аграрной проблемы косвенно затрагивались в более широком пакете политических реформ, проведенных в первые послевоенные годы. Многие из них носили конституционный характер, завершая работу, начатую в 1918 году. В Италии, Франции и Бельгии женщины, наконец, получили право голоса. В июне 1946 года итальянцы проголосовали за то, чтобы стать республикой, но перевес был небольшим (12,7 миллиона голосов за отмену монархии, 10,7 миллиона за ее сохранение). В результате исторические разногласия в стране еще более усугубились: юг, за исключением региона Базиликата, подавляющим большинством проголосовал за короля (в Неаполе голоса распределились 4:1).
Греки, напротив, в сентябре 1946 года проголосовали за сохранение монархии. Бельгийцы тоже ее сохранили, но сместили действующего короля Леопольда III в наказание за сотрудничество с нацистами. Это решение, принятое под давлением общественности в 1950 году, вопреки желанию незначительного большинства населения, резко разделило страну по общинному и языковому признаку: франкоязычные валлоны проголосовали за отстранение Леопольда от престола, в то время как 72 % говорящих по-голландски фламандцев высказались за то, чтобы позволить ему остаться. У французов не было монарха, чтобы выместить на нем гнев за унижения военного времени, и они просто проголосовали в 1946 году за замену опозоренной Третьей республики следующей по счету преемницей. Как и Основной закон Германии 1949 года, конституция Четвертой республики была призвана ликвидировать, насколько возможно, риск любой капитуляции перед авторитарными или цезаристскими соблазнами – это начинание оказалось на редкость неуспешным.
Временные или Учредительные собрания, провозгласившие эти послевоенные конституции, предлагавшие провести всенародные референдумы по спорным темам и голосовавшие за основные институциональные реформы, были в основном левыми. В Италии, Франции и Чехословакии коммунистические партии преуспевали после войны. На выборах в Италии 1946 года Итальянская коммунистическая партия (ИКП) получила 19 % голосов; Французская коммунистическая партия (ФКП) набрала 28,6 % голосов на вторых французских выборах того года: ее лучший результат в истории. В Чехословакии на свободных выборах в мае 1946 года коммунисты получили 38 % голосов по всей стране (40 % на чешской территории). В других странах коммунисты не так хорошо справились со свободными выборами (а в дальнейшем результаты у них были только ниже): от 13 % в Бельгии до всего 0,4 % в Соединенном Королевстве.
Главным политическим рычагом коммунистов в Западной Европе был их союз с социалистическими партиями, большинство из которых до 1947 года не хотели разрывать альянсы Народного фронта, превратившиеся затем в движение Сопротивления.
Социалистические партии во Франции и Италии добились почти таких же результатов, как и коммунисты, на первых послевоенных выборах, а в Бельгии их результаты оказались значительно лучше. В Скандинавии социал-демократы значительно превзошли все остальные партии, получив от 38 и до 41 % голосов в Дании, Норвегии и Швеции на выборах, состоявшихся между 1945 и 1948 годами.
Тем не менее за пределами Великобритании и стран Северной Европы «старые левые», состоявшие из коммунистов и социалистов, никогда не могли править в одиночку. В Западной Европе баланс всегда поддерживало, а во многих случаях доминировало новое «политическое животное»[111] – христианско-демократические партии. Католические партии были распространены в континентальной Европе – они долгое время процветали в Нидерландах и Бельгии. Кайзеровская и Веймарская Германия имела католическую партию Центра. Консервативное крыло австрийской политики уже давно было тесно связано с (католической) Народной партией. Даже сама идея «христианской демократии» не отличалась совершенной новизной – ее истоки лежали в католическом реформизме начала XX века и католических движениях политического центра, безуспешно пытавшихся пробиться наверх в бурные годы после Первой мировой войны. Но после 1945 года ситуация изменилась во многом в их пользу.
Во-первых, эти партии – особенно Христианско-демократический союз (ХДС) в Западной Германии, Христианские демократы (ХД) в Италии и Народно-республиканское движение (МРП) во Франции – теперь имели почти полную монополию на голоса католиков. В 1945 году в Европе это все еще многое значило: католики голосовали весьма консервативно, особенно по социальным вопросам и в регионах с большой долей католических избирателей. Традиционные избиратели-католики в Италии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Южной и Западной Германии редко голосовали за социалистов и почти никогда за коммунистов. Но и в этом была особенность послевоенной эпохи: хотя направленность программ и взгляды христианских демократов носили реформистский уклон, консервативные католики во многих странах часто не имели иного выбора, кроме как голосовать за них. Обычные правые партии либо оставались в тени, либо были полностью запрещены. Даже консерваторы-некатолики все чаще обращались к христианским демократам, чтобы блокировать «марксистских» левых.
Во-вторых, и по тем же причинам, христианско-демократические партии были основными бенефициарами распространения права голоса на женщин – в 1952 году около двух третей религиозных католичек во Франции проголосовали за МРП. Без сомнения, влияние церкви играло роль. Но основная причина привлекательности христианско-демократических партий для женщин заключалась в их программах. Знаменитые христианские демократы – Морис Шуман и Жорж Бидо во Франции, Альчиде Де Гаспери в Италии и Конрад Аденауэр в Федеративной Республике – всегда активно выступали за примирение и стабильность. В то же время даже самая мягкая социалистическая и коммунистическая риторика все еще имела мятежный подтекст.
Христианская демократия избегала классовых призывов и делала акцент на социальные и моральные реформы. В частности, она настаивала на важности семьи, наиболее христианской теме, имеющей важное политическое значение в то время, когда потребности неполных, бездомных и обездоленных семей были как никогда велики. Поэтому христианско-демократические партии находились в идеальном положении для того, чтобы извлечь выгоду практически из всех аспектов послевоенной ситуации: стремления к стабильности и безопасности, жажды обновлений, отсутствия традиционных правых альтернатив и ожиданий, возлагаемых на государство. В отличие от обычных католических политиков предыдущего поколения, лидеры христианско-демократических партий и их более радикальные молодые последователи не гнушались привлекать власть государства для достижения своих целей. Христианские демократы первых послевоенных лет считали либеральных сторонников свободного рынка, а не коллективистских левых, своими главными противниками и стремились показать, что современное государство может быть приспособлено к несоциалистическим формам доброжелательного вмешательства.
В итоге в Италии и Западной Германии христианско-демократические партии добились (с некоторой помощью Америки) почти полной монополии на политическую власть на много лет вперед. Во Франции – из-за разрушительных последствий двух колониальных войн, а затем и возвращения де Голля к власти в 1958 году – результаты МРП оказались скромнее. Но даже там она играла роль арбитра до середины 1950-х годов, безраздельно владея рядом ключевых министерств (в частности, иностранных дел). Католические партии христианско-демократического толка обладали полной властью в странах Бенилюкса на протяжении более чем поколения, в Австрии – до 1970 года.
Лидеры христианско-демократических партий, как и Уинстон Черчилль в Британии, были людьми более раннего времени: Конрад Аденауэр родился в 1876 году, Альчиде Де Гаспери на пять лет позже, сам Черчилль в 1874 году. Это не было простым совпадением или биографическим курьезом. К 1945 году многие страны континентальной Европы потеряли два поколения потенциальных лидеров: первое погибло или пострадало во время Первой мировой, второе поддалось искушению фашизма или погибло от рук нацистов и их соратников. Этот провал отразился в посредственном качестве многих молодых политиков тех лет – Пальмиро Тольятти (20 лет он провел в качестве политработника в Москве) был исключением. Особая привлекательность Леона Блюма[112], вернувшегося к общественной жизни во Франции после ареста режимом Виши и заключения в Дахау и Бухенвальде, проявлялась не только в его героизме, но и возрасте (он родился в 1872 году).
На первый взгляд может показаться довольно странным, что реабилитация послевоенной Европы в такой большой степени была делом рук людей, достигших зрелости и пришедших в политику за десятилетия до этого. Черчилль, впервые избранный в парламент в 1901 году, всегда описывал себя как «дитя викторианской эпохи». Клемент Эттли тоже был викторианцем и родился в 1883 году. Но не это самое удивительное. Удивительным было в первую очередь то, что этим пожилым людям удалось невредимыми в политическом и этическом плане пережить 30 лет потрясений, и политическое доверие к ним усиливалось из-за их редкости. Во-вторых, все они происходили из замечательного поколения европейских социальных реформаторов, достигших зрелости в 1880–1910 годах, – будь то социалисты (Блюм, Эттли), либералы (Беверидж или будущий президент Италии Луиджи Эйнауди, родившийся в 1874 году) или прогрессивные католики (Де Гаспери, Аденауэр). Их инстинкты и интересы превосходно соответствовали послевоенному настроению.
Но, в-третьих, и, пожалуй, прежде всего, старики, перестроившие Западную Европу, символизировали преемственность. В межвоенный период в моде было новое и современное. Многие – и не только фашисты и коммунисты – считали парламенты и демократии декадентскими, застойными, коррумпированными и в любом случае неадекватными для задач современного государства. Война и оккупация развеяли эти иллюзии для избирателей, если не для интеллектуалов. В холодном свете наступившего мира скучные компромиссы конституционной демократии приобрели новую привлекательность. Безусловно, в 1945 году большинство людей жаждало социального прогресса и обновлений, но в сочетании с уверенностью в стабильных и привычных политических формах. Там, где Первая мировая война имела политизирующий, радикализирующий эффект, последовавшая за ней Вторая мировая дала противоположный результат: глубокое стремление к нормальности.
Государственные деятели, которые помнили не только непростые межвоенные десятилетия, но и более спокойное время до 1914 года, вызывали особое доверие. Олицетворяя связь времен, они могли облегчить трудный переход от политических страстей недавнего прошлого к наступающему периоду стремительного социального развития. Все старейшие государственные деятели Европы, к какой бы партии они ни принадлежали, были к 1945 году скептичными, прагматичными практиками искусства возможного. Эта личная дистанцированность от чрезмерно самоуверенных догм межвоенной политики совпадала с настроением их избирателей. Начиналась постидеологическая эпоха.
Перспективы политической стабильности и социальных реформ после Второй мировой войны зависели, в первую очередь, от восстановления экономики континента. Никакое государственное планирование или политическое руководство не могли решить титаническую задачу, стоявшую перед европейцами в 1945 году. Самый очевидный экономический урон война нанесла жилому фонду. Ущерб Лондону, где было разрушено три с половиной миллиона жилых помещений, превышал урон от Великого пожара 1666 года. 90 % всех домов в Варшаве было уничтожено. Только 27 % жилых домов Будапешта в 1945 году было пригодно для проживания. Исчезло 40 % немецкого жилого фонда, 30 % британского, 20 % французского. В Италии было разрушено 1,2 миллиона домов, в основном в городах с населением 50 000 и более человек. Проблема бездомности, как мы уже знаем, стала едва ли не самым очевидным последствием войны в первые послевоенные годы – в Западной Германии и Великобритании нехватка жилья сохранится до середины 1950-х годов. Как выразилась одна представительница среднего класса, выходя с выставки послевоенных домов в Лондоне: «Я так отчаянно нуждаюсь в доме, что согласна на любой. Четыре стены и крыша – вершина моих амбиций»[113].
Серьезно пострадала и транспортная инфраструктура – торговый флот, железные дороги, подвижной состав, мосты, шоссе, каналы и трамвайные пути. На Сене, на всем ее протяжении от Парижа до места впадения в Ла-Манш, не осталось ни одного моста, а на Рейне уцелел только один. В результате, даже если шахты и фабрики и производили необходимые товары, они не могли их перемещать – к декабрю 1945 года многие европейские угольные шахты снова работали, но в Вене все еще не было угля.
Но хуже всего был внешний вид: многие страны выглядели так, будто они разорены и разрушены без надежды на восстановление. По правде говоря, почти во всех европейских странах, участвовавших во Второй мировой войне, национальная экономика находилась в стагнации или сокращалась по сравнению даже с посредственными показателями межвоенных лет. Но война не всегда приводит к экономической катастрофе – наоборот, она может быть мощным стимулом для быстрого роста в определенных отраслях. Благодаря Второй мировой США приобрели неоспоримое коммерческое и технологическое лидерство, подобно Британии во время Наполеоновских войн.
Вскоре победители провели оценку и поняли, что разрушительное экономическое воздействие войны против Гитлера было вовсе не таким тотальным, как они думали сначала, даже в самой Германии. Бомбардировки унесли множество жизней, однако экономический ущерб от них был не таким большим, как ожидали их инициаторы. К маю 1945 года было разрушено чуть больше 20 % немецких промышленных предприятий; даже в Руре, на котором союзники сосредоточили большую часть бомбардировок, уцелели две трети всех заводов и оборудования. В других странах, например, в Чехии, промышленность и сельское хозяйство процветали под немецкой оккупацией и оказались практически невредимыми – Словакия, как и некоторые части Венгрии, пережила ускоренную индустриализацию в годы войны и фактически вышла из нее в лучшей форме, чем прежде.
Очень неравномерный характер ущерба, когда люди и жилища сильно пострадали, в то время как фабрики и товары были относительно целы, способствовал неожиданно быстрому восстановлению после 1945 года основных секторов экономики. Машиностроение процветало во время войны. Великобритания, СССР, Франция, Италия и Германия (а также Япония и США) вышли из войны с большим запасом станков, чем они имели ранее. В Италии серьезный ущерб был нанесен только авиационной и судостроительной промышленности. У машиностроительных фирм, расположенных на севере, вне зоны самых ожесточенных боев Итальянской кампании, дела шли довольно хорошо (как и в Первую мировую войну), их производство и инвестиции во время войны более чем компенсировали любой понесенный ущерб. Станкостроение на территории, ставшей Западной Германией, потеряло в результате военных действий всего 6,5 % своего оборудования.
Некоторые страны, конечно, и вовсе не столкнулись с военным ущербом. Ирландия, Испания, Португалия, Швейцария и Швеция оставались нейтральными на протяжении всего конфликта. Это не означает, что он их никак не затронул. Напротив, большинство европейских нейтральных стран были сильно вовлечены, хотя и косвенно, в военные усилия нацистов. Германия очень зависела от франкистской Испании[114] в плане поставок марганца во время войны. Вольфрам попадал в Германию из португальских колоний через Лиссабон. 40 % потребности Германии в железной руде в военное время удовлетворялось Швецией (поставлялась в немецкие порты на шведских кораблях). И все это оплачивалось золотом, большая часть которого была украдена у жертв Германии и переправлена через Швейцарию.
Швейцарцы не просто занимались отмыванием денег и проведением немецких платежей, что само по себе внесло существенный вклад в гитлеровскую войну. В 1941–1942 годы 60 % швейцарского производства боеприпасов, 50 % ее оптической промышленности и 40 % машиностроительной продукции производилось для Германии и оплачивалось золотом. Производитель огнестрельного оружия Bührle-Oerlikon по-прежнему продавала автоматические пушки вермахту в апреле 1945 года. В общей сложности германский Рейхсбанк разместил в Швейцарии золотой эквивалент 1 638 000 000 швейцарских франков во время Второй мировой войны. Именно швейцарские власти до начала конфликта просили, чтобы в немецких паспортах указывали, евреи ли их владельцы, дабы ограничить въезд нежелательных лиц.
В свою защиту швейцарские власти могли привести веские основания сохранять дружеские отношения с нацистами. Хотя высшее командование вермахта отложило разработанные в июне 1940 года планы по вторжению в Швейцарию, оно никогда не отказывалось от них. Опыт Бельгии и Нидерландов был мрачным напоминанием о судьбе, ожидающей уязвимые нейтральные государства, вставшие на пути Гитлера. По тем же причинам шведы расширили сотрудничество с Берлином, от которого они исторически зависели в плане поставок угля. Швеция занималась продажей железной руды Германии на протяжении многих лет. Еще до войны половина германского импорта железной руды поступала через Балтику, а три четверти всего шведского экспорта железной руды приходилось на Германию. В любом случае шведский нейтралитет долгое время больше благоприятствовал Германии из-за страха перед советскими амбициями. Сотрудничество с нацистами было привычным делом – разрешение на переброску 14 700 солдат вермахта в начале операции «Барбаросса», согласованное пересечение территории военными по пути из Норвегии домой в отпуск, отсрочка призыва для шведских рабочих на железных рудниках, чтобы обеспечить регулярные поставки в Германию.
После войны швейцарцы (но не шведы) сначала были объектом международных упреков как соучастники военных действий Германии. В Вашингтонском договоре от мая 1946 года они были вынуждены предложить «добровольный» взнос в размере 250 миллионов швейцарских франков на реконструкцию Европы для окончательного урегулирования всех претензий, связанных с операциями Рейхсбанка через швейцарские банки. Но к тому времени Швейцария уже была реабилитирована как процветающий остров финансовой честности: ее банки были высокорентабельны, ее фермы и машиностроение поставляли продовольствие и технику на нуждающиеся европейские рынки.
До войны ни Швейцария, ни Швеция не были особенно благополучными – в странах существовали значительные районы сельской бедности. Но лидерство, достигнутое ими в ходе войны, оказалось прочным: обе страны заняли первое место в европейской лиге и остаются там стабильно на протяжении четырех десятилетий.
В других местах путь к восстановлению был немного сложнее. Но даже в Восточной Европе, по крайней мере, экономическая инфраструктура восстанавливалась с поразительной скоростью. Несмотря на разрушительный эффект отступающего вермахта и наступающей Красной армии, мосты, дороги, железные пути и городская инфраструктура Венгрии, Польши и Югославии были восстановлены. К 1947 году транспортные сети и подвижной состав в Центральной Европе достигли довоенного уровня или даже превзошли его. В Чехословакии, Болгарии, Албании и Румынии, где разрушений, связанных с войной, было меньше, этот процесс занял меньше времени, чем в Югославии или Польше. Но даже польская экономика восстановилась довольно быстро – отчасти потому, что западные территории, отторгнутые у Германии, на самом деле были более плодородны и лучше обеспечены промышленными городами и фабриками.
В Западной Европе материальный ущерб также был возмещен с поразительной быстротой – быстрее всего в Бельгии, несколько медленнее во Франции, Италии и Норвегии, медленнее всего в Нидерландах, где больше всего вреда (фермам, дамбам, дорогам, каналам и людям) было нанесено в последние месяцы войны. Бельгийцы выиграли от привилегированного статуса Антверпена как единственного крупного европейского порта, более или менее уцелевшего к концу войны. На руку им была и высокая концентрация войск союзников в их стране: она обеспечивала постоянный поток твердой валюты в экономику, и долгое время страна специализировалась на угле, цементе и полуобработанных металлах – всем необходимом для восстановительных работ.
Положение Норвегии было значительно хуже. Половина жизненно важного рыболовного и торгового флота была потеряна в войне. Из-за преднамеренных разрушений, предпринятых немцами в ходе отступления, объем промышленного производства Норвегии в 1945 году составлял всего 57 % от уровня 1938 года при потере почти пятой части основного капитала страны. В последующие годы контраст со Швецией стал резать глаз озлобленных норвежцев. Но даже Норвегия смогла восстановить большую часть своей железнодорожной и шоссейной сети к концу 1946 года; и в течение следующего года, как и в остальных странах Западной и большей части Восточной Европы, нехватка топлива и плохие дороги больше не считались препятствием для восстановления экономики.
Однако наблюдателям того времени именно способность Германии восстановиться казалась самой примечательной. Нужно отдать дань уважения усилиям местного населения, которое работало с поразительной целеустремленностью, чтобы возродить свою разрушенную страну. В день смерти Гитлера в рабочем состоянии было 10 % немецких железных дорог. Страна буквально замерла. Год спустя, в июне 1946 года, было вновь открыто 93 % всех немецких железнодорожных путей и восстановлено 800 мостов. В мае 1945 года добыча угля в Германии составляла лишь одну десятую от уровня 1939 года; год спустя объем производства увеличился в пять раз. В апреле 1945 года Солу К. Падоверу, сопровождавшему наступление армии США в Западной Германии, казалось, что разрушенному городу Аахену несомненно потребуется 20 лет на восстановление. Но уже через несколько недель он фиксировал возобновление работы городских шинных и текстильных фабрик и начало новой экономической жизни.
Одна из причин быстрого первоначального восстановления Германии заключалась в том, что как только дома для рабочих были отстроены, а транспортные сети восстановлены, промышленность оказалась вполне готова поставлять товары. На заводе Volkswagen 91 % оборудования пережил бомбардировки военного времени и послевоенные грабежи, а к 1948 году завод выпускал каждый второй автомобиль в Западной Германии. Компания Ford в Германии практически не пострадала. Благодаря инвестициям военного времени, в 1945 году треть немецкого промышленного оборудования была не старше пяти лет, по сравнению с 9 % в 1939 году. А отрасли, в которые Германия в военное время инвестировала больше всего – оптика, химия, легкое машиностроение, автомобили, цветная металлургия, – заложили основы для бума 1950-х. К началу 1947 года главным препятствием на пути восстановления Германии был уже не военный ущерб, а, скорее, нехватка сырья и прежде всего неуверенность в политическом будущем страны.
Переломным должен был стать 1947 год, от него зависела судьба Европы. До этого люди были поглощены ремонтом и реконструкцией или же создавали институциональную инфраструктуру для длительного восстановления. В течение первых 18 месяцев после победы союзников настроение континента колебалось от облегчения при одной лишь мысли о мире и новой жизни до оцепенения и растущего разочарования перед лицом масштаба задач, которые ждали впереди. К началу 1947 года стало ясно, что самые тяжелые решения еще не приняты и откладывать их больше нельзя.
Начнем с того, что основная проблема – снабжение продовольствием – оставалась нерешенной. Нехватка продуктов была повсеместной, кроме Швеции и Швейцарии. Только запасы UNRRA, созданные весной 1946 года, спасли австрийцев от голода на 12 последующих месяцев. Калорийность рациона упала в британской зоне Германии с 1500 ккал в день на взрослого человека в середине 1946 года до 1050 ккал в начале 1947 года. Итальянцы, которые два года подряд страдали от голода – в 1945 и 1946 годах, – имели самый низкий средний показатель потребления продовольствия среди всего населения Западной Европы весной 1947 года. Во французских опросах общественного мнения, проводившихся в течение 1946 года, «еда», «хлеб», «мясо» постоянно оказывались на первом месте среди забот населения.
Часть проблемы заключалась в том, что Западная Европа больше не могла обращаться к житницам Восточной Европы, от которых традиционно зависела. Там тоже недоедали. В Румынии в 1945 году случился неурожай из-за неудачных земельных реформ и непогоды. На территории от Западной Валахии и Молдавии до Западной Украины и Среднего Поволжья СССР неурожаи и засуха почти привели к голоду осенью 1946 года: гуманитарные организации рассказывали о годовалых детях, весивших всего три килограмма, и сообщали о каннибализме. Сотрудники гуманитарных организаций в Албании описывали ситуацию как «ужасающее бедствие».
Затем наступила лютая зима 1947 года, самая суровая с 1880 года. Каналы заледенели, дороги неделями оставались непроходимыми, замерзшие участки парализовали целые железнодорожные сети. Начавшееся послевоенное восстановление застопорилось. Уголь, который все еще был в дефиците, не мог удовлетворить внутренний спрос и в любом случае не мог даже перевозиться. Промышленное производство рухнуло – производство стали, только что начавшее восстанавливаться, упало на 40 % по сравнению с предыдущим годом. Когда растаял снег, многие части Европы оказались затоплены. Несколько месяцев спустя, в июне 1947 года, наступил один из самых жарких и засушливых летних сезонов с начала наблюдений. Было ясно, что недород в некоторых странах случится уже третий год подряд: урожайность сельскохозяйственных культур упала примерно на треть даже по сравнению со скудным результатом прошлого года. Дефицит угля можно было частично восполнить за счет американского импорта (34 млн тонн в 1947 году). Продовольствие тоже можно было купить в Америке и британских доминионах. Но за этот импорт требовалось платить твердой валютой, обычно долларами.
В основе европейского кризиса 1947 года лежали две структурные трудности. Одной из них было фактическое исчезновение Германии из европейской экономики. До войны эта страна была основным рынком сбыта для большинства государств Центральной и Восточной Европы, а также Нидерландов, Бельгии и Средиземноморья (до 1939 года, например, Германия покупала 38 % греческого экспорта и поставляла около трети импорта страны). Немецкий уголь был жизненно важным ресурсом для французских производителей стали. Но пока политическое будущее Германии не было решено, ее экономика – весь восстановленный потенциал – оставалась замороженной, практически блокируя экономическое развитие остальной части европейского региона[115].
Вторая сложность касалась не Германии, а США, хотя эти проблемы были связаны. В 1938 году 44 % британского машиностроительного импорта в стоимостном выражении приходилось на США, 25 % – на Германию. В 1947 году эти цифры составляли 65 % и 3 % соответственно. Аналогичная ситуация была и в других странах Европы. Этот резко возросший спрос на американские товары был, по иронии судьбы, признаком подъема европейской экономической активности, но для покупки американских товаров или материалов требовались американские доллары. Европейцам нечего было продавать остальным странам; но без твердой валюты они не могли покупать еду, чтобы избежать голодной смерти миллионов людей, а также не могли ввозить сырье и машины, необходимые для развития собственного производства.
Долларовый кризис был серьезным. В 1947 году Великобритания, чей государственный долг увеличился в четыре раза по сравнению с 1939 годом, ввозила почти половину от общего объема своего импорта из США, и у нее быстро заканчивались наличные деньги. Франция, крупнейший в мире импортер угля, имела годовой платежный дефицит в торговле с США в размере 2049 миллионов долларов. В большинстве других европейских стран даже не было валюты для торговли. Инфляция в Румынии достигла своего пика в августе 1947 года. В соседней Венгрии инфляция была самой высокой за всю историю страны, намного превышая показатель Германии 1923 года: в своей высшей точке она достигла курса в 5 квинтиллионов (530) бумажных пенгё к доллару. К тому времени, когда в августе 1946 года пенгё было заменено форинтом, долларовая стоимость всех венгерских банкнот, находящихся в обращении, составляла всего тысячную часть цента.
В Германии отсутствовала настоящая валюта. Черный рынок процветал, и сигареты стали общепринятым средством обмена: учителям в лагерях для перемещенных лиц платили пять пачек в неделю. Стоимость блока американских сигарет в Берлине колебалась от 60 до 165 долларов, давая возможность солдатам американских оккупационных сил заработать серьезные деньги, конвертируя и реконвертируя свое табачное довольствие: в первые четыре месяца оккупации американские войска в Берлине отправили домой на 11 миллионов долларов больше, чем получили в виде заработной платы. В Брауншвейге можно было купить велосипед за 600 сигарет – вещь, необходимую в Германии не меньше, чем в Италии, как показано в незабываемом фильме Витторио де Сика «Похитители велосипедов» 1948 года.
Серьезность европейского кризиса не ускользнула от внимания американцев. Как мы увидим, это одна из главных причин, по которой они настаивали на решении германской проблемы, с советским участием или без него. По мнению хорошо информированных советников президента, таких как Джордж Кеннан, Европа весной 1947 года балансировала на грани. Разочарование западных европейцев, которых изначально побудили ожидать более быстрого восстановления и возвращения к нормальным экономическим условиям, и отчаяние немцев и других центральных европейцев, усугубляемое непредвиденным продовольственным кризисом 1947 года, могли только усилить привлекательность коммунизма или же риск сползания в анархию.
Привлекательность коммунизма была реальной. Хотя коммунистические партии Италии, Франции и Бельгии (а также Финляндии и Исландии) оставались в правящих коалициях до мая 1947 года, через профсоюзы и народные демонстрации они смогли мобилизовать народный гнев и извлечь выгоду из провалов собственных правительств. Электоральные успехи местных коммунистов, в сочетании с репутацией непобедимости Красной армии, заставили итальянский (или французский, или чешский) «путь к социализму» казаться правдоподобным и соблазнительным. К 1947 году 907 000 мужчин и женщин вступило во Французскую коммунистическую партию. В Италии цифра составляла два с четвертью миллиона – гораздо больше, чем в Польше или даже в Югославии. Даже в Дании и Норвегии каждый восьмой избиратель поначалу был привлечен обещанием коммунистической альтернативы. В западных зонах Германии союзные власти опасались, что ностальгия по лучшим дням нацизма вместе с реакцией на программы денацификации, нехваткой продовольствия и повсеместной мелкой преступностью могут сыграть на руку неонацистам или даже Советам.
Возможно, западноевропейским государствам повезло, что их коммунистические партии весной 1947 года еще шли умеренным, демократическим путем, принятым в 1944 году. Во Франции Морис Торез все еще призывал шахтеров к «производству». В Италии британский посол характеризовал Тольятти как оказывающего сдерживающее влияние на более «горячих» социалистических союзников. По собственным причинам Сталин еще не поощрял своих многочисленных сторонников в Центральной и Западной Европе к использованию народного гнева и разочарования. Но даже при этом всем призрак гражданской войны и революции бродил неподалеку. В Бельгии наблюдатели союзников характеризовали общинную и политическую напряженность как серьезную и обозначили страну как «нестабильную» – вместе с Грецией и Италией.
Во Франции экономические трудности зимы 1947 года уже привели к народному разочарованию в новой послевоенной республике. Согласно французскому опросу общественного мнения от 1 июля 1947 года, 92 % опрошенных считали, что дела во Франции идут «плохо или скорее плохо». В Великобритании канцлер казначейства от лейбористской партии Хью Далтон, размышляя о сдувшемся энтузиазме первых послевоенных лет, признавался в своем дневнике: «Больше никакого яркого уверенного утра». Его французский коллега Андре Филипп, социалист и министр национальной экономики, более драматично высказался по этому поводу в своей речи в апреле 1947 года: «Нам угрожает тотальная экономическая и финансовая катастрофа».
Это чувство безнадежности и надвигающейся катастрофы витало повсюду. «На протяжении последних двух месяцев, – сообщила Джанет Фланнер из Парижа в марте 1947 года, – в Париже атмосфера несомненного и растущего недовольства, а может быть, и во всей Европе, как будто французы или все европейцы ожидали чего-то или, что хуже, ничего не ожидали». Европейский регион, как она заметила несколькими месяцами ранее, медленно вступал в новый ледниковый период. Джордж Кеннан согласился бы с этим. Шесть недель спустя в меморандуме Штаба политического планирования[116] он предположил, что реальная проблема заключалась не в коммунизме, а если и в нем, то только косвенно. Истинным источником европейского недовольства, по его мнению, стали последствия войны и того, что Кеннан назвал «глубоким истощением физических и духовных сил». Препятствия, с которыми столкнулись жители Европы, казались слишком большими теперь, когда завершился первоначальный всплеск послевоенных надежд и восстановления.
Гамильтон Фиш, редактор Foreign Affairs, влиятельного журнала американского внешнеполитического истеблишмента, описал свои впечатления от Европы в июле 1947 года: «Всего слишком мало – слишком мало поездов, трамваев, автобусов и автомобилей, чтобы возить людей на работу вовремя, не говоря уже о том, чтобы возить их в отпуск; слишком мало муки, чтобы испечь хлеб без примесей, и хлеба все равно не хватает для того, чтобы накормить тех, кто занимается тяжелым трудом. Слишком мало бумаги для газет. Ее хватает, чтобы сообщать лишь часть мировых новостей. Слишком мало семян для посадки и слишком мало удобрений; слишком мало домов для жилья и недостаточно стекла для окон; слишком мало кожи для обуви, шерсти для свитеров, газа для приготовления пищи, хлопка для подгузников, сахара для джема, жиров для жарки, молока для младенцев, мыла для мытья».
Сегодня среди ученых широко распространено мнение, что при всей мрачности того времени первоначальное послевоенное восстановление, а также реформы и планы 1945–1947 годов заложили основу для будущего благополучия Европы. И разумеется, по крайней мере для Западной Европы 1947 год действительно стал поворотным пунктом в восстановлении. Но в то время ничего из этого не было очевидным. Наоборот. Вторая мировая война и ее неопределенные последствия вполне могли предрекать окончательный упадок Европы. Конраду Аденауэру, как и многим другим, масштабы европейского хаоса казались еще страшнее, чем в 1918 году. Помня об ошибках, допущенных после Первой мировой войны, многие европейские и американские наблюдатели опасались худшего. В лучшем случае, подсчитали они, странам предстояли десятилетия бедности и борьбы. Немецкие жители американской оккупационной зоны ожидали, что пройдет не менее двадцати лет, прежде чем их страна восстановится. В октябре 1945 года Шарль де Голль повелительно заявил французскому народу, что потребуется двадцать пять лет «бешеной работы» для возрождения Франции.
Но задолго до этого, по мнению пессимистов, континентальная Европа снова погрязнет в гражданской войне, ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■[117]. Когда госсекретарь США Джордж Маршалл вернулся 28 апреля 1947 года с московской сессии Совета министров иностранных дел, разочарованный советским нежеланием сотрудничать по вопросу Германии[118] и потрясенный увиденным экономическим и психологическим состоянием Западной Европы, он ясно понимал, что нужно немедля предпринять что-то. И судя по пассивному, обреченному настроению в Париже, Риме, Берлине и других местах, инициатива должна была исходить из Вашингтона.
План Маршалла по созданию Программы восстановления Европы, обсуждаемый с его советниками в течение следующих нескольких недель и обнародованный в знаменитой приветственной речи в Гарвардском университете 5 июня 1947 года, был значимым и уникальным событием. Но он возник не на пустом месте. Между окончанием войны и объявлением «плана Маршалла» Соединенные Штаты уже потратили многие миллиарды долларов на субсидии и кредиты для Европы. До сих пор главными бенефициарами были Великобритания и Франция, которые получили 4,4 миллиарда долларов и 1,9 миллиарда долларов в виде займов соответственно, но и остальные не остались с пустыми руками – займы Италии превысили 513 миллионов долларов к середине 1947 года, Польша получила 251 миллион долларов, Дания – 272 миллиона долларов, Греция – 161 миллион долларов, и многие другие страны также были в долгу перед США.
Но эти кредиты служили для того, чтобы заткнуть дыры и справиться с чрезвычайными ситуациями. Американская помощь на тот момент использовалась не для реконструкции или долгосрочных инвестиций, а для оплаты самых необходимых поставок, услуг и ремонта. Кроме того, кредиты, особенно крупным западноевропейским государствам, выдавались с определенными условиями. Сразу же после капитуляции Японии президент Трумэн неосмотрительно отменил соглашения о ленд-лизе военного времени, в результате чего Мейнард Кейнс в меморандуме для британского правительства от 14 августа 1945 года заявил, что страна столкнулась с «экономическим Дюнкерком»[119]. В течение следующих месяцев Кейнс успешно провел переговоры о солидном американском кредите, получив доллары, которые были нужны Великобритании для покупки товаров, уже недоступных по ленд-лизу. Но американские условия были нереалистично жесткими – особенно требование, чтобы Великобритания отказалась от имперских преференций для своих заморских владений, отказалась от валютного контроля и сделала фунт стерлингов полностью конвертируемым. В результате, как и предсказывали Кейнс и другие, последовал первый из многих послевоенных скачков британского фунта, быстрое исчезновение британских долларовых резервов и еще более серьезный кризис в следующем году.
Условия кредита, согласованные в Вашингтоне в мае 1946 года между США и Францией, были лишь немного менее тяжелыми. Помимо списания 2,25 миллиарда долларов военных займов, французы получили сотни миллионов долларов в виде кредитов и обещания займов под низкие проценты в будущем. Взамен Париж обязался отказаться от протекционистских квот на импорт, предоставив более свободный доступ американским и другим иностранным товарам. Подобно британскому кредиту, это соглашение было разработано отчасти для того, чтобы продвинуть вперед повестку США о более свободной международной торговле, открытых и стабильных валютных курсах и более тесном международном сотрудничестве. На практике, однако, деньги кончились в течение года, и единственным среднесрочным наследием стало растущее народное недовольство (в значительной степени эксплуатируемое левыми) по поводу использования Америкой своих экономических мускулов.
