Четвёртая столица
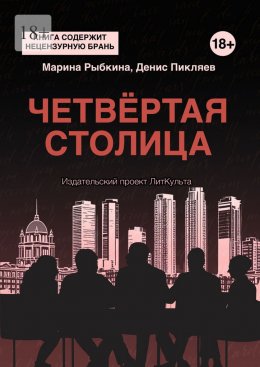
Дизайнер обложки Яна Малыкина
© Марина Рыбкина, 2025
© Денис Пикляев, 2025
© Яна Малыкина, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0068-5544-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Авторы благодарят
Яну и Эдуарда Малыкиных, без помощи которых публикация повести была бы просто невозможна;
пристрастных и остроглазых редакторов текста, прежде всего замечательного мастера слова Ерофееву Ольгу;
весь портал ЛитКульт, от редакции до всех участников проекта, особенно Вадю Голимого и Дарью Хохлову – за неоценимый вклад в создание повести;
недоброжелателей, подаривших сюжету остроту и типажи;
нетерпеливых читателей, тормошивших нас: «а дальше?», «когда следующая глава?», «где продолжение?»;
и всех, кто найдет пару вечеров, чтобы дойти с героями до финала.
ЧАСТЬ I. ЛИТО
Глава 1. ХМУРОЕ УТРО
Утра Несветаева не любила. Заснуть ей удавалось только после четырёх, и вся эта бодряческая музыка: лязг трамваев и визг тормозов под окнами, низвергающиеся с рокотом ниагары в соседских клозетах, хлопанье дверьми, окрики из окон вслед что-то забывшим растяпам, гавкотня выгуливаемых собак и раздружившихся соседок – её бесила.
Сегодня ей надо было в ЖЭК. Читать Бодлера согнанным домовым активом пенсионеркам:
«…Всё празднества греха, от преступлений сладких
До ласк, убийственных, как яд,
Всё то, за чем в ночи, таясь в портьерных складках,
С восторгом демоны следят».
Как они возмущённо станут хлопать откидными сиденьями вытащенных из жэковской каптерки советских стульев! Два задрота на исходе мучительного пубертата, затащенные в красный уголок своими бабками, желающими «приобщить внуков к культуре». Одна средних лет сотрудница, пожертвовавшая обеденным перерывом.
«Съедать по сердцу в день – таков девиз твой гнусный.
Зазывные глаза горят, как бар ночной,
Как факелы в руках у черни площадной», – и вдруг Несветаева срывающимся голосом примется рассказывать им вдогонку, этой черни площадной, которой она, в общем, сочувствовала, жалея за убожество. Сообщит этим пасынкам птиц о том, что всю свою сорока-с-чем-то-летнюю жизнь Шарль рвался служить высокому, мучительно искал идеал, раздваивался между ужасом перед жизнью и восторгом от неё же… Несветаева заплакала.
Она старела, да. Её ледяной панцирь, её броня всё чаще таяла и сочилась. Несветаева ненавидела себя в такие минуты. Она не терпела слякоти ни в других, ни в себе.
Девочки не плачут. Вот.
На девочку Несветаева не тянула уже давно, лет тридцать пять, а то и больше. Объёмистая, как том Толстого, скучная, как многостраничные описания рязанских пейзажей, неухоженная, как заброшенная усадьба разорившихся помещиков, с вороньим гнездом на голове и обломком расчёски в потёртых глубинах большой сумки, в которой с незапамятных времён лежали: высохшая губнушка, клетчатый носовой платок, так и не побывавший в деле дежурный презерватив с истёртыми буковками на конвертике и прямошлицевая отвёртка – подтягивать сломанные бегунки на молниях.
В этом городишке не было ни одного человека, кто помнил бы Несветаеву молодой и красивой.
Тело её влачило сиротскую долю. «Как же ты смеешь жить? – Словно говорило оно своей хозяйке. – После того, как он…»
Она никогда не разрешала себе договорить эту фразу.
Несветаева похрустела суставами артритных пальцев, резко села в кровати – так, что в глазах начался снегопад. Сунула узкие ступни в войлочные тапки и поплыла в маленькую кухоньку поставить джезву на плиту. Зажгла газ и нырнула в ванную.
Как не хочется в ЖЭК! Но Конотоп с таким трудом устраивал ей эти копеечные подработки!
– Лиза, умоляю, ты же знаешь, как рвалась туда Алёна Гомеровна, у неё и диплом позволяет; я еле отговорил управдомшу от Гомеровны, сказал, она своей монотонностью мух на лету усыпляет, – молитвенно воздевал руки и закатывал возмутительно, не по его летам, синие глаза Зигфрид (откуда он взялся в её жизни, Несветаева уже не помнила, но ценила, что можно иногда прислониться к чьему-нибудь плечу, более широкому даже, чем у неё). – Ну будь ты человеком, сходи! Хоть колготки себе купишь!
Несветаева, вспомнив их последний разговор, потянулась к верёвке. Пощупала следки – нет, не досохли. Змея полотенцесушителя оставалась холодной с начала сезона. Надо будет заодно поскандалить в ЖЭКе, решила Несветаева. Но вначале она распишется в выплатной ведомости.
Вздохнув, Несветаева напялила брюки. Она не любила одежду на поясе, когда пуговица вдавливается в пупок.
Выбрала свитер подлиннее, чтобы прикрыть, как любят обозначать в женских журналах, «зыбкое место» (Несветаеву забавлял этот гламурный эвфемизм, она обычно выражалась прямо, называя любые, самые необсуждаемые в обществе вещи своими именами).
В крайнем случае, это можно назвать всем понятным словом «дырка».
Распечатанное на принтере фото на стене змеилось ухмылочкой, как те, из портьерных складок. И всё же лицо на портрете было добрее, чем зеркало.
На груди не застегнулось – не сошлось из-за свитера. На тонкую бы блузку! Несветаева заправила под пальто конец шарфа – так не продует.
Наконец, сборы были закончены. Несветаева вышла с запасом времени, что-нибудь закинуть в кишку, чтобы не урчала во время лекции. Через улицу стояла вареничная.
Несветаева подёргала ручку – дверь не поддалась.
– Ладно, часик вытерплю, – решила так и не позавтракавшая лекторша и двинулась к облезлой сталинке, в цоколе которой размещалась кормившая её иногда жилищная контора.
В ЖЭКе она столкнулась с Гомеровной.
Свежее каре, седина закрашена, маникюр – от Алёны несло парикмахерской. Одета тщательно – учительская привычка быть образцом.
– Василькова, – окликнула она Несветаеву по печатному псевдониму. В лито к Несветаевой обращались исключительно так. Разве что за вычетом Конотопа, да он и имя её знал – необъяснимая посторонним степень близости.
– Василькова, кому подлизываешь лекции у меня уводить? Ты ж даже не филолог, уж не говорю поэт.
Алёна Гомеровна была обладательницей диплома пединститута и каких-то курсов повышения квалификации, а также входила в методобъединение русистов при гороно. Иногда ей удавались стихи, но читатель явственно ощущал пот, который излила прилежная авторша при их создании, перелопатив уйму литературы и усеяв текст надо и не надо именами собственными, историческими датами, названиями марок одежды и напитков, которые на слуху, названиями модных курортов и нашумевших спектаклей, обрывками узнаваемых либо неузнаваемых чужих стихов – короче, всем, что должно было выказать недюжинную эрудицию Гомеровны.
Тут Несветаевой крыть было нечем – с её в простенькой одежонке стихотворениями, единственным источником которых была мучившая её уже много лет бессонница.
Три академические справки из разных вузов, включая – в этом месте не смеяться, авторам и так больно! – политех, промышленное и гражданское строительство, да любовь к библиотечным залам – вот и весь несветаевский образовательный багаж.
– Алёна, и тебе здравствуй, – коротко ответила она и боком протиснула свои обильные плечи в дверь красного уголка.
Гомеровна была ещё ничего. Не такая ядовитая (остроты ей, что ли, не хватало?), как Тамерлан Топорищев. Тот, вроде, и похвалит иногда – но так, что весь день во рту металлический привкус. Тамерлан вёл род от самого. Того, в честь которого был назван. Ну так он говорил, а оспаривать никто не решался.
Ещё он гордился знакомством с режиссёром Йозелиани и тем, что пил чай с Липочкой Бриг на исходе её долгой и насыщенной жизни. У Тамерлана даже случилась публикация в настоящем толстом журнале в незапамятные времена, когда напечататься ещё чего-то стоило, но платить было не надо.
«В целом стих написан неплохо – начинал Тамерлан. – Понимаете, но он калька со стихов… (здесь перечислялись фамилии вошедших в хрестоматии поэтов второго эшелона) и прочих. Стоны. Мы на этом празднике чужие… звон гитарный…
Будь эти стихи написаны в 20-е годы прошлого века, еще ничего – да и то, как писал Есенин о Клюеве (несправедливо) «и в клетке сдохла канарейка».
Чтобы критика была продуктивной, я тоже не хочу здесь всё перечёркивать, ничего не предлагая, но что предложить-то?
Переписать всё? Наверное, да», – отправлял гордый потомок очередной несветаевский текст в урну с прахом прочих юных и не очень дарований.
Несветаева никогда ничего не переписывала. Как ничего не «улучшала» в своём облике, чтобы кому-то понравиться.
Я звучу, как гармонь-двухрядка:
Обнимай меня, разжимай меня —
Всё равно пою одинаково.
На ноте упадка.
Как пластинка на патефоне —
Застревая всё в той же трещинке.
Поскрипит, постонет, утонет —
Заезженная.
Или шестистрункой подъездной,
Подбирает мальчишка гордо
К незамысловатой песенке
Три аккорда.
…
Я б хотела виолончелью
Под смычком самого Бога.
Только голоса нет. Ну чем мне?
Убого, – смиренно отвечала она на критику.
Погружённая в не самые приятные мысли, Несветаева вывела для себя, что думать на полный желудок не столь тягостно и вновь отправилась в вареничную.
Глава 2. НЕ ЧЕХОВ
Гудрон Карлович Чеков ворвался в литературную жизнь Рунета около двух лет назад, выйдя в отставку. Он считал себя писателем если не выдающимся, то вполне талантливым и уж точно плодовитым.
Плодоносил Чеков регулярно.
И орошал водопадом своего прозаического гения все отыскавшиеся в браузере литературные порталы.
На литресурсах Гудрона Карловича встречали не только с пониманием, но и с исключительным пиететом, выраженным в сухом, как надтреснутый кашель, молчании – ни одного комментария, хотя бы и злобного.
«Знают, с… ки!» – злорадно отмечал про себя Чеков.
В очередной раз совершая обход интернет-изданий, посвящённых словесности, Гудрон Карлович, к неудовольствию своему, обнаружил, что редактор какого-то мелкого портала (кажется, «КУЛЬТ Я») обратил на его величавую персону особое внимание и задал Чекову неуместный вопрос о его дописательском прошлом.
Гудрон Карлович со свойственной ему фанаберией ответил. Редактор не остался в долгу. Затем к беседе подключился ещё один функционер. Дискуссия перешла в пикировку. Посетители давно дремавшего портала обратили внимание на внезапную активность и стремительно удлинявшуюся ленту каментов. Лёгкая пикировка переросла в обмен крайними нелюбезностями. Гудрон Карлович попытался гордо уйти, громко хлопнув дверью. Дверь не желала закрываться и пребольно саданула Чекова по филейной части.
На следующий день писатель готовился к предстоящей битве, пил коньяк из толстостенного стакана и собирался с мыслями. Мысли разбегались и, испуганные предстоящей работёнкой, прятались в потаённых уголках вскипавшего разума.
Вечернее посещение портала не принесло облегчения. Гудрона Карловича редгруппа «культи» (как переименовал её разобиженный Чеков) упорно называла графоманом, Чекову хамски предлагали оставить писательскую стезю и больше читать, в особенности классиков. Читать Чеков не любил, справедливо полагая, что настоящему таланту не стоит терять попусту время на мысли уже давно почивших в бозе людей.
Так прошёл ещё один день, за ним другой.
Битвы с нежелающим признавать своё интеллектуальное поражение противником захватили всё свободное время Гудрона Карловича. Чеков поднаторел в колких замечаниях и укрепил броню собственной твердолобости до предела.
Дни сменялись неделями. Недели – месяцами.
Как-то Гудрон Карлович, сидя за кухонным столом и поглощая питательный завтрак, обнаружил, что стол шатается. Под ножку для устойчивости конструкции когда-то была подложена книга, но от времени и тяжести обильно накрываемого стола просела. Чеков наклонился и сцапал фолиант. Оглядел. На обложке красовалось: «А. П. Чехов». Гудрон Карлович хмыкнул и…
Очнулся только, когда прочитал напечатанное от корки до концевого титула. И даже выбитую надпись «46 копеек» на задней крышке переплёта.
«Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!»
А. П. Чехов. – в голове Чекова высвечивалось, наподобие лампочек на старых вывесках, только что прочитанное.
Руки тряслись, горло душили ужасные предчувствия, как будто где-то вдалеке умирал кто-то близкий.
Кинулся к компьютеру и углубился в собственные тексты.
Ему стало горько. Стыдно. Зябко.
Гудрон Карлович решительно втопил палец в кнопку DELETE, с безраличием демиурга (враньё) наблюдая, как пустота экрана безвозвратно поглощает созданные им за многие годы густонаселённые миры.
Отвалившись от компьютера уже за полночь, Чеков вмазал прямо из горла положенную награду, активно заработав кадыком. Вытер влажные губы тыльной стороной ладони, удовлетворённо крякнул – Чеков привык писать речевыми оборотами, усвоенными из вороха прочитанного в школьном детстве, проще говоря – штампами.
Авторы поразмыслили и тоже позволили себе. Не в смысле «заработать кадыком и удовлетворённо крякнуть», а так – пошалить с речевой характеристикой героя.
Казнь состоялась – Чеков всё-таки смог убить в себе писателя.
Гудрон Карлович улыбнулся и отправился на боковую, бережно лелея одну занимавшую его сознание идею.
Утро застало Чекова в ванной комнате улыбающимся и насвистывающим под нос какую-то простецкую и бравурную мелодию. Гудрон Карлович до синевы выскоблил туповатой безопаской свой тяжёлый подбородок сорокалетнего мужчины, притушил горящие щёки едким цветочным одеколоном, подаренным его супругой в незапамятные времена, и вышел в разнообразный шум улицы.
Сачканувшая в этом году от прямых обязанностей зима раздражала жителей захолустного городка с древним топонимом Верхнее Захолустье неустойчивой погодой. То по оголившимся тротуарам гнало сухую метель, больше состоявшую из пыли, нежели снега, то солнце вытапливало серую наледь, лизало грязную корку редких оседающих сугробов, грело заспанные лица обывателей (авторы ни в коем случае не вкладывают уничижительных коннотаций в это слово).
Гудрон Карлович погодой был доволен всякой и по-котовьи зажмурился и двинул до ближайшего проулка. Перешёл по облезлым широким полосам на другую сторону дороги и повлёкся куда-то, держа за ориентир крест с косым подножием на башне местного кремля.
«Куда-то» оказалось выщербленным одноэтажным зданием с облупленной вывеской «Вареничная».
Чеков, молодецки гикнув, дёрнул за латунную ручку-скобу и вошёл в тёмный зёв открывшегося проёма.
Глава 3. «ВАРЕНИШНАЯ»
Название «вареничная» Чеков упорно произносил через «ша» (получалось «варенишная»), ему казалось, что только так и нужно говорить про любимое его питейное заведение. Гудрон Карлович упорно обходил стороной новомодные бары и забегаловки с претенциозными названиями на крикливых вывесках – особливо набранными латиницей, мало уместной в городке, где единственными иностранцами были таджики, коловшие ломиками лёд у подъездов. Да и в «варенишную» он был не частый ходок, резонно полагая, что дома выпивать сподручнее. А в заведение заглядывал по большим праздникам.
Сегодня был именно такой день. Большой праздник для Чекова.
Гудрону Карловичу нравилось в «варенишной» буквально всё. И стены, местами утратившие цветную плитку облицовки, равно как ровесники этой общепитовской точки растеряли уже природные зубы, заменив их оплаченной собесом пластмассой. И вытянувшаяся в пол-окна в поисках солнца герань, и выцветшие от времени шторы в когда-то жизнерадостный горошек.
Чеков чувствовал расположение к посетителям заведения: простым работягам и многое повидавшим женщинам. Сюда не захаживали успешные и молодые. Здесь собирались после смены обычные жители Верхнего Захолустья в надежде порадовать себя гостовскими варениками и милой всякому, без этнических различий, желудку русской водочкой.
Чеков встал в хвост небольшой очереди и удивился, что «варенишная» (прежде она была рюмошной, и авторы, разделив верхне-захолустинскую трапезу с героями, позволят себе сбиваться с названия на название) пустовата против обыкновения. Очередь быстро иссякла, и перед Чековым уже маячила одинокая спина, судя по покрою пальто, некой дамы.
Дама была медлительной и неуклюжей (про таких в листовках Лизы Аллерт пишут: «дезориентирована») и умудрилась, чуть попятившись с подносом, наступить Чекову на ногу. Чеков взвыл и полирнул лучшим из своих ругательств. Тирада была столь замысловата, что оглянувшаяся на голос дама даже приоткрыла рот и начала что-то шептать себе под нос, как бы зазубривая услышанное, чтобы впоследствии применить его.
Чеков сосканировал одутловатое лицо с когда-то приятными, по всей видимости, чертами. Во взгляде незнакомки перемежались испуг и печаль, как будто прописавшиеся там давно. Выражение её глаз не было реакцией на брань, а, скорее, окончательным диагнозом окружающему миру. Чеков тотчас почувствовал себя крайне неуютно и продолжил, уже не используя непечатную лексику:
– Ну, это… вы поаккуратней там, ага.
Дама печально улыбнулась в ответ, произнесла опять же под нос какие-то извинения, продвинула свой поднос дальше по ленте раздачи.
Продавщица, баба Юля, слыла женщиной хоть и язвительной, но доброй. Когда у неё бывало хорошее настроение, она даже отпускала в долг. Правда, однократно, если кто-то тянул с отдачей. И память у бабы Юли была дай бог каждому. Она явно знала несуразную даму, коротко ей кивнула и назвала сумму заказа.
Гудрона Карловича обрадовал этот кивок: «Ага, свои, значит». Также Чеков отметил, что на подносе у отдавившей ему ногу посетительницы стоит ровно то же, чем и сам он собирался отобедать: вареников в суповой тарелке было доверху, а маленький графинчик с прозрачной жидкостью весело перемигивался с зайцами бликов на алюминиевой поверхности прилавка.
«Пшеничная» – не усомнился Чеков.
Печальная дама отошла и заняла круглую стойку недалеко от мутного окна. Чеков с минуту подумал, добавил к своему заказу стакан компота из сухофруктов, расплатился и почему-то отправился к столику, который уже занимала дама, хотя свободных в зальчике оставалось не меньше пяти.
Чеков посмотрел на печальную и примирительно предложил:
– Ну, это… Выпьем?
Печальная дама повеселела, даже улыбнулась. Улыбка, впрочем, тоже вышла с грустинкой и даже каким-то извиняющимся подтекстом. Кивнула, молча плеснула из своего графинчика Чекову и себе; не дожидаясь, пока Чеков возьмётся за стопку, чокнулась и запрокинув голову, в глоток осушила рюмку. Схватила освободившейся рукой вилку, неловко погоняла в миске ускользавшие вареники и, наконец, пригвоздила одну варенину ко дну тарелки, подняла на алюминиевой рогатине с погнутым зубцом и отправила в рот.
Далее внушительным указательным пальцем отёрла уголки рта и опять молча уставилась на Чекова.
Гудрон Карлович добродушно хмыкнул, сам подхватил стопку, так же ловко, как незнакомка, опорожнил ёмкость и, не закусив, представился.
– Гудрон Чеков, – произнес он по-военному отрывисто и чётко и вперил взгляд в даму, предполагая, что та вежливо назовется сама.
Дама опять смутилась и прошелестела:
– Рогнеда Василькова.
Чеков недоумённо посмотрел на сотрапезницу и засмеялся:
– Во тебя, мать, занесло! Разве так людей называют? Ро-гне-да-ва-силь-ко-ва, – по складам произнёс он, противно растягивая гласные.
– Ну да, Рогнеда Василькова, но это я для дела так, а по паспорту Несветаева, – попыталась оправдаться дама.
– Ну вот, фамилия как фамилия, это я понимаю. А звать как?
Василькова-Несветаева не поднимая глаз, отчего-то сбиваясь, произнесла:
– Л-л-л-иза.
– Ага, значит так, Несветаева Елизавета.
– За что предлагаете? – Несветаева-Василькова свернула тему и подвинула рюмку к Чекову. Тот плеснул.
– А на помин души. Убил я тут вчера одного, – протянул Чеков весело и вмазал.
– Человека убили?! – одновременно устрашаясь и сострадая, воскликнула Несветаева.
– Да если б человека! Писателя, – криво улыбнулся Гудрон Карлович и указательным пальцем пронзил воздух у себя над головой. – Разве ж писатели люди? Писатели – это писатели, а люди… – он развел руками, ища подходящую формулировку. – А люди – это люди. Не надо, понимаешь, путать.
– Но писатель тоже человек. С руками, с ногами… С сердцем, наконец, – неуверенно возразила Несветаева.
– Да нет, ты не поняла, – рассмеялся Чеков, – я в себе убил писателя. Понимаешь, вчера понял, что писатель из меня никудышный. Ферштейн?
– Понимаю.
– Ну вот. Вчера с этим покончил, а сегодня отмечаю.
– А вы…
– Не выкай мне, – поправил Чеков, – давай на ты, по-простому, по-нашему, без затей.
– Так сразу я не могу. Перейти «на ты» – это всё равно что в постель, это очень интимно. Позвольте уж мне следовать своей привычке, – Несветаева забеспокоилась, что прозвучало не особенно дружелюбно. Но не знала, как поправить впечатление.
– А с чего вы взяли-то, что вы писатель плохой? – помолчав, участливо спросила она. – Злые люди сказали?
– Да нет. Сам дошёл. Ты знаешь, писал ведь много лет, бывало, и хвалили. А тут перечитал – и вдруг как глаза открылись: такая помойка. Зачем эти буквы, зачем слова? Никого они не меняют. Ни читателя, ни того, кто пишет. Скотами и остаёмся.
Чеков, не спрашивая, уже из своего графинчика плеснул Несветаевой и себе, и, не чокаясь, будто и вправду на поминках, выпил.
– Ну, понимаешь, писателишки сейчас, ну, такие… – Чеков задумался.
– Какие такие?
– Да измельчали, что ли, не знаю. Я тут намедни Антон Палыча читал. Оптика и поменялась.
– Ну, это да… – поняла Несветаева. – Вы знаете, Чеков, а я ведь сродни вам, пишу, писательница и поэтесса.
– Настоящая? – крайне заинтересованный, Чеков сощурил свои серые глаза.
– Всамделишная, – подтвердила Лизавета и продолжила: – Чем дальше жить думаете?
– Эх, где наше не пропадало! – Перековеркал он поговорку. – Погоны-то я пару лет как снял. На завод пойду. В самый раз работа для нормального мужика. Не одрябнешь.
Несветаева присмотрелась к Гудрону Карловичу. Выглядел он крепким, был подтянут, спина прямая. Что там про погоны? Да, военная выправка видна. Но где служил, уточнять не стала.
«Этот как раз на заводе закрепится», – подумала Несветаева, а вслух сказала:
– Вы, может быть, слышали, Гудрон, про литературное общество – «Под куй Пе га са»?
– А-а-а, конечно, слышал. Известные тунеядцы и прожигатели жизни. Самокоронованные короли литературных посиделок.
– Зачем же вы так резко? Есть среди них и вполне приличные люди. И словом владеют. Хотите, познакомлю? Оцените сами, не по слухам.
Чёртики заплясали в глазах Чекова:
– А давай! Вот сейчас допьём – и погнали! Где знакомить собираешься?
– У нас сегодня мероприятие в одном модном заведении… Но туда ещё рано. К четырём приглашали.
Чеков отправился за новым графинчиком. Двумя. Баба Юля расплылась в улыбке, обнажив железные резцы.
Следующие полтора часа промелькнули незаметно для собеседников. Чеков дважды ненадолго отлучался – по малой нужде и расплатиться за очередной графинчик.
Взяв пресловутый графинчик и себе, авторы без труда подслушали разговор этой нелепой пары.
– Тебе вообще доверять-то можно? – спросил, вернувшись с раздачи с новой порцией горячительного, Гудрон, всегда ценивший в людях, особливо женщинах, умение держать дистанцию, если только оно не переходило в высокомерие, которое отставник беспощадно презирал. Поначалу его раздражало «выканье» случайной собеседницы, но Лиза держалась так просто, что он невольно почувствовал расположение к ней, несмотря на некоторую карикатурность её внешности.
А сегодняшнее употреблённое до того благостно легло на вчерашнее принятое, что расположило Гудрона к разговору по душам.
– Я иной раз и себе-то не особо доверяю, – после некоторого раздумья произнесла Несветаева.
– Если человек в себе хоть малость сомневается, он ещё не совсем пропащий, – удовлетворённый ответом Чеков отсалютовал стаканом.
– А вы?
– О, мне можно доверять всецело – в этом нет никаких сомнений!
Писатели – всамделишная и самоубиенный – весело рассмеялись.
– Эх, Лиза, – понимая, что ступает на тонкий лёд, осторожно начал Гудрон, – не кажется ли тебе, что литература не выживает в Верхнем Захолустье? – Чеков демонстративно обвёл взглядом сумрачное помещение вареничной. – Свету здесь не хватает. Под тусклым солнцем трудно зреют…
Лиза отпрянула от собеседника, будто обжёгшись о незаконченную, определённо слышанную ею прежде, фразу.
– Киснем, как молоко, – сбившись, недоумённо продолжил Чеков. – Прозябание.
– Прозябание – это внутреннее, от внешнего не зависит, – неожиданно твёрдо возразила Несветаева. – И в столицах можно… жизнь… в никуда. «Чего ты ждал? Того ли ты достиг? Плетёшься ты среди таких же ждущих… Разве ты заметил, Как он прошёл, единственный твой день?»
Лиза с надеждой всматривалась в лицо своего визави, но нет, он не уловил. Не читал, значит. Да это и не печаталось, наверное.
– Да я не о том! – махнул с досадой Гудрон. – Не думаешь, что пора расширить горизонты? Может, податься куда? Мир посмотреть.
– Вы предлагаете миграцию в более плодородные места? – голос Несветаевой стал жёстким.
– Чур тебя! Совсем тут с мыслями о загранице кукухой поехали! Нет, – отчеканил Чеков, зло и безапелляционно: – я, Лиза, Родину люблю. И ни за какие коврижки. Ни за какие, – тут Гудрон, качнувшись, подпёр стену спиной и уже расслабленно продолжил: – Я про экскурсионный вояж талдычу.
– И куда же? – успокоенная Несветаева вновь благосклонно поглядела на Чекова. – В столицу?
– Москва – зело жирный и развратный город, но таки и в нём есть много чего для души, – задумался Гудрон. По его виду было понятно, что на себя примеряет и как место жительства, но, впрочем, не особо удовлетворён собственным умозаключением. – Если только проездом, – в итоге подытожил Чеков.
– Пе-тербург? – С какой-то непонятной натугой спросила Несветаева, словно хотела назвать город по-иному, но вовремя спохватилась.
– Место, где закатилось так много солнц? Нет. Я, вишь ли, не сторонник промозглых праздников и дождливых будней, – сыронизировал Гудрон.
– Так что вас привлекает?
– Глубинное, родное привлекает. Сердечное.
Будь Чеков не так расфокусирован выпитым, обратил бы самое пристальное внимание на то, как подалась вперёд Несветаева и с какой затаённой надеждой ловила каждое слово собеседника.
– А сердце, – продолжил Гудрон, – сердце нашей страны бьётся и трепещет, думается мне, в Свердловске. Значит, нам туда дорога.
Писательница с шумом выдохнула, будто произнесённое «Свердловск» обладало какой-то особенной важностью для неё и служило паролем для сближения.
– Знаете, Гудрон, возможно, мы вскорости сможем с вами перейти на «ты».
Вывалились они из вареничной разгорячённые не только спиртным, но и чем-то ещё (авторы, добравшиеся до финальной фразы, разумеется, знают чем, но спойлерить не станут), раскрасневшиеся и размягчённые неожиданной встречей. Несветаева повела Чекова в место сбора лито.
Через десять шагов она остановилась, круто повернулась, опять оттоптав Чекову ноги, впрочем, тот уже был в таком состоянии, что не сильно обратил на это внимание. Несветаева схватила спутника за воротник, рывком притянула к себе и жарко задышала в ухо новому знакомцу.
– Пообещайте мне, что в Свердловск поедем вместе. Обязуюсь показать то, что сокрыто от эску… экскурсоводов, – слово «экскурсоводов» она произнесла всего с одной запинкой, хотя на пару с Чековым в них плескалось не меньше пятисот граммов.
– Конечно!
– И вот еще, пообещайте мне, что будете называть меня только по фамилии.
– Лиз, а почему только по фамилии?
– Занадом, занадом. Не хочу, чтобы кто-нибудь знал, как меня по-настоящему зовут.
– О, как! Ну, ладно.
– Васильковой называйте.
– Нет, от этой фамилии у меня изжога, буду тебя называть Несветаева. А что, и никто в «Пегасе» не знает твоего настоящего имени? – Чеков недоумённо посмотрел на спутницу.
– Кто. Вот он знает, – непонятно объяснила Лиза и зашагала вперёд.
Чеков поскрёб в задумчивости макушку и припустил за Несветаевой.
Авторы, курившие в это время на парковой скамье в жидкой аллейке, разделявшей две полосы движения, тотчас встали и пошли быстрым трезвым шагом, чтобы опередить пьяненькую парочку и занять лучшие для обзора места.
Глава 4. ЛИТО ГУЛЯЛО
– Чеков, ну что вы, в самделе, как институтка? – Несветаева вполне освоилась в общении с Гудроном. Толстая, выкрашенная хной, чтоб не лезли волоса, авторка длинных, как очередь в районную поликлинику, стихов (здесь авторы немного повздорили на тему, стоит ли унижать героиню столь прямолинейным описанием, но сошлись на том, что оба они за правду в искусстве), энергично постучала закаменевшей воблой о столешницу. Пластиковые стаканчики, в которых водка как раз женилась с чешским пивом, подпрыгнули, Чеков расстроился: выплеснутого было жаль.
– Что вы фрустрируете? – продолжила Несветаева, взяв в окружении литераторов другой тон. Словно латы нацепила. – Ну поругали. А кого, скажите мне, не ругали? Не руганный писатель – это как, простите, пустой кондом, который не на что напялить. А вы наполняйте уникальным контентом, без ругачки не созреет.
– И вообще, – тут Несветаева немного помолчала, сосредоточенно сдирая с пунцовой воблиной тушки обмякшую кожу. Чешуйка блеснула жемчужиной и приземлилась на плечо Чекова. – И вообще, вы большой мальчик – и так разнюнились. Писателя он в себе убьёт! Ты его вначале роди, писателя-то. Пожуй говна на литсайтах, на литошных разборах, от редколлегии в журнале по мордасам получи. Сейчас-то всё онлайн, а раньше прям рукописью, прям рукописью, листы фррр! – а по полтиннику страница машинистке отдай, вот где горе-то было…
Вот я, – продолжила Несветаева, окидывая подслеповатым взглядом обширную грудь – не прилипло ли. В смысле, рыбьих чешуек.
Отряхнула.
– О чём бишь я? Ах, да.
«Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плЮет на алтарь, где твой огонь горит», – продекламировала собутыльница. – ПлЮет, заметьте, Чеков. Сегодня бы автора за неправильное ударение сразу бы по сусалам. Так то Пушкин! – Несветаева выставила вверх указательный палец с облезшим маникюром, ребро ладони блестело вязко стекающим рыбьим жиром. Несветаева огляделась, обо что бы отереть.
«Какой пиджак у Чекова, – подумалось ей. – Писательский. Поэты в таких не ходят.»
– Вам бы, Гудрон Карлович, одёжу поменять, – твёрдо сказала Несветаева. – Свитерок там какой, толстовку. Худи, наконец.
– Ххули? – не расслышал Чеков.
В заведении было шумно – лито гуляло и духарилось вовсю.
«Под куй Пе га са» – пьяненько произнёс про себя претенциозное название Чеков.
– Я вас представлю, – неожиданно Несветаева дёрнула за рукав проходившего их столика руководителя лито.
– Ндаа? – притормозил руководитель «Подкуенного (чёрт, как это правильно? под-ковено-нно, подко-евонного? – авт.) Пегаса», относительно молодой, не сильной ещё потёртости, человек мужского пола (хотя… хотя…, нет, тема скользкая), худощавый и одетый с лоском, доступным в городишке регионального подчинения, Вениамин Лойко.
– Это Чеков, он из литкружка при районной администрации. Печатался в муниципальной газете. Неоднократно. Прозаик, – грудным голосом, ещё чутка понизив тембр для вящей обольсти – зачёркнуто – внушительности, – пропела Несветаева. – Прошу любить (чёрт, чёрт, скользкая тема!) и жаловать.
– Вениамин Степанович, – протянул новичку руку Лойко.
Чеков сжал узкую ладонь, но не сильно: боялся смять косточки возможного какого-никакого будущего начальства. Приветствие вышло вялым, как… как там сказала эта разухабистая баба из лито, в которой теперь едва проглядывала его недавняя застенчивая собутыльница из вареничной? Как то, что никак не впихивается в кондом?
– Как же шумно здесь, – подосадовал Чеков. – Толком не расслышишь.
На столике откуда ни возьмись взгромоздилась пузатая бутылка бурбона.
Это подсуетился Зигфрид Конотоп, пожилой детский писатель. Он собирался закинуть свежие рассказики в альманах, на издание которого раз-два в год наскребало лито по спонсорам, удовлетворив их «датскими» рифмованными панегириками. Ну, и главный спонсор обычно открывал альманах своей какой-нибудь забубенью. Конотоп писал как минимум не хуже спонсора, но всё же на всякий пожарный проставился.
Если б не Веничка – не Лойко, другой, – дальнейшие события прозаик Чеков описал бы так: «и немедленно выпили».
Но эта прекрасная лаконичная фраза, которая, собственно, одна могла составить всю поэму, была занята. Интертекстуальность Чеков не признавал, считая её тупо плагиатом и литературным рейдерством.
Короче, все стремились надраться в зюзю. Несветаева ушла «не соло нахлебавши», как написала одна девочка в рассказе, который Несветаевой, как рабочей лошадке «Под куй Пе га са», принесли на рецензию, заодно выправила: девочка была государева – зачёркнуто – спонсорева племянница.
Так вот, Несветаева ушла с этой вечеринки как раз «соло».
Одинокие ночи – матери стихов.
Глава 5. ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА
Чеков мутным взором окинул заведение. Дым стоял коромыслом.
В своё время какой-то литошный острослов окрестил модный пивнарь (в регистрационном свидетельстве это называлось пивотекой) богадельней. Название прижилось намертво. Теперь на вопрос домашних:
– И где на сей раз носило твою пьяную рожу? – всякий уважающий себя литошник честно отвечал:
– Богоугодными делами занимался.
Тут авторы должны заметить, что Алёна Гомеровна сочла бы неправомерной и вопиюще мезальянсной семантическую пару «носило рожу», а надо бы написать «ну и где тебя носило, пьяная рожа». Но авторы в лито не состоят и им глубоко индифферентны замечания непрошенных рецензентов.
Гудрон Карлович приметил у барной стойки модного поэта Олафа Гиенкина, творившего под псевдонимом Нектарий Семицветский.
Олаф был фигурой в высшей степени примечательной. Тонкий в кости, он являлся носителем высокого нежного сопрано. Гиенкин читал свои стихи публике, активно жестикулируя и подавая руку вперёд так, что перед зрителем обнажались узкое девичье запястье и розовая ладонь, никогда не державшая ничего тяжелее поэтического пера, пардон, айфона.
Про обладателя чужеродного русскому уху нордического имени ходило много интересных, забавных, занятных историй в лито. Но все: и почитатели, и хулители семицветскиного таланта – отмечали высшую степень его грусти.
Олаф любил пожаловаться на жизнь. При этом весьма беспочвенно.
Его книги, даже самые дрянные, издавались, но он сетовал на оскорбительно маленькие гонорары за свои нетленки. Они унижали его и как поэта, и как мужчину (корявая фраза, заранее согласились с дотошным читателем авторы, то ли гонорары унижали, то ли нетленки. Авторы и стремились к двоякому толкованию. Они ещё не раз покривляются в этом тексте, шуты гороховые.).
Гиенкина приглашали в столичные города читать свои неожиданно суровые, не вяжущиеся с внешней утончённостью, эпосы армиям влюбленных в поэзию. Но по приезде домой он неизменно досадовал на неблагодарность публики и отсутствие битком набитого зала.
По наследству от родителей ему досталось трёхместные хоромы в самом центре Верхнего Захолустья, однако и здесь он отмечал высокую оплату за коммунальные услуги, опуская завидную высоту потолков, необъятность прихожей и подсобных помещений и совершенно левитановский вид на извилистую речку Змеючку в живописных даже в пору серой, уставшей зимы берегах.
Из других, противоположных, окон открывался замечательный вид на главную улицу Верхнего Захолустья, но Семицветский всякий раз подчёркивал, что воздух в его опочивальне не всегда свеж из-за выхлопных газов проезжающих автомобилей.
Одевался Олаф под стать своему настроению: исключительно в чёрное.
Гудрон Карлович только сейчас рассмотрел Гиенкина вблизи, до этого лишь довольствовался едкими, но нужно признать, очень точными несветаевскими комментариями по поводу модного поэта. Несветаеву бесило даже не само бесконечное уныние, низвергавшееся с поэта обильным потоком, как с прогрызенной сусликами плотины, а бессовестный контраст между истинным положением дел Гиенкина и его мнимым неблагополучием.
Когда-то, в юности, один не сильно старший товарищ пояснил ей: «Как пишешь – так и живи. А иначе, прости, Лизок, это всё бубнёж на постном масле». Совет она хранила как заповедь со скрижалей и лично оскорблялась, когда чуяла враньё.
Вот и сейчас Олаф наклонился к белому плечу своей собеседницы и что-то жалостливо выхныкивал по поводу своей нелёгкой литературной судьбины.
В роли жилетки для Гиенкина выступала небезызвестная всему Верхнему Захолустью (и даже в областном граде Стрежнёве) госпожа Ирма Штык – пергидрольное во всех местах нежное создание со столь алапажными моральными установками, что поэтку крайне ценило всё мужское население не только богадельни, но и всего их богоспасаемого городка, где, как известно, слухи разносятся со скоростью тайфуна.
Штык импонировало внимание. Ирма обожала, когда вокруг нее крутится жизнь.
И желательно, чтобы вихрилась эта жизнь вокруг тонкого стана Штык представителями кредитоспособной половины человечества.
О её романах (любовных, конечно, к счастью, неопубликованных) ходили легенды – многие из которых были пущены в мир самой авторкой, героиней этих сказаний.
Ирма любила напустить туману в разговорах о себе. Каждый раз вставала она с нового ложа с новой историей, причём вторым персонажем становился непременно кто-нибудь из известных в масштабах города или вовсе страны лиц мужского пола. Но историю в народ она пускала так ловко, что как бы и не сама послужила источником утечки.
Нужно отдать должное Ирме, не все легенды были лживы. Многие слухи, которые о ней ходили, оказывались сущей правдой.
Пожалуй, под очарование прелестницы не попали только детский писатель Зигфрид и, собственно, Чеков.
Конотоп брезгливо отворачивался, когда речь заходила об искусительнице, а Гудрону просто ещё не довелось познакомиться с охотницей за мужскими… головами.
Вот и сейчас Ирма сверкнула металлокерамикой в направлении Чекова. Это и предопределило продолжение вечера.
Модный поэт с нескрываемой неприязнью, а Штык с определённой долей заинтересованности наблюдали, как к ним через всю залу несёт пьяную рожу самоубиенный писатель…
Глава 6. РАЗМАХАЛИСЬ КОПЫТАМИ
Итак, Чеков нёс свою пьяную рожу по направлению к мило воркующей парочке литошников.
Походка его была нетвёрда, а вернее сказать, жидкая, ибо Гудрон Карлович был пьян в дымину.
По пути Чеков умудрился спикировать на стол, за которым чинно пировал красивый седовласый детский писатель Зигфрид Конотоп с какой-то барышней неопределённого таланта и возраста.
Зигфрид возмущённо развёл руками, Гудрон в ответ повторил жест Конотопа, но с большим раскаянием в мутных глазах. Внезапно вспыхнувшую взаимную симпатию тотчас решено было скрепить брудершафтом. Пили долго, целовались самозабвенно. Конотоп полыхал синим глазом из-под неседеющей брови, второй прикрывала залихватская не по годам чёлка, как у актёра Любшина.
Олаф уже было с облегчением выдохнул, в надежде, что не внушающий доверия субъект временно нейтрализован, но тут неожиданно фигура Чекова материализовалась прямо перед ним.
Гиенкин нежно облобызал идеальные пальчики Ирмы и шагнул вперёд, дабы поприветствовать собрата по перу подобающим образом, протянул свою узкую белую ладонь. Собрат к такому обращению не привык и хитрым особистским движением выкрутил руку модного поэта, воткнул того изящным носом в груду окурков на полу и вдобавок случайно задел носком ботинка причинное место поверженного небожителя.
Олаф заскулил на высокой ноте и безуспешно попытался встать, пригвождённый крепкой пятой Гудрона. «Ах ты, паскуда» – обречённо подумал поэт.
«Ты даже не представляешь, насколько» – мысленно парировал Гудрон и инфернально расхохотался.
Конотоп, раздосадованный, что без его мускульного участия происходят столь занимательные события, ринулся на помощь собутыльнику, отшвырнув мешавший ему стол, но успев придержать за локоть от неминуемого падения неопределённую барышню.
Чеков, не разобравшись, встретил неожиданную подмогу стремительным джебом, присовокупив к тому ещё и тяжёлый кросс в область скульптурного подбородка детского писателя. Конотоп начал оседать. В попытке сохранить вертикальное положение Зигфрид ухватился за рукав пиджака Гудрона, дёрнул и выдрал «с мясом». Обнажилось мускулистое, поросшее жёстким медным волосом плечо Чекова (под пиджаком, окромя крепко сбитого туловища, ничего не оказалось).
Зигфрид непонимающе уставился на твидовый лоскут, о который отбывшая задолго до потасовки Несветаева таки успела отереть свои пальцы от рыбьего жира. Однако через фигуру обидчика всё-таки попытался пнуть распростёртое тело модного поэта. Чеков покаянно прижал ладонь к левой части груди, признавая свой просчёт, и отошёл в сторону, не мешая Конотопу поучаствовать в празднике.
Ирма Штык, в полной мере оценив рыцарские поползновения Гудрона Карловича, бесстрашно приблизилась к Чекову и проворковала что-то поэтическое ему на ухо, навроде «Ах, как это прэээлестно, когда за честь дамы!». То, что эта самая честь была безвозвратно утеряна примерно в том же году, когда танки разъезжали по брусчатке Кремля, Ирма всегда благоразумно умалчивала. Она вообще не любила прилюдно вспоминать о своём возрасте и любовном опыте – дабы не отпугнуть потенциальных претендентов на Ирмино внимание и зарождающийся творческий альянс.
Чеков почувствовал, как маленькая женская ручка с идеальным маникюром, принадлежащая Штык, крепко взяла его под локоть и потянула к выходу из заведения. Ручка, без сомнения, была красива и ухожена, но угасающее сознание Чекова сыграло с ним злую штуку – ему привиделось копытце, впрочем, тоже вполне холёное.
В мозгу пронеслось забытое: «не пей, козлёночком станешь». Гудрон мотнул головой, отгоняя дурные мысли. И в это время зазвонил телефон.
Чеков начал шарить по карманам. Пару раз ошибался и порывался расстегнуть молнию на брюках, но вовремя одёргивал себя. Наконец, аппарат оказался в руках незадачливого донжуана.
– Да? Несветаева? Чего, завтра выдвигаемся? Ага, плЮет! Ага, на алтарь! Ну, горит, конечно, здесь так горит, ты не поверишь…
Гудрон Карлович выдрал свою конечность из цепких объятий Штык и не оборачиваясь покинул «богадельню».
Разочарованная Ирма кинулась поднимать Олафа.
А в это самое время на другом конце шумного по случаю пятницы в целом сонного города Несветаева нажала «отбой», с хрустом потянулась, снесла голову прикроватному торшеру и пробасила себе под нос:
«За окном падает пер-вый снег,
Ты уснёшь в городе поз-же всех.
То ли обратно, то ли тудаа
Ехать оста-лось – ерун-да.
В центре стука колёс – тиши-на,
Ты стоишь в тиши-не у окна.»
Курылёвским «первым» снегом не пахло, скорее, прошлогодним. Расквашенные короткой оттепелью дороги к ночи подмёрзли. Неуклюжая писательница зябко поёжилась, вспомнив, как она добиралась с вечеринки.
Глава 7. НАРОДУ СВОЕМУ
Несветаева едва удерживалась на каблуках и чуть не соскользнула под притормозивший таксомотор. Но нет, умирать не время. Несветаева ещё не всё сказала миру. Публиковалась она, как мы уже сказали, под незатейливым псевдонимом Рогнеда Василькова, считая свою фамилию слишком… слишком перекликающейся, да.
В имени Рогнеда была зашифрована трагедия её молодости, но считывать тонкие смыслы умели только старые литераторы, не годившиеся для… для… нет, слишком скользкая тема.
Стихи Рогнеды Васильковой отличались патетикой и обращением накоротке, как к давней приятельнице, к Смерти. Тени прошлого создавали некий флёр в поэтике этой грузной женщины, нисколько не похожей на поэтку – ни белокурых локонов, ни тонкого стана, ни тонкой сигареты в длинном мундштуке. Рогнеда, то есть Несветаева, курила строго «Приму».
Она была вдова. Многие даже шептались, что Чёрная Вдова – стольких она проводила. Высокая трагедия звенела в её нарочито грубых, мужиковатых, строчках – реминисцируя, как льстила себе Несветаева, с её почти однофамилицей.
Я – не она. Не удавлюсь. И пусть подавится
Страна, в которой гениев хоронят
По три на дню – куда ж могильщикам управиться!
Ведь есть почившие, поэтов кроме.
Сегодня Несветаева была безобразно трезва – вычеркнуто за недостоверностью. Но хотелось добрать.
Покидая распивочную в одиночестве, Несветаева заметила, как некоторые не окончательно пьяненькие пегасцы били копытом вокруг Ирмы Штык. Ирма была звезда.
Лучи её славы простирались над сереньким городишком, Ирму охотно звали почитать своё на местное радио: Штык хорошо выглядела в кадре, но телевидения в их городе как-то не завелось. Приходилось довольствоваться радиоэфиром. Может, и к лучшему, ведь под софитами обнаружилось бы, как Штык ведёт долгую позиционную войну с морщинами.
В деликатном, шепчущем свете баров она оставалась молодой и хорошенькой, а утром всё было уже не важно: добыча съедена.
Несветаева, хоть и попивала, свои шансы оценивала трезво: их не было.
Она полезла в верхний отсек буфета, там мерцал в толстом стекле подаренный одним свердловским поэтом – хотя он и забросил это занятие, коньяк.
С Ирмой у Несветаевой, как у всякой некрасивой женщины с красивой, были тотальные разногласия. Они касались всего. Но свирепее прочего дамы расходились в вопросе, что стихи, а что не стихи.
Несветаева не терпела постмодернистов. Так честно и писала: не люблю, мол, постмодернистов и ковыряльщиков в носу, когда слова они неистово лишают всяческого смысла и дичь отборную несут.
Штык на это кривила фарфоровый рот в презрительной усмешке и парировала, мол, Несветаеву, то есть Василькову, могут слушать только бичи у киоска с дешёвым пойлом – размазывая по не знавшим умывальника и полотенца опухшим лицам слёзы благодарности и экстаза.
Василькова, то есть Несветаева, втайне гордилась популярностью у парий.
А иногда даже и не втайне.
Ты брат ли мне, пропойца у киоска?
Давай уже докурим эту жизнь.
Внезапная, как аневризма мозга (Несветаева, то есть Василькова, любила образы из медицинского словаря),
Пусть лопнет обезбоженная высь.
Или:
Мы с тобою хозяевам этой земли
Заявляем: да кем бы вы не были (тут требовалось «и», но Василькова, то есть, Несветаева, пренебрегала такими мелочами),
Это мы, пусть в блевотине, в саже, в пыли —
Это мы унаследуем небо.
Лиру она посвящала народу своему.
Порой Несветаева думала, что зря задержалась в «Под куй Пе га са». Местечковая тусовка неумелых рифмовальщиков, прячущих недееспособность за выкаблучиванием и надругательством над словами.
Из слов модные поэты экстрактировали всякий, даже остаточный, смысл и предлагали публике декофеинизированный обезглютененный продукт, который не питал уже ни ума, ни сердца читателя.
Рогнеде постоянно тыкали неким однофамильцем знаменитого русского поэта, этот самый однофамилец когда-то обозвал и припечатал приверженцев метрического стиха идеологами эстетического застоя, они-де пытаются утянуть поэзию в глубокую дыру – если не сказать, невылазность.
Несветаева считала, – и отстаивала где могла – что читателю и русской словесности покойно в этой метафорической «дыре», а покой, как мы знаем – псевдоним счастья. Стихи самого превозносимого однофамильца она нашла и прочла, и сочла неприкрытой издёвкой над цензором. В его время да – уместно было пошалить и подиссидентствовать, но всё это была игра для скучающих своих, этакий капустник. Ежели б это было напечатано, читатель покрутил бы пальцем у виска.
- «Щербет
- Комет факультет
- Мехмет
- Фуршет
- Кабриолет
- Кабриолет фуршет
- Паритет
- Баронет
Генералитет» – или что-то вроде.
Сегодня это издано и даже возведено. А народ уже пообвыкся, напробовался и решил в книжные боле не ходить, а употребить трудовой рубль на отпуск в каком-нибудь Мармарисе.
А что там Чеков рассказывал ей про какой-то сайт? Вроде, обижался, мол, редакторы покусывают. Зато, говорил он, там размах! От Москвы до самых до окраин.
Почти сто тыщ посещений в месяц. Не ворваться ли? Не вздыбить?
Несветаева (или Василькова, она уже и сама не помнила кто), спотыкаясь в тесной комнате, загромождённой старой (она никогда ничего не выкидывала) мебелью, наконец доковыляла до дивана.
Спать.
Она подумает об этом завтра, – пронеслось уже где-то читанное в отяжелевшей голове.
Вроде бы она ещё кому-то звонила. Но тяжёлые воды сна уже поглотили её, не давая вспомнить, кому.
Глава 8. ПЕРВЫЙ СОН НЕСВЕТАЕВОЙ
Девчонки взвизгнули от колких капель, зашипевших на раскалённой от их долгого лежания на открытом солнце коже. Кучка приятелей, смеясь, отряхивалась после купания прямо на покрывало, расстеленное поверх высохшей травы на пригорке у лодочной станции. Снизу, от воды, неслись встревоженные и недовольные крики женщин, не сумевших загнать внуков с посиневшими губами из моря на лежаки.
Над пляжем, во всю его ширь, из репродуктора неслись звуки модной музыки. Лиза с одноклассницей вскочили и направились на мостик, где были ребята постарше.
Периодически взрослые парни с подружками уединялись в прохладные камни голицынского замка – полуразвалины дачи знаменитого русского сейсмолога. Дача высилась над пляжем, среди выжженной июльским солнцем степной травы, под сенью высоких дерев, жаловавшихся на небывалый зной – без одного хотя бы дождя в то лето – сухим шелестом пожухшей листвы. Лиза с Каринкой исподтишка бросали взгляды в сторону запретного места, гадая, что именно там происходило. Воображение, не подкреплённое опытом, быстро капитулировало перед великой тайной любви, и девчонки переключались на что-нибудь менее интересное, но более представимое. Из воды, шлёпая ластами, как раз выбирался знакомый мальчик с полной сеткой рапаны.
Девчонки проголодались. Мятые, спёкшиеся на жаре абрикосы и помидоры из кулька уже были съедены. Влёт ушли и купленные мальчишками у буфетчицы с коробом-термосом промасленные жаренные пирожки с мясом и повидлом. Все добытые из нехитрой снеди калории давно сожжены в играх в воде, нырянии и заплывах наперегонки. Надо идти домой на обед, бабушка ждёт с супом, но как уйти с пляжа – вдруг пропустишь что-нибудь интересное? Вечно так, только отлучись.
Девочки переместились на галечный пляж, где под скалой мальчик уже разводил костерок под жестяным листом, уложенным на два валуна. Старый алюминиевый тазик, рачительно прихваченный из графских развалин (здесь после войны горсовет выделил квартиры для нескольких семей, жилья в почти напрочь стёртом бомбёжками городе не хватало; этим ещё повезло, многие жили в землянках) быстро раскалился, и вода в нём забулькала. Мальчик ссыпал корявые, обросшие более мелкими ракушками, раковины, и все расселись вокруг очага на корточках. Подростков всё прибывало на неожиданный пир. Через пару минут потянуло немного раздражающим и отдалённо пряным – Лиза никогда не могла описать этот сладковатый запах варёных моллюсков, пока не стала взрослой и не услышала близко естественный аромат мужского тела, только что сбросившего напряжение.
С уловом разделались в два счёта, сбегали запить к фонтанчику, а Лиза с мальчиком отправились на родник, от воды которого ломило зубы, укрытый в гроте из ежевичных зарослей…
Лиза открыла рот и выпятила в карманное зеркало чёрный от ягод язык.
Стрельнула солнечным зайчиком в подружку.
Пора было всё же собираться домой, и девчонки дали друг другу слово, что искупнутся ещё только разок и обсыхать будут уже по дороге…
Глава 9. ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА
Тихий исход Чекова из пивной приметила не только разочарованная Штык.
Детский писатель Конотоп, каким-то непостижимым образом оказавшийся рядом точнёхонько у дверей богадельни, вышел тотчас за Гудроном Карловичем, догнал быстро, но зигзагообразно удаляющуюся фигуру, и тронул за плечо. Чеков обернулся, и Зигфрид протянул тому руку. Состоялось обоюдно приятное рукопожатие; Чеков воспрял, почувствовав стальную ладонь детского писателя – хоть кто-то мужик в этом сборище, – и молча растворился в темноте улицы.
Авторы тоже удовлетворены таким раскладом. Честно говоря, их давненько подташнивает от верхне-захолустинского (а в другие они не вхожи) литературного бомонда. Чтобы подавить отвращение, им нет-нет да и приходится наведаться в вареничную или раздавить шкалик где-нибудь на лавочке в укрывистой аллее. Огорчённая авторская печень (в количестве двух штук) тоже тихо ненавидит проклятое гендерно искалеченное лито.
Зигфрид поднял голову в звёздное небо, что-то прошептал, прислушался, удовлетворенно кивнул. Со стороны казалось, будто он ведет молчаливый диалог с кем-то, советуется, слушает дальнейшие наставления невидимого собеседника, соглашается с ним.
В богадельню Конотоп вернулся бодрым шагом, как будто и не выпил столько часом ранее, держал спину прямо и вообще вёл себя как абсолютно тверёзый. Хотя тот же Чеков, употреблявший наравне с Зигфридом, как мы помним, был пьян мертвецки, и только вовремя включившийся автопилот не позволил самоубиенному писателю действительно самоубиться. Что непременно произошло бы, останься он на месте своих недавних подвигов – то есть, в пивотеке, где только начинало твориться форменное безумие, называемое участниками «Под куй Пе га са» славными посиделками.
Народ продолжал прибывать. В скором времени заведение заполнилось до предела. Воздух становился всё более спёртым, а пьяный ор всё громче.
Творческая элита Верхнего Захолустья читала свои нетленки с места, из-за столиков, на которых уже насвинячили, и с импровизированной сцены, выкрикивала модные нынче постмодернистские похабности, восхваляла своих корифеев, подобострастно бисировала их и неодобрительным гулом встречала неугодных, выхаркивая из чрева богадельни особенно не понравившихся.
Зигфрид долго искал кого-то взглядом, затем, видимо, нашедши, не спросясь (что было вовсе не похоже на Конотопа, отличавшегося просто какой-то нечеловеческой вежливостью), подсел за столик к ещё одному представителю когорты общепризнанных талантов – Ждуну Прихлёбкину.
Означенная персона была известна как человек, удобный всегда и всем.
Во всём рыхлом и расползшемся теле Прихлёбкина чувствовалась какая-то неестественная для такого громадного тела мягкость, но не мягкость человека, прошедшего многое и многое же прощающего, а мягкость женственная, податливая, коварная.
Со Ждуном было удобно поддерживать беседы на любые темы, его персону руководство лито охотно приглашало на все творческие мероприятия, понимая, что в лице приглашённого обретают громкий голос «за» любое паскудное решение.
Напротив удобного творца, за тем же столиком, сидела очаровательная в своей невинности Танюша Веретенникова, по неопытности и наивности принесшая на суд этой своры свои стихи.
Ей точно было не место ни в самом лито, ни тем более здесь, в смрадной атмосфере кабака, но девушка искренне думала, что идёт на пиршество творческих озарений, и теперь сидела растерянная.
Про новенькую говорили, что она небесталанна и подаёт надежды, нужно только огранить этот самородок, но в слово «огранить» похотливые корифеи вкладывали какой-то сальный смысл, а стихов Танюши не выпускали, и большинство литошников их и не слыхивали. Только покровительствующая юной Веретенниковой в ущерб себе Несветаева и взявший над девочкой шефство Зигфрид удосужились прочесть.
Вот и сейчас надёжный, как скала, Конотоп отшвырнул жирную пятерню Ждуна от тонких пальчиков Танюши и прошелестел ей на ухо:
– Милая, нам пора, собирайся. Дальше приличным людям здесь не место. Приличным людям здесь вообще не место.
Танюша согласно кивнула и взяла сумочку.
Зигфрид галантно предложил свой локоть наивной подшефной, получил полный благодарности взгляд в награду и, так же, как ранее Несветаева, а затем и Чеков, покинул с юной протеже злачное место.
Оказавшись на свежем воздухе, Зигфрид вежливо, едва касаясь твёрдыми губами, поцеловал кончики пальцев своей спутницы, поймал проезжавшую попутку, громко и чётко назвал водиле адрес, присовокупив к словам изрядную сумму дензнаков, и сунул в нос оторопевшему таксисту приличных размеров костистый кулак. На всякий.
Машина взвизгнула, тронувшись с места. Конотоп, оставшись один, зычно расхохотался и опять обратился к своему невидимому собеседнику, но уже вслух, разрезав тишину верх-захолустинской ночи твёрдым:
– Всё сделал, как просил. Теперь дело за тобой.
Затем его высокая, с военной выправкой фигура как-то истаяла, и улица вовсе обезлюдела.
Глава 10. ВАКХАНАЛИЯ
Прихлёбкин, лишившись столь внезапно своей спутницы, совсем не огорчился, а даже наоборот возрадовался: Танюша не была завидным или полезным знакомством.
Дело в том, что Ждун любил всяческие удобства и поддерживал тёплые отношения исключительно с выгодными для себя людьми. К тому же, при всём своём непомерном аппетите (любил покушать Прихлёбкин, ой как любил!) и любви к искусству, не желал платить по счетам ни за съеденное, ни за прочитанное, всегда открещиваясь от принесённого счёта и написанного своей рукой.
Он писал бесталанные стихи, которые, впрочем, из-за «удобности» автора никто особо не обсуждал и не осуждал; на фоне прихлёбкинской галиматьи любой средний и даже плохонький поэтишка чувствовал себя светилом литературы – и за это Ждуна терпели, и даже малость уважали. А сам Прихлёбкин не требовал многого – всего лишь испарялся с горизонта, как только требовалось расплатиться, и появлялся лишь на следующий день, либо через неопределённое время, когда легкое неприятие его поступка рассеивалось.
Вот и сейчас Ждун уже позабыл так скоро покинувшую его Танюшу и продвинулся ближе к сцене, где восседала самая верхушка лито. Он углядел, что Ирма достаточно быстро привела в надлежащий вид пострадавшего в потасовке с Чековым скулящего Олафа.
Ждун придвинулся к парочке со словами:
– Ну что за безобразие сегодня творится! Как можно поступать подобным образом со знаменитыми поэтами!
В благодарность за поддержку Олаф заказал Прихлёбкину пива, и когда принесли пенное, придвинул кружку удобному союзнику. Ждун благодарно кивнув и одним махом осушил ёмкость. Вопросительно и моляще посмотрел на Гиенкина и продолжил.
– Таких вообще изгонять нужно.
– Изгоним, изгоним, не переживай. – отозвалась Ирма, – Ладно, мальчики, мне на сцену.
Мальчики, тонкий и упитанный, любовно проводили Штык глазами. Прихлёбкин стрельнул взглядом, полным преданности, в Олафа. Гиенкин грустно выдохнул и заказал ещё пива.
Лито умолкло: на сцену забралась неотразимая Ирма. Оглядела присутствующих долго и томно, выждала необходимую паузу, чтобы угомонить собравшихся. Затем звонко затараторила, на манер модных телеведущих:
– Асейчасдорогиемоикогданашезаведениеизбавилосьнаконецотпостороннихиненужныхличностеймынаконецтоможемначатьнашпраздник!
***
То, что происходило в пивотеке далее, иначе, как вертепом, назвать у авторов язык не повернётся, хотя они, признаться, видали всякое и даже, в незрелые лета свои, кое в чём поучаствовали, о чём им теперь напомнила мстительная печень.
Через полчаса после пламенной речи Штык пьяные в дымину верхне-захолустинские литераторы остервенело сбрасывали с себя одежды, дрались, визжали, катались по замызганному полу кабака и заливали тёмные уголки душного помещения биологическими жидкостями всех сортов.
Кто-то был замечен совокупляющимся в маленьком и тесном туалете заведения – мужчины или женщины, было уже не разобрать.
Стихло это непотребство уже под стыдливое народившееся утро следующего дня. Впрочем, Прихлёбкин узнал об этом несколько позже, по обыкновению покинув мероприятие загодя, прихватив из бара пару бутылок горячительного и целый поднос дармовых закусок.
Глава 11. СОБРАНИЕ В ЛИТО
Последовавшая за шумным мероприятием неделя прошла в относительном спокойствии для всех пегасцев и тех, кто посетил памятную вечеринку в бесплодной надежде вступить в ряды литературного общества. Вступить там оказалось можно только в дерьмо, какой бы смысл авторы ни вложили сейчас в это лаконичное определение.
Слухи о знатном разгуле ещё не расползлись тараканами по рабочим окраинам сонного и неторопливого Верхнего Захолустья. Поэтому герои сборища не успели искупаться в переменчивых лучах славы уездного городка. Зато поучаствовали ещё в одном собрании, но уже в стенах дома культуры, в штаб-квартире родного лито, где на повестку дня вынесли сразу три вопроса.
Нумером первым шло принятие в ряды пегасцев новых и активных членов, и обсуждение вышло бурным. Кого-то (устраивавшего верхушку сообщества) утвердили легко и безотлагательно, иных оставили в соискателях, как не вполне разделяющих творческие принципы корифеев и не успевших ментально сформироваться для современного искусства.
Кандидатура Веретенниковой, стоявшая предпоследней в списке претендентов на членский билет, была детально препарирована высоким собранием, но в целом принята буднично, без экспрессивных нападок со стороны наиболее ярых. Стал ли тому причиной загадочный Зигфрид, высившийся бастионом за худенькой спиной девушки, или пегасцы решили, что Танюша не боец и быстро сдаст позиции, отойдя от нафталинного канона силлабо-тоники, – об этом авторы достоверно не знают. Но факты таковы: Веретенникову приняли в лито быстро и без обычной подковёрщины.
Стоило же делу дойти до личности Чекова, единодушие наконец оставило комиссию. Гиенкин и Штык лютовали и требовали немедленного изгнания писателя не то что с собрания, а и со всех литературных площадок, чтобы даже на пушечный выстрел, чтобы духу…
Олаф, до сих пор не оправившийся от схватки с Гудроном, болезненно морщился, вспоминая подробности баталии, и даже тряс сухоньким кулачком перед носом непробиваемого Конотопа, выступившего на собрании в защиту Чекова. Ещё бы! Читатель-то помнит, как детский писатель на брудершафт с Чековым участвовал в рукоприкладстве по отношению к модному поэту (так впоследствии утверждал сам Чеков, ибо Зигфрид произошедшие события не упоминал вовсе). Но кулачок поэта, понятно, эту глыбу не устрашил.
Помимо Конотопа, за Чекова вступились известная бычьим упрямством Несветаева, а также – кто бы мог ожидать такой твёрдости! – только что принятая в ряды Танюша Веретенникова.
На руку этой неожиданно сколотившейся коалиции сыграло неуёмное желание Ирмы всегда быть в центре внимания и назначать себя тайным приводным ремнём всех событий. Штык наплела литошным кумушкам, что памятное побоище произошло за её, Ирмину, благосклонность. Стихотворицы с завистью выслушали похвальбу литошной примы, и каждая подумала про себя, что и поэтическая, и женская слава распределяется неравномерно и несправедливо. И некоторые нашли лёгкий способ подгадить Ирме, проголосовав за Чекова.
Столь же вероломны оказались и некоторые брошенные поклонники Ирмы, они и сами были не прочь пощекотать физиономию фаворита вожделенной поэтессы. Но если Чеков их опередил, то почему бы и не щёлкнуть Гиенкина по носу юридически безопасным способом, поддержав случайного союзника? В общем, многие литераторы слитным гулом одобрили заявление председательствовавшего Лойко о включении Чекова в члены лито, хоть и с испытательным сроком и под поручительство Несветаевой.
Второй вопрос из повестки дня был посвящён предстоящей лекции Зигфрида на тему: «Искусство должно быть живым».
Здесь, к удивлению противников сложившегося среди пегасцев порядка – Несветаевой и Конотопа – лито единодушно согласилось с тем, что в это непростое для страны и искусства время лекция на отвлечённую, казалось бы, тему будет крайне своевременной. И даже намеченную дату не пытались перенести – Зигфрид, как и год назад, особо настаивал на 17 февраля – её и утвердили. Почему семнадцатый день последнего месяца зимы был так важен для детского писателя, для многих оставалось загадкой. Несветаева могла бы просветить любопытствующих, но лишь отводила грустный взгляд, а сам Зигфрид загадочно улыбался и ссылался на то, что всякому знанию – свой черёд.
Авторы, разумеется, посвящены в эти календарные тонкости, но спойлерить не станут. А может, найдутся и догадливые читатели, для которых означенная дата тоже имеет сакральный смысл, втайне надеются они. И, утешенные этой мыслью, идут к бабе Юле за новой порцией горячих, плавающих в растопленном сливочном масле, вареников. И ещё кое-чем.
Надо сказать, прошлогодняя лекция Зигфрида имела успех в рядах вольных слушателей и кандидатов в лито, но неожиданным побочным результатом стало то, что ни один из посетивших лекцию больше не пересёк порога «Под куй Пе га са».
Скандал тогда разразился страшный. Почтенного Зигфрида обвинили никак не меньше, чем в диверсии против передовой литературной мысли. Более всех, конечно, язвили и брызгали ядом Геннадий Цыкутка, обещавший обрушить весь свой сатирический талант на развенчание методологии Конотопа, а также господин Лойко, недосчитавшийся в кассе членских взносов. Однако время прошло – и страсти улеглись.
Здесь авторы вынуждены прибегнуть к отступлению, чтобы читатель понял, кто есть Цыкутка. О, это страшный человек! К нему прислушивались, потому что, хотя текстов его никто никогда не видел, но за Цыкуткой закрепилась слава, что его творения гениальны, не то что «у каких-нибудь там череповчан»; критические же разборы и комментарии Геннадия были таковы, что их никтошеньки не понимал, но признаться в этом было стыдно – а вдруг всплывёт, что кто-то другой да понял? – а ты просто туп и плохо образован. И все побиваемые маститым критиком авторы согласно кивали на его хлёсткие, но невразумительные замечания. Кроме Конотопа – Конотопа в лито вообще не трогали. И Несветаевой – юродивая огрызалась.
Сегодня Цыкутка был тих и покоен. Однако от внимательного Чекова, который находился в аудитории в роли молчаливого истукана, так как Несветаева заранее взяла с него слово не вступать в пререкания, не ускользнул злобный перегляд Геннадия и Вениамина. Гудрон тронул плечо Несветаевой и жестом указал на смущавшую его картину. Писательница кивком дала понять, что тоже обеспокоена, и шепнула Чекову:
– Не иначе, замышляют сорвать лекцию Зигфрида. Что ж, придётся посетить. Тем более, что вам, Чеков, это будет крайне занятно.
Гудрон, верный своему слову, лишь моргнул в ответ.
Третьим пунктом у пегасцев стояло обсуждение поездки в сияющий град на Неве, которая, при благоприятных обстоятельствах, состоится в следующем (нужно же насшибать денег на проезд и проживание все оравы) году. Но это так мало интересовало наших героев, что они гуськом покинули собрание, провожаемые неодобрительными взглядами оставшихся литераторов. Первым из аудитории вышел Чеков и тотчас замаршировал к выходу из здания. На улице выругался, вдохнул морозный воздух, щёлкнул зажигалкой и с наслаждением затянулся:
– Как вы там сидите? Дышать же невозможно! Кислороду не хватает.
В ответ Зигфрид, вышедший следом за Чековым, произнёс:
– Мужайтесь, Гудрон, литература – занятие не самое лёгкое и точно не самое приятное, иной раз даже опасное. Если это, конечно, настоящая литература, – поправился детский писатель. – А духота – атрибут любого литературного сообщества. Привыкайте.
Подошли дамы. Наши герои встали кружком. Конотоп продолжил:
– Несветаева показала мне ваши робкие попытки писать. Небесталанно, конечно, в этом спешу вас поздравить. Но после прочтения у меня к вам, дорогой друг, появились вопросы: почему так робко и почему только попытки? Ответьте на них самому себе – и из вас получится толковый автор. Уж поверьте мне.
Чеков попытался что-то сказать, хватанул воздуху, но уловив что-то новое во взгляде Конотопа, понятливо попрощался:
– Остальное на лекции, верно, Зигфрид?
– Остальное – в дружеской беседе, – мягко поправил Чекова детский писатель.
Импровизированный кружок литературных революционеров (или реакционеров? – заспорили авторы, но быстро запутались в левых и правых, плюнули, да и пошли разрешить спор к подкованной в литературном плане бабе Юле) распался, все засобирались по домам, условившись о встрече, дату и место которой, как известно, изменить нельзя.
Глава 12. (НЕ) СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ
Почувствовав себя участницей тайного кружка, Танюша мысленно вернулась к событиям минувшей осени, вспомнила, каким было первое знакомство с её взрослыми соратниками.
…Отработав смену, Веретенникова принарядилась и направилась к верхне-захолустинскому Дому Культуры, весь второй этаж которого арендовали пегасцы.
Первым встреченным ей литошником («Провидение не спит!» – торжественно заметили принявшие с утра и потому пафосные авторы) оказался детский писатель Конотоп.
В вестибюле к девушке сразу подошёл Зигфрид, коротко отрекомендовался и предложил Веретенниковой быть её проводником в адище местной литературы со всей томившейся в нём пишущей братией. Танюша засомневалась, правильно ли будет принять предложение случайного знакомого, но наружность писателя располагала довериться ему: седые виски, открытый взгляд, никакой развязности, одет солидно, без петушиной яркости. Заметив, что девушка колеблется, Конотоп произнёс, что любые встречи отнюдь не случайны, а эта – в особенности, и именно её, начинающую поэтессу Веретенникову, он и поджидал весь этот погожий сентябрьский вечер.
И Танюша поверила собеседнику – не только в этом, но и как бы на будущее, бесповоротно… Конотоп теперь виделся ей Дон Кихотом, но не свихнувшимся чудаком из-под пера Сервантеса, а тем добрым благородным идальго Алонсо Кихано, которого воплотил в кино Черкасов (пятижды сталинский лауреат, – не преминули тут же блеснуть авторы).
Меж тем Зигфрид предупредил легковерную девушку, что не стоит ей быть столь открытой и доверчивой, особенно в стенах данного учреждения:
– Танюша, вы, как и любой добрый человек, слишком много сомневаетесь в себе и слишком хорошо думаете о других.
– Никогда бы не подумала, что вера в людей может быть недостатком, – тихо произнесла уязвлённая проницательностью Зигфрида Веретенникова.
– Многие добродетели, увы, в наш переменчивый век пришлись не ко двору. Эмблему данного литературного объединения уже давно следует поменять – с крыльев благородного скакуна на более древний и соответствующий времени и устремлениям пегасцев символ – уроборос, гадину, пожирающую собственный хвост.
