Демон за столом
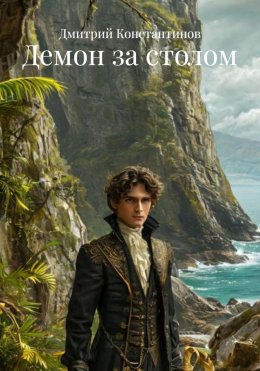
ВВЕДЕНИЕ.
Над Францией 1793 года стоит не просто время, – стоит какой-то неведомый климат души, который, как назойливый запах, просачивается в каждую щель, в каждую человеческую грудь. Это не то чтобы погода – это вовсе небо, но небо смущённое, смятенное и будто бы одержимое какой-то святой, по-видимому, очень жестокой идеей: мыслью о правде, о правде любой ценой. И вот – что из этого вышло: повсюду подозрение, поскорбность, крики, и каждый человек, как бы он ни старался быть только человеком, неизбежно стал чем-то иным – свидетелем, доносчиком, судом, жертвой и, что страшнее всего, – исполнителем своей собственной терзающей правды.
Если хотите представить себе Париж того года, то прежде всего представьте улицы: узкие, влажные, с камнем, который ещё хранит печать прошедших шагов – шагов королей, кардиналов, мещан, злодеев, святых и проституток. Но теперь на этих камнях лежит что-то иное: не просто грязь, не просто снег или дождь – некое общее дыхание толпы. Толпа шуршит, толпа говорит, толпа смотрит, и в её взгляде – нечто животное и одухотворённое одновременно; она тотчас же готова на pious-свирепость, на ритуал убийства во имя нового Евангелия.
Как ни странно, самым характерным явлением был не только палач с его холодной машиной (о, эта машина, о, гильотина! – да, машина, столь же строгая и безличная, как приговор), но и музыка голосов, сливающихся в одном безудержном хорале: возгласы «Liberté! Égalité! Fraternité!» – и за этими словами немедленно – голод, холод, и в ту же минуту – смертный приговор. Правда здесь была не догмой, а страстью. Человеческое слово, только что освобождённое от прежних цепей, превращалось в орудие: оно назидало, оно осуждало, и, что хуже, само себя оправдывало через насилие.
Свидетельства времени: дворцы опустели, но не в том смысле, что их стены молчат – они теперь отдают эхо, эхо криков тех, кто когда-то стоял у алтаря. Люди, которых раньше уважали или боялись, – теперь в публичном зачёркнуто: картотеки имен пополняются черной чертой; на углах улиц – комитеты, где молодые люди в бесстрастных лицах читают приговоры, где мужчины в плащах, резко отточенные, будто бы вырезанные, говорят о необходимости чистки нации; женщины, более не только украшение, но и активные участницы, с огненными глазами, шепчут, возбуждают, ловят слух на слухах, и в их речах слышны не ревность или зависть, а какая-то мстительная, почти религиозная ревность к Революции.
Именно эта религиозность – самое ужасное. Люди забыли Бога в прежнем смысле, но спустя время Бог вернулся под иным именем: имя это – Революция. И как верующему нужно покаяние, так и революционеру нужно было покаяние – товарище, признавайся, иначе ты – предатель. Улицы были заполнены святыми трибуналами; не было ни одного двора, где бы не обсуждали добро и зло в тоне, где смешались безумие и проста. Как же могло быть иначе, если с утра до вечера на площадях совершались жертвоприношения – не столь жуткие по форме, сколько по духу: за каждой казнью следовало настроение очищения, и люди, выходя на закат, обсуждали событие как проповедь.
Ах, читатель, разве ты представляешь себе страх, который врывается в самые тонкие перепонки сознания? Он не похож на страх перед внешним врагом; он сродни нравственному угрызению. Люди, переставшие верить в стабильность закона, были как те младенцы, что внезапно осознали собственную смертность и оттого начали плакать всё сильней. Каждый дом – это тайник, каждый знакомый – потенциальный свидетель, а каждый смех – предлог для доноса. Душа человеческая стала помещением, которое более не принадлежит своему хозяину: она подлежит ревизии.
Во Франции 1793 года – всё было сжато, все явления приобрели остроту скальпеля. Экономика – в разладе; поля – покинуты; война – на порогах. Вестящие бедствий посланцы с фронтов приходили в Париж и приносили с собой язык новых бессердечных чисел: потери, хвори, отступления. Казалось, что мир снаружи и мир внутри совпадают в одной общей меланхолии: война со всем миром и война с самим собой. И что ещё ужасней – оба ведут к одной и той же формуле: уничтожение ради спасения.
Вы спросите, как жили те, кого нельзя было назвать ни просветителями, ни демонами? Были, конечно, люди, которые пытались оставаться людьми. В простых домах, на краю больших площадей, где не доносили, где пили кофе без обсуждения политики, жили старые горожане, у которых голос дрожал от невыразимой усталости. Они выглядели так, словно были свидетелями давно умершего мира, не желая принять того нового, который наступал: их глаза – молчаливые, полные воспоминаний – говорили о других временах, о доме, о детях, о какой-то более обычной боли. Но и их глаза не всегда были прощены: «Почему ты не в клубе?» – спрашивали их сыны, – «Почему не кричишь?» Ответ человеку старому казался невозможным, ибо он не мог стать фанатиком ради принципа, он не мог принести свою душу в жертву абстрактному.
Были и те, кто поддался не столько идее, сколько страху: они шли, они подписывали, они растерзали друзьям холсты тех воспоминаний, которые их связывали с прежней жизнью. Но были и другие, маленькие, почти незаметные духи сопротивления: женщины с нежными руками, что тайно пришли к старому священнику, мальчики, прятавшие за пазухой старую иконку, старые солдаты, отступившие от трибунала, приютившие на ночь изгнанца. В их поступках была слабая, но несгораемая надежда, что человечность возможно сохранится в тех крохотных местах, где не ступала нога громкого слова.
И всё же самое страшное явление – это не гильотина, не кровь и не шум толпы: это вера в то, что преступление может быть оправдано добром. Как это «добро» определяли – вот здесь и поджидал кошмар. Слышали ли вы такое: «Смерть ради свободы – это спасение»? Да, люди действительно говорили это. Они могли улыбаться, говоря о казни; их глаза сверкали, как у людей, убедившихся, что цену платить надо. Парадокс заключается в том, что когти нравственности стали разрушительным орудием: за чистоту идеи шли на самые низкие, самые постыдные поступки.
Если теперь перейти к окраинам – Vendée, Lyon – там, где восстания, – то открывается ещё более дикая картина: гражданская ненависть, как старая, гнилая ракета, разрывает тела и души. Люди, что ещё недавно брались за руки в работах и на паях, теперь возводят друг против друга статуи обвинений. Каждый район – это маленький суд, каждая деревня – новое поле брани, где наводилось разделение даже между братьями. И если думать о том, как будут помнить потоминцы о 1793 – то запомнят они запах крови и горькую мудрость: свобода, если не охраняется милосердием, скоро превратится в тиранство тех, кто её проповедует.
Но позволю себе однажды отойти от общей картины и представить личность, ибо в чём бы ни состояла история – в ней всегда куча человеческих трагедий, каждая из которых тянет за собой тысячу рассказов. Вот, скажем, молодой адвокат, родившийся в доме, где отец его, унтер-офицер, с детства учил его чтению и не чтению, а честности. Он шел в клуб, он верил в справедливость, и ему казалось, что он сделал выбор на стороне правды. Но чем дальше он шел, тем сильней становился у него голос в груди: «Где твоя совесть, сын?» И в ту минуту он вдруг ощутил, что правда, которой он служил, нередко нуждается в том, чтобы умирать. Он стал приходить домой поздно, и в зеркало видел своего отца в себе: и глаза его отца – страдали и умоляли. Что мог он сделать? Вы зна ете ответ: он писал безумные письма, пытался заткнуть уши – но в душе его, как в металлическом сосуде, что нагревается, кипела отрава, и тогда он один раз написал, кого-то сдал – и от этого его внутри что-то умерло. Так и гибнут идеалисты: не в бою, не в результате внешнего врага, – а от болезни совести.
Да, можно ещё долго описывать: как ночь опускается на Сену, и как туман прячет новые лики стражей, как в маленьких квартирах женщины шепчут молитвы, которые уже забыли; как дети, которым ещё не объяснили, что такое Революция, боятся ночью закрыть глаз. Но лучше всего заметить самое главное: Франция 1793-го – это зеркало, в которое человечество гляделось и увидело себя и убедилось, что у него не одна, а много лиц; что освобождение возможно, но цена за него такова, что порой невольно скажешь: не стоит ли лучше было медленно умирать от несправедливости, чем жить быстро и масштабно в порыве всеобщего права?
Может быть, вы, читатель, думаете, что я преувеличиваю? Что я, по старой российской привычке, изображаю чужую драму как свою? Нет. Разница между нами, русскими, и ими, французами, – в деталях, не в сути. В сути – люди те же самые: стехника и сердце, смех и слёзы. А когда дело доходит до религии идей – и мы, и они падаем в одну яму. Ибо наивно полагать, что светская истина не требует жертв; она требует их, и часто быстрее, чем сама первоначальная истина успевает родиться.
Подведу короткий итог – хотя, впрочем, у истории итогов нет. Франция 1793 – это год великого возрождения, но в его натиске слышится звук батальона палачей. Это год, когда человек думал, что делает мир лучше, и тем самым делал его страшней. Это год, когда слова о свободе и равенстве звучали как песни, а под ними, как неумолимый ритм, работала машина закона и смерти. И, наконец, это год, который учит нас одной жестокой истине: если идеал не обладает милосердием, то он неизбежно превращается в новый деспотизм, и в этом – всё горе человеческое.
Смотри же в это зеркало, читатель, и помни: подобные времена возвращаются не только в истории. Они входят в сердца людей, и если мы не будем бдительны, то сами, не замечая, посеем их в собственной земле.
Мировая обстановка 1793 года – это не просто география держав и линия фронтов на карте; это как бы некое общее, избирательно болезненное настроение планеты, которое тянет за собой и моря, и города, и отдельные человеческие сердца. Представьте себе некую громадную комнату, где все желают дышать, но каждый дышит в своё окно; где стены содрогаются от сумятицы, от шагов людей, которые то и дело входят, кричат, уходят и оставляют после себя запахи страха, выгоды и надежды. Вот она – Европа, весь мир – и везде слышна одна и та же нота: тревога. Тревога не тех, кто спокойно расходует жизнь и принимает порядок, а тех, кого потревожили идеи – новые, молниеносные, требующие немедленного взрыва.
Вся Европа, видите ли, наблюдает и делает шаги. Монархии, привязанные к старым соглашениям и родовым страхам, не молчат; они шепчут друг другу на ухо, а кто посмелее – идёт к оружию. Возникает коалиция – не мирный совет, не обсуждение, а военное содружество страху и интересу. Австрия и Пруссия, Англия – все они чувствуют: если революция пройдет, как ураган через сад, то завтра она может дуть и в их садах. Они собирают полки, пересчитывают дукатов, проводят границами, и в их головах – расчёт и будто бы некая робость, как у отца, который видит, как сын входит в тюрьму и не знает, стоит ли удерживать его или позволить ему самому пройти этот путь. Всё это происходит не без корысти: кто-то считает, что старый порядок можно восстановить посредством силы, кто-то – тихо надеется на выгодную часть добычи; но все – в одинаковом страхе.
Но богатый мир не замыкается в Европе. Восток глядит с иных сторон. Россия, под властью Екатерины, ведёт себя как женщина, которая долго терпела, но теперь без промедления берёт себе то, что считает нужным: политические интересы, расширение влияния, и, быть может, то грубое оправдание, которое всегда даёт любой короне – порядок и безопасность. В 1793 году Польша – бедная, измученная старинными узами – подвергается ещё одному разделу; два великих брата, Россия и Пруссия, находят в этой разделённой земле нечто, что можно поделить без большой чести, но с большой выгодой. И как же не вспомнить о судьбах простых людей? Их имена в этих документах не стоят; они – как трава, которую скашивают серпами истории. Польский народ, томимый и униженный, делает свой трагический шаг в сторону угнетения; он смотрит на мир и не видит там сострадания, видит лишь холодные руки, которые считают территории и говорят о целях государственной важности, не зная боли матери, похоронившей сына.
А что же Америка? Молодая республика, едва окрепшая от собственной битвы за независимость, смотрит на европейскую бурю с растерянностью и тревогой. В Соединённых Штатах уже делятся мнения: кто-то склоняется к Франции, видя в ней сестру по свободе; кто-то – к осмотрительности, к торговле и безопасности. Президент Вашингтон провозгласит нейтралитет, и это решение, как мне кажется, подобно бессмертному вздоху мудрости: молодой стране не стоит ввязываться в чужие распри, когда её собственные сосуды ещё не зажили после ран. Но и здесь – в американских городах, в портовых суматохах – ощущается подпольный жар: торговцы, мещане, фермеры – все они чувствуют изменение мирового климата и считают, как лучше вложить свои капиталы, как перевезти зерно, как спрятать золото.
Колониальные владения тоже не молчат. В далёких землях, где насаждали продукцию для прибылей европейских метрополий, вспыхивают восстания, зовут свободу или, по крайней мере, другой порядок. О, Сан-Доминго! Там грядёт нечто, что какой-нибудь историк в будущем назовёт великим потрясением: рабы восстают, и земля, привыкшая приносить сахар и кровь в корзинах европейских баронов, начинает сама требовать перемен. Восстание на острове, где люди поднялись против рабства, где угнетённые борются за жизнь и достоинство – всё это отзывается эхом в метрополиях. Колонии дрожат, губернаторы кусают губы, отсылая депеша и требуя войск. Для европейских держав это – сокрушительный вызов: им придётся либо реформировать систему, либо держать её в железных ланцюгах насилия.
Торговля и деньги, – ах, как это часто бывает, – правят миром, и они же проклинают его. Каждый порт, каждый купец чувствует: войны ломают связи, пошлины растут, страх перед морем становится врагом прибыли. Англия, чей флот был и остаётся её славой, пытается сохранять преимущество, но и там не всё спокойно: внутри страны растёт напряжение политическое, ведь на плечи власти ложатся и обязательства перед купцами, и предостережения моралистов. Те же политики, которые в зале парламента говорят о долге и чести, дома считают, сколько им принесёт контрабанда и сколько потеряет винокурня.
И вот – ещё один слой: люди, одинокие, странники, иногда не представляющие политической структуры, но ощущающие её на себе. Представьте гуся в поле, которому теперь некуда лететь – потому что границы закрыты, потому что мужики отобрали зерно под налоги, потому что солдаты идут по дорогам. Представьте эмигрантов – а их тысячи: дворяне и бедные, интеллигенты и купцы, которые покинули родные места. Их глаза – подобны глазам птиц в клетке: тут есть и покой прежних дней, и безнадёжная тоска. Они шепчут в ночи истории о прежнем величии, о потерянных коронах и о дочерях, забытых в домах. И в этих шепотах – голоса, которые могли бы стать добрым началом, но сейчас лишь каплю в океане плача.
Не могу обойти и религиозную сторону: давним приверженцам веры кажется, что мир потерял направление. В одном крае – шаманы новой гражданской религии, где вместо молитв – прокламации, где на алтарь всё чаще ставят абстрактные понятия; в другом – старые священники, которые пытаются сохранить обряды и обречены, возможно, на изгнание. Но где-то, посередине, люди молятся втайне; и иногда наивное дитя приносит цветы к старой иконе, а в этом поступке – не меньшая героичность, чем в громких речах депутатов.
Словом, мир 1793 года – это не только война государств, но и гражданская война душ. Ибо революции не остаются внутри своих границ; они становятся заразными, как пожар, и переносятся ветром идей и бедствий. Люди в Азии, Африке, обоих Америках слышат о Франции и думают: «А не придёт ли это к нам?» Где-то ответом становится подавление, где-то – надежда. Где-то – тихий расчёт: воспользоваться всеобщим замешательством и вырвать себе кусок, который прежде был чужим. И везде – одна и та же человеческая дилемма: что важней – порядок или свобода, жизнь без муки, пусть и под гнётом, или правда, требующая жертв?
И читатель, – да, вы, который слушаете теперь этот рассказ, – помните: в такие времена каждый выбирает не только политическую позицию, но и образ жизни и, что серьёзней, образ души. Кто-то станет палачом идей, кто-то – их жертвой; кто-то сохранит человечность в себе и станет тем маленьким очагом, где выживет тепло, и эти люди – самые редкие, потому что в бурю жить по-старому трудно. Но именно они, может быть, и будут будущим, потому что в мире, уставшем от страстей, остаются те, кто помнит о милосердии, о совести и о жалости – и это сильнее любых деклараций.
Такова в общих чертах мировая картина 1793 года: великую игру ведут державы, а внизу – люди, и они все в смятении душ; великие слова звучат, и под ними – кровь, и над ними – туман неизвестности. И как часто бывает, история в такие моменты напоминает о вечном: о том, что каждая победа даётся ценой, каждый лозунг таит в себе искушение, и что истинное спасение народа возможно лишь тогда, когда к нему прикоснётся и сердце, а не только закон.
Но, что, если я вам скажу, что все вышеупомянутые события не обошлись без участия высших сил… Нет, дорогой читатель, не богов, и даже не масонов, как привычно думать, что они управляют нами. Речь далее пойдет совсем о другом.
ГЛАВА 1. ПРОПАЖА.
В те неловкие, тяжёлые часы, о которых позднее люди говорили только шёпотом (и часто говорили так, как будто не о делах человеческих, а об очищении душ – будто бы эту ночь сама судьба поставила на проклятый стол всех, кто приходил в нее с очередными тайнами), в одной из парижских квартир, скромных по фасаду, но странно наполненных напряжением и запахом чужих дел, разыгралась сцена, которую и сейчас трудно описать сухим словом «драма». Это было не обычное происшествие; это была сцена, где человеческая горсть вдруг ощутила, что держит в руке и жизнь, и тайну, и страх, и право судить; где каждое движение, каждое слово было тягостно, как молитва, и в то же время исповедально – как признание греха.
Они сидели – или лучше сказать лежали притиснутыми к одной реальности – мать и сын; Сара де Рише и Луи де Рише, двое, у которых была одна судьба, пристёгнуты спинами друг к другу железом наручников, так что металл этот – простой, холодный металл – словно бы олицетворял ту жесткую, неумолимую необходимость, которая в жизни бывает сильнее любви. Посмотрите: металл здесь – не случайность; он образ судьи, и в его тяжести слышится голос малодушия мира, называющий всё «порядком». И над ними, почти с высоты, как хищник, кружил Барон фон Крюгер, человек с лицом, на котором отражалась и привычка к власти, и некая профессиональная усталость – усталость человека, много видевшего, но не много понимающего.
– Последний раз спрашиваю по-хорошему, – говорил он, и его голос (о, как часто голос этикета и спокойных привычек бывает холоднее тысячи нетерпеливых криков) был лишён всякой спешки. Ему нравилось спрашивать «по-хорошему», потому что это давало его вопросу жалкую маску человечности. – Где вы прячете гримуар?
Гримуар – вот ключ к пониманию всей этой сцены. Что такое гримуар? Для кого-то – суеверная книга, для кого-то – сборник заклинаний, для кого-то – простой фолиант. Но иное: в мире, где власть делится печатями и тайнами, гримуар – это власть, это знание, которое может либо вынести на свет истину, либо уничтожить её; это книга, перед которой люди покрывают лицо. Луи отвечал коротко, по-юношески, но в его слове слышалась и решимость, и немного дерзости:
– Как бы вы не старались, вы её не найдете.
Барон улыбнулся. Не буду лгать: эти улыбки – утомительные улыбки людей, которые давно научились считать тех, кого они держат, простыми пунктами в списке дел. Он подошёл к столу, где стояли банки с растворами – и вот здесь наступает момент, который всегда вызывает во мне дрожь: человек, смешивающий яд, действует не как механик, а как художник, бесчеловечно вкладывающий в простое действие смысл смерти. Он наполнил шприц, и его пальцы не дрогнули, как не содрагаются пальцы врача, только вот врач спасает, а он – губит.
– Что вы задумали? – прошептала Сара; голос её едва слышался, но в нём было не столько страх, сколько вопрос к самой жизни: зачем всё это, какое право у человека распоряжаться чужим дыханием?
– Это смесь стрихнина, – произнёс Барон сухо, – яд, добытый из дерева, горького на вкус… Примерно через сорок минут вы почувствуете судорожные сокращения… и через время начнёте задыхаться. Мне этого вполне хватит, чтобы выговорить с вас всё, что мне нужно.
Слова эти, такие расчётливые в своей мерзкой точности, звучали в комнате как приговор, и в эти минуты всё – обстановка, часовой свет, даже доски пола – как будто закрывались над ними.
Тогда произошло то, что объясняется не умом, а только кровью и длительным испытанием сердца: Луи шепнул матери, что успеет открыть наручники, и она кивнула – кивок тихий, полный старой решимости; в нём слышалась не просто материнская любовь, а та тяжкая, суровая материнская любовь, что способна и убить, и воскресить – не слово тут важно, а действие.
Барон подступил, улыбаясь своей уверенной улыбкой, и спросил с незримым презрением:
– Ну что? Приступим?
И в этот момент Сара толкнула сына – не жестом отчаяния, а жестом просчитанным и почти ритуальным, – и он упал у ног Крюгера. Она же, не теряя ни секунды, бросилась к камину; там лежал пистолет, заряженный, и, как это часто бывает в судьбах людей, инструмент спасения ждал своей очереди, как собутыльник, который появляется тогда, когда уже поздно пить чай. Пистолет – дуло, направленное в сторону мучителя, – был холоден, но в его простоте и была вся правда.
Барон опешил, отступая, и в его голосе вдруг забрезжил страх, тонкий и жалкий навык предательства уверенных в себе:
– Пришла пора ответить на наши вопросы – строго произнесла Сара де Рише.
– Не хочу вас огорчить, мадам, но ответа вы не получите. Того, кто меня послал, имя слишком громкое, чтобы его оглашать.
Как часто звучат подобные слова! Как часто людям, у которых есть за спиной авторитет, кажется, что их имя – это нечто, способное напугать и оправдать всё! Луи встал, обошёл Крюгера со спины; молодой человек обещал сохранить жизнь Барону при условии, что тот раскроет истину. Бумажная честь, слово – это для многих последнее прибежище; но барон с сарказмом отвечал, будто намереваясь показать миру, что слово молодого – вещь пустая.
И вдруг – выстрел. Ах, этот один звук! Он разрезал воздух, как нож, и в его резкости сразу же содержалась вся трагедия мира: порох, затем глухой падение, затем тот самый писк в ушах, который остаётся на всю жизнь у тех, кто слышал, как ломается судьба. Кровь – тонкая струйка – полилась на ковер и была впитана, как впитываются тайны; ковер, который до той минуты хранил пятно света, теперь узнал запах смерти.
Луи, стоя с расширенными зелёными глазами, смотрел на бездыханное тело, и в этом взгляде – смесь ужаса и понимания: он уже не был тем, кем был утром; он стал причастен к убийству, хоть и не по злому умыслу, а по внезапной необходимости. Сара прервала его растерянность ровным и холодным голосом, в котором слышалась рутина давно продуманного плана:
– Нам пора уходить.
И они ушли – молча, быстро, как люди, которые унесли с собой не только платья и вещи, но и новую тяжесть совести; ушли, оставив за собой комнату, где ещё долго висел дым пороха, запах которого врезался в обои и становился новым слоем памяти. И в этой памяти – тёмной, мрачной, полной маленьких вопросов, – остался гримуар, загадка которого так и не открылась, как не раскрываются иногда даже самые важные книги человеческой жизни.
Спустя несколько недель – и вот здесь, уважаемый читатель, наступает та пора, когда жизнь, если уж ей и суждено показать своё истинное лицо, показывает его с особенной настойчивостью и грубостью – в одной из тех маленьких, по-русски устроенных коммунальных квартир, что цеплялись, как сорные растения, на окраинах Парижа, случилось нечто, что могло бы показаться незначительным, почти комическим, но всё же таившим в себе нечто решительное и страшное. Да, поместье судьбы часто прячет свои удары за мелкими событиями: книга, пепельница, стук в дверь. В нашем случае – книга, сухая и потёртая, лежала в руках у Луи де Рише, и он, молодой человек с глазами какого-то девичьего, почти болезненного зелёного цвета, листал её так, будто искал в ней не слова – не то читать привычной усталой рассудка нуждой, а искать там того, что не даёт покоя сердцу.
Квартира эта была удивительная смесь чуждого и родного: по-русски коммунальная – то есть с общей кухней, с коридором, где лица соседей выглядели всегда взаперти, – но в Париже, с его влажным воздухом и запахом сожжённого масла, с маленькими французскими плафонами и картиночками, которые висели косо и как бы стыдились своей невеликолепности. Стены потрескавшиеся, углы залиты тёмными следами прошлых дождей, но в воздухе было больше не грязи, а какой-то привыкшей унылости, той самой, которая случается у людей, привыкших к постоянным потерям. На столе – чашка без чая; на подоконнике – бумажный силуэт какой-то незаконченной жизни; на полу – газеты; и в этом бедном быту молодой человек сидел и читал.
Сара де Рише – имя её звучало ранее для него то ли как молитва, то ли как проклятие; она уехала, и никто не знал, куда, и для неё это было в точности так, как она умела жить: внезапно, без объяснений, без повестки. Её уход не был случайным; женщина эта, мать Луи, являлась основательницей и, более того, матерью-идеологом Золотого ордена – того самого закрытого братства, о котором в их кругах слагали легенды и неправдоподобные слухи. Орден этот имел ложи в каждом уголке света, – представьте себе: не просто в столицах, но и в глухих деревушках, где ещё говорили неправильно, – он щедро влиял на политические программы, направлял судьбы религий, собирал артефакты, как кто-то собирает марки или камни. Они были философами – это слово слишком скромно для их дела; они были силой, которая умела обращаться с миром как с материалом для ремесла, и в их руках нравственная ткань общества становилась мягкой, как воск. Люди, входившие в их круги, знали и могли прясть судьбы; но всё это было как бы поверхностно по сравнению с тем, что вешало на грудь Сары де Рише – та ответственность, та тяжесть, которой давало ей право исчезать, не прощаясь.
Луи с детства, по неожиданной и странной привычке, приучился к отсутствию; мать исчезала, являлась, снова исчезала – и вся его жизнь была выстроена как череда молчаливых ожиданий. Он не задавал лишних вопросов; зачем встревать в то, чего не понимаешь? Таков он был: в нём было не только покорность, но и некая болезненная гордость, горечь оттого, что жизнь его была поделена между долгом и пустым местом, где должно было быть материнское лицо.
И вдруг – стук. Стук в дверь, который нарушил тишину так, будто самой тишине дали пощёчину! Он был тяжёлый, настойчивый, не похожий на привычные звонки; это был стук судьбы. Луи оторвал взор от страниц с тем же чувством, с каким человек отрывает взор от покойника, чтобы посмотреть, не оживёт ли он. Он встал медленно, как будто бы не желая поспешности, потому что каждая поспешность в такие минуты порождает дурные последствия. Дверь открылась, и на пороге, прямо на ней, стоял почтальон – человек худой, бледный, измученный, как будто носил на себе весь людской холод и дождь прошедших дней. В его лице была какая-то непривычная усталость, глубже простого физического истощения; это была усталость от повторяющихся вестей, которых не хотелось приносить, ибо они несли большее, чем просто правда.
Он протянул дрожащей рукой один лист – и в этой дрожи было что-то чрезвычайно верное, какое-то неумолимое признание: письмо. Конверт был тяжеловесен, с печатью, которую Луи по первому взгляду узнал и не узнал одновременно – печать с символом, который так или иначе отзывался в крови: круг, в центре которого был знак, похожий на солнце, и под ним буквы, затёртые, как старая память. Сердце Луи вдруг дернулось и запело странную песню, которую он сам себе не хотел петь; в этот миг всё его существование стало приставлено к резкому вопросу: что дальше? Откроет он конверт – и узнает ли истину, или только новую сеть тайн развернётся пред ним?
Почтальон, ласково и одновременно жестоко уставший, произнёс: «Это для Вас, мсье». В его голосе слышалась не только официальная фраза; в нём было как будто сожаление человека, который вынужден приносить не только почту, но и судьбы. Луи взял конверт, и его рука, напротив помощи обволакивающего тепла – или холода – дрожала. Он почувствовал в себе ту смешанную дрожь, от которой иногда человеку хочется и плакать, и смеяться; и всё же он принял его, потому что другого выбора не было: письмо – это всегда начало разговора с миром, а мир, в свою очередь, слишком часто говорит на языке угроз.
Он закрыл дверь. В комнате вновь опустилась тишина, но теперь была она иной породы: в неё вплёлся звук сердца и шелест бумаги. Луи сел за стол и, держа конверт в руке, взглянул на окно, где унылый свет делал всё ещё бледнее, как будто бы ночи давно уже поселились у него в комнате. И тогда он, забыв о прежнем умении не задавать вопросов, почувствовал, как одна мысль – тяжёлая и едкая – положила руку ему на лоб: в письме – ответ на исчезновение его матери, или же приглашение в новую ловушку. Как часто в жизни эти буквы стали завесой, скрывающей от человека либо спасение, либо гибель!
Письмо пришло так внезапно и так нелепо в своё спокойное, почти ленивое существование Луи де Рише, что сам он, читая его в ту же самую минуту, когда надо было бы молиться или, по крайней мере, плакать, не знал, смеяться ли ему над собой или плакать над судьбой. Это было не просто приглашение – нет, приглашение в тех краях, где каждое приглашение похоже на повестку, на приговор, на призыв к исповеди. На бланке – печать старого, но гордого рода; почерк – мелкий, точный, с некой английской сухостью; и в словах – не столько просьба, сколько требование.
«Месье Луи де Рише», – читал он вслух, с тем особенным чувством мучительного торжества, какое бывает у людей, которые вдруг обнаруживают, что весь мир внезапно повернулся к ним лицом, но лицо это холодно и грозно. – «Лорд Уильям Мортимер просит вас немедленно прибыть на его остров. Срочно. Я должен сообщить вам, что мадам Сара де Рише числится пропавшей без вести уже несколько дней. С уважением, секретарь. – В полночь. – Привоз на яхте. – Конфиденциально».
И всё. Никаких объяснений, никакой жалости, и в то же время – вежливое, почти расчётливое прикосновение к чужой беде, как к вещи: «срочно прибыть», – и всё конвертируется в напряжение того, кто зовёт. Ах, эти сухие слова – «конфиденциально», «срочно», – они звучат как шпоры у лошади на мостовой судьбы.
Луи уронил письмо; оно упало на стол и легло между пачкой старых счетов и фотографией матери, где её глаза, казалось, смотрели прямо на него с тихой, почти преступной уверенностью. Что это было – неведомая кара, наказание ли от случая, или звуковой крик судьбы, которую он забыл? Он вспомнил, как последние дни заметал мысли: работа, друзья, дни, пустые, как чашки без вина; а мать – мать, она была где-то рядом, всегда как тень у окна, как вечный обет. И вдруг – «пропала». Слово это, такое короткое, будто маленький нож, вошло глубоко, и в сердце Луи не сразу развилась та боль, какая бывает только при столкновении с ничем, с безднами, – та самая боль, которую невозможно спрятать ни под какими словами.
Лорд Уильям Мортимер – имя, которое в их кругах звучало и как вызов, и как оберег, и как клада тяжёлого, черного золота памяти. Люди о нём говорили почти шёпотом: человек-остров, человек-тайна, человек-коллекция. Он жил на своём острове – на острове, который, по слухам, окружала вода холодная и мёртвая, с берегами, где бились волны и сыпались камни, где чаще поросшие мхом утёсы, чем сады. Остров сей не радовал глаз добротой; он был суров, как характер того, кто там правил. Туман ложился на него как саван, и ночью всякая фигура на набережной казалась сгустком воли. На остров доплывали лишь те, кому велено или те, кто согласился на сделку – и вот теперь он просит Луи; просит не открыто, но как бы из-под земли, через сухой французский почерк, через английскую прямоту.
Воображение Луи нарисовало дом этот таким, каким любят его рисовать в страшных легендах: огромный, тяжёлый, как раздавленный птицей кит, возвышающийся над скалами; фасады его – с колоннами, с карнизами, с масками каменными; башни, сводчатые окна, – всё это, казалось, закрывало в себе не просто комнаты для жилья, а целую страну вещей. Да, это был дом-архив, дом-сокровищница; там хранились подлинники картин, произведения искусств – то, что, по-видимому, Мортимер собирал и прятал, как человек, который боится отдавать мир во власть толпе. Галереи его были длинные, залы – высокие и холодные; в них висели полотна, лица с которых смотрели не живые люди, а какие-то взгляды из других эпох, из иных судеб, – и в этом зрении была та особая тяжесть, какая бывает в музеях старинных, где краска ещё дышит и где запах льняного масла и лака смешан с запахом старости.
Представляя себе этот дом, Луи видел не только роскошные комнаты, но и лабиринт карнизов, секретных дверей, подвалов, и сторожей, похожих на привидений; видел, как картины, собранные как добыча, висят в полумраке под лампами, потрескивают рамы, и вокруг них нет ни голосов, ни света – только тишина, в которой слышится шелест отдельных страниц, страниц тех гримуаров, о которых он уже думал. И ещё – люди Мортимера. Те, кто ухаживал за полотнами, те, кто владел ключами, – люди строгие, с глазами, в которых застывала не любовь к искусству, а любовь к тайне.
«Приезжайте ночью, – говорило письмо, – конфиденциально». Ночь – всегда время тяжёлое, время решения, время, когда кладет свои лапы совесть на плечи человека. Луи понял: приглашение это – не просто зов, это приглашение в лабиринт, где возможно встретить правду, а, может, и её тень. И в то же самое мгновение, он почувствовал в себе ту старую странную смесь страха и любопытства, что бывает у людей, стоящих на краю пропасти: не отступить – значит броситься в неё; отступить – значит навсегда остаться в тени. Что же сделает он? Ответ этот лежал так близко и так далеко, как и сама пропавшая мать, и он, чувствуя себя пленником своих же чувств, уже понимал, что завтра, когда яхта Мортимера подаст свой ровный, глухой звук в бухте, он пустится в путь – как тот, кто идёт посреди ночи не от света, а к свету, который может оказаться свечой или прожектором судного дня.
На следующий день яхта лорда прибыла в гавань Темзы и прорычав несколько раз призвала вступить на свой борт Луи де Рише, дабы отправиться в неизведанные края на поиски матери. Никогда прежде – по крайней мере, так казалось Луи де Рише в те мрачные, переломные часы, – он не думал, что море может быть столь говорливым. Не о ветрах, не о приливах и отливах речь, нет; говорило в нём что-то другое, гораздо старше и беднее, – то самое бесконечное, робкое и страшное слово бытия, которое, когда ему случается заговорить, всегда звучит, как приговор и как просьба одновременно. Лодка лорда Уильяма Мортимера, большая, тяжелая, с каютами, затенёнными и влажными, – лодка, всем своим видом обещавшая власть, покой и роскошь,– шла по морю, будто бы сама коря себя: «я принадлежу человеку, который умеет властвовать», – и в то же самое время: «я слабела, я дрыгаюсь, я могу предать». Она шла с той медлительностью, которая навевает мысли о предстоящем; она шла, будто стыдясь ускориться.
Луи – молодой, но тем не менее усталый от жизни человек, с куполами воспоминаний, в которых мать занимала место не столько матери, сколько загадки, – сидел на банке у кормы, обхватив колени руками, и смотрел на ту полосу света, что оставлял кормовой винт на поверхности, на тот шрам, что яхта прокладывала по телу моря. Письмо лорда Мортимера, пришедшее накануне вечером, лежало у него в кармане, как нечто живое и тяжёлое; и каждое прикосновение к ткани воротника, к старому чёрному кожаному переплёту записных книжек – всё казалось ему напоминанием о бумаге, о словах: «Ваша мать исчезла», – и о том, что «исчезнуть» в нашем веку – это не простое слово, а маленькая смерть, и что не каждый имеет право на то, чтобы быть похищенным тем, что зовётся судьбой.
Он думал о Мортимере – и думал с противоречием, которое обычно посещает людей, стоящих на грани между жалостью и подозрением. Лорд казался ему и добродушным, и странным; письмо было точным, вежливым, но в нём слышались паузы, словно за словами таилась дрожь. И что же? Ведь люди, которые могут формулировать мысли хладнокровно, часто гораздо более опасны, чем те, у которых язык трепещет. Луи ошибался? Или он чувствовал тонкое присутствие в этих строках чего-то, что не может быть выговорено, – то есть того, что, как правило, человек признаёт лишь перед зеркалом собственной совести?
Яхта шла, и море, отразив сквозь себя ту тяжесть, казалось, разговаривало с Луи о прежних грехах, о промахах и о том, как легко строится упрёк в душе человека, который ещё не успел закончить своё покаяние. Он думал о матери: о её голосе, который был мягок и злободневен одновременно; о её случаях, мелких, почти неприметных, когда она исчезала в толпе, будто бы и не хотела быть замеченной. Его память представляла сцены, мельчайшие жесты, запахи, и каждое из этих воспоминаний прилеплялось к письму Мортимера, делая его всё более нестерпимо важным. Быть может, она ушла сама? Быть может, кто-то вывел её из дома тихо, как забирают старую птицу, чтобы посадить на чужой сук? Вариантов было множество, и все они были дурны.
Вдруг он вспомнил лицо лорда: не столько портретное и официальное, сколько то, что было скрыто в двух строчках приёма, когда Мортимер говорил о ней – о той женщине, чей образ, по-видимому, принадлежал не только его сыну. Почему Мортимер жил на острове? Почему именно там? Вопросы становились острыми, как клинки, и Луи чувствовал, что каждая волна, разбивающаяся у борта, отскакивает от его сердца и приносит новые сомнения. Он был приглашён – приглашён ехать на ту землю, где, быть может, таилась истина, и где, возможно, таилась ложь того же человека, чьё имя было для него священно-запретным: лорд Уильям Мортимер.
Ночь сжала их плавучее жилище; яхта словно вгрызалась в тьму. В каюте слышались шаги экипажа, тихие, чаще полу-шёпотные; и казалось, что даже люди, пришедшие сюда с привычкой подчиняться приказам, замолкли оттого, что берег – этот маленький, земной берег, был как бы прикрыт от них особой печатью: «здесь многое может быть раскрыто, но многое и спрятано». Луи слушал то, как внизу, в трюме, болтается провизия, как старые доски скрипят, и думал о том, как легко можно поверить в чистоту намерений человека, который вёл свою жизнь под именем благородства. Благородство – слово неоднозначное; оно бывает и прикрытием, и спасением.
Он читал письмо вновь. «Ваша мать пропала… Мы ищем… Свыше всего просим Вас прибыть скорее…» – и так далее, и так далее. В этих строках было и нечто деловое, и нечто, почти болезненное; и Луи, разбирая эти полутона, не мог не думать о простоте человеческого страха. Почему страх всегда возводит вокруг себя стены? Почему открытие одной двери приводит к вырытию множества других? Он представлял себе остров: высокий, скалистый, с домом, где мерцают свечи по ночам, где люди ходят тихо и как будто боясь друг друга. И, может быть, там, среди каменных стен, мать слышала голоса чужие и чуждую ласку, и вдруг поняла, что не принадлежит никому, и ушла. Или ушли её. Какая из версий ужаснее – сама мысль о добровольном уходе или мысль о том, что её унесли, словно вещь, не принадлежащая к человеческому роду?
Луи не мог избавиться от ощущения причастности, от странной, почти нечистоплотной гордости, что лорд предоставил ему яхту. Да, предоставил – как бы приглашая его в свой мир, в свою тайну. Это приглашение – было ли оно актом благородства или испытанием? Он вспомнил, как однажды, будучи ребёнком, наблюдал за тем, как ставят под сомнение слова взрослых; тогда ему казалось, что истина – это маленькая жемчужина, которую можно потерять в песке разговоров; но теперь, в тридцати шагах от той земли, где, быть может, мать ждала ответа, жемчужина стала тяжёлой и болезненной.
Вдруг на горизонте показалась голубая линь моря, и вода как будто задышала; зарниц не было, но было нечто похожее на предвестие. При свете бледного утра лодка встала и, приближаясь к острову, обнажала свои скелеты – те самые тайны, что всегда у моря: острых, лаконичных, лишённых мягких прикрас. И чем ближе они подходили, тем сильнее в душе Луи росло это, трудно объяснимое, чувство, что всё, что случится, будет не просто наказанием или откровением, а подлинным экзаменом для его собственной сути.
Разве не было в нём желания закрыть глаза и вернуться назад? Да, было. Но был и другой порыв – порыв, который труднее объяснить словами, – желание знать, наконец, кто он есть в мире, где мать может исчезнуть, а благородство может быть маской. Он слышал в себе голоса прежних лет, обвиняющие и прощающие одновременно. И всё это время, пока яхта катилась у края земли, пока крылья чаек стучали, как бы напоминая живым о своей свободе, Луи чувствовал, что ходит по краю пропасти: то ли он сделает шаг назад и останется в иллюзиях, то ли шагнёт вперёд и откроет дверь, из которой, может быть, выйдет не знание, а ещё более страшная неясность.
Яхта остановилась. Казалось, природа задержала дыхание. Луи встал, облокотился о перила, и в том последнем мгновении, перед тем как ступать на остров, он испытал – и это было главным, – ощущение, которое трудно назвать иначе как предчувствие суда. Не суд людей, не суд закона, но суд внутренний, древний, тот самый, который взыскивает с человека не за отдельные деяния, а за то, что он не умеет любить до конца, не умеет видеть до конца, не умеет молиться до конца. И когда шлюпка, опущенная в воду, качнулась и понесла их к берегу, Луи почувствовал, что чужие глаза, чужая совесть и чужие истины теперь будут тесно соседствовать с его собственной; и это соседство было и обещанием спасения, и угрозой. Как в романе, который ещё не написан, а уже навис над ним своей судьбой, он шагнул на влажный песок острова, и в этот шаг вошло всё: надежда, страх и смирение, смешанные в одно тёмное, но необходимое намерение узнать правду – какой бы цена за неё ни взималась.
Остров был каменным не только по букве, но и по духу; и это было видно сразу, как только, продержав дыхание, подходишь к берегам. Скалы тут не играли формой и не украшались лишними изгибами; они выросли из моря гордыми, тяжёлыми блоками, как будто кто-то долотом и молотом вытесал из вечности один простой, неумолимый приказ – стоять. Их поверхность, взъерошенная ветром и солёной пеной, блестела местами, как металл, и в этих отблесках чувствовалось не солнце, а какая-то внутренняя холодность; и потому остров казался не землёй, которая даёт, а каменной мыслью, которая требовала ответа.
Дорога, если можно было назвать дорогой ту полосу, что петляла вдоль обрывов, не вела ни к жизни, ни к отдыханию; она вела к вершине – к особняку, где лорд Уильям Мортимер держал свои тёмные и блестящие думы. Шаг за шагом ты поднимаешься, и каждый шаг напоминает себе о том, что ты не просто покоряешь высоту, а приближаешься к суду: низко лежащий прибой шепчет о беспомощности, о бренности вещей, а ветер, свистя и рвя плащи, кажется, говорит такое, в чём не нужна ни одна человеческая нитка слов – он говорит о влечениях, страстях, о тех неумолимых цепях, из которых не выйти, сколько ни беги.
Особняк этот сидел на вершине как коронованный ум, и корона его была сплошь тяжёлыми карнизами, зубчатыми балюстрадами и тёмными окнами – окнами, в которых не отражалась ни даль моря, ни ближний скалистый склон, а только внутренний жар каменного дома: глаза хозяина, который смотрит не на мир, а на сам себя. Снаружи – строгая, почти суровая архитектура, без излишеств и без приветливых украшений; но именно эта суровость усиливала ощущение, что внутри спрятано и много богатства, и много вины, и много одиночества. Казалось, что дом питается тем единением противоположностей: благородство – формой, низость – содержанием; и что чем выше поднимешься по его ступеням, тем тягостнее будет тяжесть духа.
Ступени – как в соборе, широкие, утомительные – вели в вестибюль, где воздух был плотен и прохладен, и где цепь звуков – скрип досок, шёпот тканей, удалённый стук часов – создавала порядок, столь же неукоснительный, как и закон. Стены, облицованные тёмным деревом и расшитыми орнаментами, хранили запахи: смесь воска, старинной бумаги, тлеющей свечи и редкой лаванды, которую привозили из материка, – и всё это вместе давало ощущение присутствия памяти, будто дом – это не просто набор комнат, а целый архив человеческих поступков и заблуждений. Величие комнат удивляло – потолки высоки, картины в тяжёлых рамах, портреты предков, во взглядах которых пряталась стальная воля и какая-то усталость и жестокость одновременно. И чем больше смотришь на их лица, тем явственней понимаешь: по этим лицам перечитывают книгу наследственных долгов и грехов.
Комнаты жили своей особой, мрачноватой жизнью: в библиотеке, где книги стояли плотными рядами, воздух был наполнен не только запахом бумаги, но и тем чувством, которое можно назвать болезнью сознания – это была болезнь поиска смысла, которому не дают покоя ни благородство, ни богатство. Книги, казалось, шептали о прежних сплетнях, о тайнах, о тех поступках, о которых предпочитали молчать при свете, но о которых говорили шёпотом в коридорах. В залах, где стояли мебельные ансамбли строгих линий, можно было услышать, как мрачно поскрипывает кресло, если в нём садился тот или иной член фамилии; и было в этих звуках что-то нотационное, как будто дом вел счёт всем падениям и спасениям своих обитателей.
Сверху же, с самой крыши, открывался вид, не похожий на вид с обычных усадеб – это был панорамный приговор: с одной стороны – море, то безжалостное зеркало, с другой – острые зубья скал, а внизу мелькали маленькие лодки, как жалкие свидетельства человеческой слабости. Воздух тут разрежен; каждый вдох кажется подвигом; и все те виды, что открываются, будто бы приговаривают: «Ты – ничто, и всё, что ты станешь творить, будет происходить под моим надзором». Это надзор без лица, без формы, но с тем влиянием, которое давит не меньше, чем железо.
Лорд Мортимер держал свой дом так, как держат на вершине камня птицу – сдержанно и властно; но в его власти таилась не только забота о состоянии имущества, но и диктат внутреннего порядка, где каждая мысль взвешивалась и каралась, если выходила за пределы дозволенного. Служанки ходили по коридорам как тени, помня за собой шаги прошлых поколений; хозяин света – большой зал, где столы ложатся в ряд, а лица обесцвечены мыслями о власти и бессмертии – это была сцена, на которой жили люди, привыкшие к той тяжести, что даёт высота, и к той пустоте, что рождается в венах одиночества.
И в этой возведённой над морем крепости было что-то не только величественное, но и страшное: ведь владение вершиной – это владение точкой, откуда ясно видеть падение; а те, кто привыкли смотреть сверху вниз, со временем начинают видеть лишь свое собственное отражение в глазах других. Остров и дом – вот как бы единый образ: камень, что хранит и молчит, и дом, который говорит, но говорит не языком утешения, а языком требований. И когда ты стоишь на берегу и смотришь вверх, на этот дом – на этот высочайший и так же безжалостный суд, – чувствуешь, что даже ветер, что тут свистит, – не единственный свидетель, а лишь низкородная прислуга великой и вечной силе, которая, словно судьба, наблюдает и выносит свой, молчаливый приговор.
На небольшом, полу гнилом причале были пришвартовано еще несколько яхт, с которых стали выползать ленивые зеваки, как было понятно, это были гости лорда Мортимера. Среди них была Эмили Хиллсборроу – английская герцогиня, приближённая королевы Англии. О происхождении Эмили мало что известно. На политической арене она оказалась после свадьбы с пожилым английским аристократом, вероятно, вступив в брак по расчёту. Герцогиня действует осторожно, но выступает за свободу личности, придерживается современных взглядов и пользуется большим уважением знати. Сначала Эмили была любимой посланницей королевы, а потом стала личным секретарём премьер-министра Уильяма Питта. Это назначение породило массу слухов и вызвало всеобщую зависть. Эмили, уже бывавшая ранее на острове, с радостью приняла приглашение сэра Грегори на знаменитый приём, который в очередной раз устраивал лорд Мортимер.
Эмили стояла так, словно сама судьба её была напечатана на лице; не то чтобы печать была груба или вызывающе орнаментальна – напротив, она была тонка и мучительна, как почерк человека, привыкшего к великому напряжению мысли. Лицо её было ясно очертано, как профиль на мраморе: высокий лоб, не слишком выдающийся, но широкий в том, что он обещал – не пустую гордость, а труд ума и непрестанную работу сознания. Волосы её— не просто украшение, а покров, который таил и защищал; тёмно‑каштановые, с золотистыми проблесками в лучах редкого солнца, они убраны были так, что казалось: она не хочет и не может позволить им мешать делу мысли, но при этом каждое прядь лежала по‑своему гордо, с тягой к порядку и прихотью легкой своевольности.
Глаза Эмили – это то, чего не забудешь, если однажды встретил их взгляд: большие, ясные, серо‑стального оттенка, в них горел не только ум, но и постоянное, вялое движение души – то любопытство, которое не удовлетворяется простыми ответами, то горение, что не позволяет слепо подчиняться лжи. Взгляд её был испытующим, как правило судьи, но не жестоким; он мог разглядеть в человеке не только обман, но и стыд, и возможно – спасение. Когда она улыбалась, улыбка та была не праздной, не «светской»: она приходила, как уверенность еще раз повторить своё внутреннее «да» миру, и в ней слышалось нечто похожее на обет – «я стану услышанной». И вот что удивительно: губы её, тонко очерченные, умели быть и мягкими, и строгими, и тем самым прибором, который, казалось, знающий люди держат наготове, чтобы пощадить и наказать, – по необходимости.
Шея у неё была стройна, почти фарфоровая, но с теплотой живого тела; она держала голову прямо, с достоинством человека, который осознаёт свою цену, но не благодарище. Тело – не вызывающее, но изящное; походка сдержанна, как у человека, привыкшего к выходам при дворе, но в ней чувствовалась свобода: шаги не разбрасывались на показ, они были осмотрительны, почти экономны, будто каждое движение экономило силу для дела ума. Одежда Эмили заслуживала отдельного слова: она выбирала ни роскошь для хвастанья, ни скромность для сокрытия, а меру – и в этом тоже была её гордость. Платья её отличались строгим вкусом, кроем, который подчёркивал линию, не вульгаризируя тела; ткани – дорогие, но не кричащие; украшения – аккуратно подобранные: один‑два камня, знающие своё место, как сдержанный аккорд в симфонии. Всё это говорило о женщине, воспитанной в высшем свете, но не пленённой им до самоуничижения.
Рука её, та самая правая, которой она писала письма премьер‑министру, была тонка, с пальцами правильной формы; в ней чувствовалась сила, которой не всякая грубость сравнится: она умела не только гладить пергамент или трогать роскошь чаши, она умела держать ответ, требовать и убеждать – и делала это так, что даже противники её неизменно замечали: «у неё ум и железная воля». Голос Эмили – не громогласный, но уверенный; он звучал скорее внутренней нотой, чем внешним оркестром: тихо, но так, что слова проникали в сущность слушателей, и подчас они, не ведая почему, соглашались с тем, чего раньше не хотели принять.
И всё же в её облике был едва заметный след скромности, как будто где‑то под слоями придворной школы и полезных манер таилось нечто старое, почти забытое – корни, о которых она не говорила. Внезапные на её лице проявления сентиментальности, мгновенные вспышки усталой печали – всё это говорило о том, что красота её не только внешняя, а оттого и сильнее: она не ради внешности живёт, а потому внешность её обнажает внутреннее напряжение. В нём и любовь к свободе личности – не декларация, а боль, проникшая в плоть. В нём и та осторожность, с которой она действует: осторожность умеющего считать цену каждому шагу, чтобы не потерять того малого, что ей дорого, и в то же время сохранить верность своим убеждениям.
Если говорить кратко, но точно: Эмили Хиллсборроу – красивая не по нарочитому счёту, а как удостоверение: красива умом, и ум её виден в лице; красива достоинством, и достоинство это не маска, а натура; красива состраданием, пусть и скрытым; и потому её образ вызывает и уважение, и лёгкую зависть, и трепет – не от пустой привлекательности, а от той силы, что умеет сочетать светский блеск с внутренней правдой и которую люди, привыкшие к внешним знакам власти, так часто не понимают и потому боятся.
Говоря о сэре Грегори, влиятельном английском аристократе, или как его называют иначе в определенных кругах барон Ноттингем, который уже был на острове несколько недель, это человек, который защищает интересы британской короны, распространяя влияние Соединённого Королевства по всему миру и помогая уменьшить государственный долг. При его участии были приняты важнейшие экономические решения: от основания успешной Ост-Индской компании до размещения испанских торговых постов в Америке. Барон оказывает большую поддержку рабочему классу, открывая школы для бедных детей, которые, по его мнению, должны привести страну к новой промышленной революции. Сэр Грегори никогда не упускает возможности познакомиться с новыми людьми на собраниях своего друга, лорда Мортимера.
Также не причале Луи де Рише заметил Его Высокопреосвященство кардинала Джузеппе Пьяджи – посла папы Пия VI. Он выдающийся оратор, Джузеппе Пьяджи посвятил свою жизнь служению Римско-католической церкви. Узнав о его образованности и увлечении философией, папа римский тайно нарёк Пьяджи кардиналом «in pectore». Пьяджи находится в доверительные отношения с Пием VI и помогает ему направлять верующих. Пьяджи прибыл в особняк по приглашению сэра Грегори, желая повидать своего старого знакомого лорда Мортимера и представить интересы Ватикана.
Он стоял на причале как посланец не только Святого Престола, но и самой истории – не крикливый, не театральный посол, но тот, чей приход ощущается сразу, как будто чужая земля получает внезапно знак того порядка, который не всегда виден глазу. Его Высокопреосвященство кардинал Джузеппе Пьяджи был человеком, в облик которого вошли и римский купол, и монастырская свеча, и холод палат где читают философов; в нём было столько же духовной суровости, сколько и жизненной выучки, – и об этом говорил каждый штрих его лица, каждая складка плаща, каждое движение руки.
Лицо у него было продолговатое, не молодое уже, но не старое по тем меркам, которые мы привыкли называть старостью – скорее испытанное: как если бы его кожу обкатывали ветры и идеи, молитвы и споры. Лоб высокий, смёрзшийся в привычке думать, с тонкими, но упорными морщинами, говорящими о долгих ночах молитвы и долгих часах полемики; он словно хотел сказать: «я знаю цену мысли и плату за слово». Глаза – вот что прежде всего бросалось в глаза и заставляло понимать, что перед тобой не простой священнослужитель, а человек слуха и резона. Взгляд их был тёпло‑тёмный, не блёклый и не дряхлый: в глубине карих глаз таилась искра – не солнечная, а скорее клейкая, та, что держит и привлечённого, и сомневающегося; этот взгляд умел слушать и умел быть орудием убеждения. В нём однажды увидишь мягкость, как у старца, склоняющегося над грешником; в другой момент тот же взгляд превращается в нож аккуратного вопроса, которым он вскрывает мысль собеседника и находит в ней скрытые мотивы.
Нос его был прямой, – нос человека, привыкшего командовать и одновременно подчиняться великой традиции. Рот – тонко очерченный; губы нечасто улыбались, но когда улыбка случалась, она не была ни лицемерной, ни пустой: она была тёплой, почти детской, как у человека, которого радует чистота души в других. Борода тонкая, аккуратно подстриженная, не служила украшением, а была знаком порядка, который он навёл в себе прежде, чем явить миру. Волосы, уже с проседью у висков, убраны аккуратно: они не мешали его жестам, зато подчёркивали, что человек этот – не из тех, кто любит суетную показуху.
Одеяние кардинала – не просто цвет и ткань; оно было как бы театром, в котором разыгрывается вечная драма: красный плащ, но красный не праздного блеска, а животворящей, почти тусклой красоты, как у старой, но почтенной мантии; митра или тёмная шапка – здесь неважно, ибо символ важнее формы – показывали ранг, однако этот ранг был не напускной. Материя одежды шуршала тихо, как страницы богословских трактатов; при каждом движении казалось, что в складках спрятаны и терпение, и приговор. Воздух причала, солёный и свежий, пробивался сквозь ткань, и это живое дуновение морской стихии словно сталкивалось с усталым духом человека, привыкшего к бесконечным коридорам власти и ряду сводов священного ритуала.
Руки у него были удивительно выразительны: длинные пальцы, чуть сухие, не которых видна привычка держать не только чашу Евхаристии, но и перо, и палатку переговоров одновременно. Этими руками он умел благословлять и умел считаться с деньгами, умел писать проповеди и дипломатические посланья. Они говорили то же, что и голос: голос его – низкий, ровный, с мягким итальянским акцентом, но не сладострастным; он раздавался свободно и проникал в уши слушателей, как звон наполненного минарета, и тот, кто слышал его однажды, вспоминал не слова, а их вес – как будто каждое слово было присяжным решением. В речи его чувствовалась философская выучка: цитата, афоризм, тяжёлое словесное украшение – и всё это он умел бросить в разговор так, что даже скептик ощущал прилив уважения.
И всё же, при всей внешней собранности и достоинстве, в нём таилось нечто, что Достоевский назвал бы «человеческим», – не добродетельная чудность, а скрытая слабость, не грех, а память о немощах. Иногда, когда он останавливался и смотрел на волну, на парус, то в его взгляде появлялась печаль, не объявленная никому; была в этой печали и тревога о судьбах верующих, и, может, тень страха перед признаками вселенских перемен. Эта тень не портила его величия; она, напротив, делала образ ещё более правдоподобным и потому страшным для тех, кто считал силу только в орденских лентах и дворцовых титулов.
Таков был кардинал Джузеппе Пьяджи на причале лорда Мортимера: человек из другой сферы, но не чужой этой земле; человек, который приносил с собой и молитву, и мысль, и неизбежный вопрос о том, кто прав и кто виноват в мире, где власть и вера так часто идут рука об руку, и где слово может спасти, а может и разрушить.
Анализ: в исходном фрагменте заложены все необходимые драматические элементы – знакомство «заочно», чувствительная неловкость первых слов, старые связи и тайны матери, внезапный приступ и видение. Чтобы текст зазвучал в духе Достоевского, нужно усилить психологизм, сделать речь персонажей более взвешенной и в то же время выкристаллизовать внутренние монологи Луи: боязнь забвения, тяготение к семье, предчувствие беды. В диалоге – чуть больше иронии и смысловых пауз; сцена на причале должна потемнеть, ощутиться давлением ночи и истории; галлюцинация – превратиться в предзнаменование, в суд совести. Ниже – переработанный текст.
Со всеми упомянутыми персонами Луи де Рише был знаком лишь издали – из рассказов материной уст. Но рассказ – это ещё не знакомство: рассказы могут подменять лицо человека, придавать ему черты, которых у него нет, и тем более утаивать те черты, которые имеют значение. Сам же Луи, занятый своими мелкими, но постоянными делами, не находил доселе случая познакомиться с ними лично; и вот теперь, когда случай сам, как волна, поднёс его к причалу, он чувствовал – и чувствовал не без робости, – что сейчас откроется некая сцена, – сцена, которую он долго к себе приговаривал.
Он аккуратно отряхнул штанину – жест пустой, и вместе с тем значительный: будто бы отмахнулся от собственной неустроенности – и подошёл к двум стоящим у парапета лицам, которых разговор, по-видимому, захватил всерьёз. Герцогиня Эмили Хиллсборроу и кардинал Джузеппе Пьяджи вели беседу так сосредоточенно, что можно было думать: речь идёт о вещах, которые требовали не только голоса, но и внутренней готовности к ответу.
– Для чего нас собрал лорд Мортимер, вам не известно? – спросила Эмили. Вопрос её был вежлив и настойчив; в нём слышалась привычка держать людей в курсе событий, – привычка хорошая и опасная одновременно, ибо она подразумевала знание хода жизни: кто где, кто с кем, и с какой целью.
– Нет, дорогая, – ответил кардинал ровно, с таинственной спокойной вежливостью, которой путьили люди, видевшие много и не удивлявшиеся уже ничему. – О цели мне ничего неизвестно. Я получил лишь письмо от сэра Грегори с назначенной датой отплытия яхты.
Разговор прервал лёгкий, но уверенный голос. Луи выступил вперёд и поклонился, едва заметно, но так, как того требует воспитание, и как того требуют тайные, давние знамена, под которыми он родился.
– Доброй ночи, господа, – сказал он. Их головы одновременно повернулись; обменялись приветствиями, и эти приветствия были как ниточки, которыми люди осторожно измеряют друг друга.
– Вы, если я не ошибаюсь, герцогиня Хиллсборроу, а вы – кардинал Джузеппе Пьяджи, – заговорил Луи смущённо, – у нас не было случая познакомиться, но я много слышал о вас от моей матери, Сары де Рише.
Эмили оживилась, и в этом оживлении прозвучала та кокетливая нота, которую знали, пожалуй, только люди, привыкшие к салонной жизни.
– Ах, вы, – воскликнула она, – вы, должно быть, Луи де Рише. Неужели вы забыли нашу встречу в Париже, на приёме у короля?
Луи посмотрел на неё с искренним, почти детским недоумением. Взгляд его был честен, и в нём, может быть, проглядывала некоторая смущённость: как же – забыть лицо, которое, по словам матери, оставило след в памяти столь многих?
– Вряд ли бы я забыл столь экстравагантную особу, – сказал он, стараясь улыбнуться так, чтобы это не звучало оскорблением, – но признаюсь: не помню лично.
– Очень жаль, – ответила Эмили с лёгкой досадой и уже почти с дружелюбной лаской, – в тот вечер мы действительно имели честь обменяться парой слов.
Луи смутился ещё более и, краснея, стал извиняться; его слова шли неловко, звучали как оправдание перед самим собой: – прошу понять, отец мой – мир дел, и мир его часто крадёт мне память о мелочах.
Кардинал наблюдал за ним тихо; так наблюдают люди, у которых память длиннее речей и которые умеют ставить личность в круг семейных связей.
– Луи де Рише? Сын Сары де Рише? – произнёс он, будто повторяя имя как ключ к чему-то более глубокому.
– Да, – ответил Луи. Он оторвал взгляд от одной точки и на мгновение задержал его на кардинале; взгляды эти, иногда, говорят больше слов.
– Я давно знаком с Сарой, – продекламировал кардинал, и в словах его слышалась та торжественная интонация, которой пользуются люди, выдающие свои связи как заслугу. – Ещё тридцать четыре года назад она возглавила один из самых влиятельных тайных обществ – Золотой орден. У нас много общих дел и знакомых. Но скажите, зачем вы прибыли, юноша? Кто вас пригласил?
Луи ответил коротко:
– Мёртимер. Лорд Мортимер выписал мне приглашение.
На эти слова кардинал вздрогнул не столько от удивления, сколько от того внутреннего движения, которое случается у человека, привыкшего наблюдать за нитями власти.
– Как?! Сам лорд? – воскликнул он, и в этой простой реплике проявилось и удивление, и недоверие.
– Могу показать приглашение, – предложил Луи.
– Не нужно, – помахал рукой кардинал, – я вам верю. Привлекает меня и удивляет иное: что заставило самого лорда пригласить вас? Обычно этим занимается сэр Грегори.
Луи ещё раз посмотрел по сторонам, будто проверяя, не подслушивают ли их тени.
– Мне сказали, – произнёс он наконец, – что моя мать провела на этом острове несколько недель. А затем… пропала на несколько дней.
Эти слова повисли в воздухе, и от них стало темно на причале, как будто ночь вдруг сжалась, стала ближе и гуще. Эмили глубоко вздохнула; ей было дано говорить о Саре иначе, не просто как о матери молодого человека, а как о фигуре, чей шаг отзывается эхом в политике и в тайнах.
– Ох, – произнесла она, – я надеюсь, что с ней всё в порядке. Я знакома с мисс де Рише – как и многие здесь. Её деятельность, её положение, её знания охватывают всякую сторону общественной жизни. Она – человек с железной волей; её влияние простирается на Америку, Европу и Центральную Африку; она основала в ордене оккультный кружок. Без неё не принимается почти ни одно решение; короли и президенты советуются с ней. Её исчезновение может потрясти многих.
Эти слова, произнесённые спокойно, имели в себе оттенок ужаса – неотреагированного, скрытого ужаса от мысли о нарушенном порядке. Луи поблагодарил. Ему было приятно и тяжело слышать похвалу матери, и сердце его сжималось от неожиданной гордости и тревоги.
Кардинал положил руку юноше на плечо – жест короткий, но полный человеческого участия.
В тот момент к группе приблизился слуга: молодой человек модно одетый по французской манере, в лице его – металлическая маска, через прорези которой виднелись только глаза; глаза эти были усталые и пустые, как глаза тех, кому приходилось слишком рано смириться со своей ролью. Он произнёс сухо:
– Господа, прошу пройти в дом. Ваши вещи доставят позже в комнаты.
Кто-то кивнул; и толпа, ведомая невидимой, почти религиозной послушностью, двинулась за слугой. Луи сделал несколько шагов, и вдруг – будто кто-то резко повернул вентиль его сознания – он ощутил тяжесть в голове, не как боль, а как давление, исходящее изнутри; затем, как будто в его череп вскинула стая голосов: сотни, тысячи голосов, не разобранных, рвущихся и кричащих какой-то бред. Эти голоса неслися, как шквал, и от них Луи рухнул на колени, закрыв глаза.
Перед его внутренним взором возникла картина: незнакомая раньше комната, суровая лампа и мать – Сара де Рише, с пистолетом в руке; напротив неё – Эмили; она что-то доказывает, молчит и суетно жестами пытается убедить. Сара, очерченная железом своей воли, кажется, не слышит, или слышит только то, что решено. Рука её дрогнула – и в тот миг, в дверной проём вбежал сэр Грегори с несколькими слугами. В комнате воцарился крик – и сразу после грома выстрела голоса утихли, как будто кто-то выключил громкоговоритель.
Луи открыл глаза. Его память была пустая, как стул, с которого вдруг сорвали чехол; он не мог связать последнюю минуту с предшествующей. На верхней губе горчил стальной привкус – кровь из носа; рядом стояли встревоженные фигуры: кардинал, герцогиня, слуга. Они смотрели на него с тревогой и сочувствием.
– Мсье де Рише, что с вами? – спросила Эмили, и в голосе её звучала искренняя забота, которая смягчала всё – и положение, и тайну.
– Не знаю, мисс Хиллсборроу, – сказал Луи, и, в его словах прозвучало ложное успокоение: – наверное, устал.
Он не стал рассказывать о видении. Было в нём нечто, что не подлежало немедленному изъяснению; надо было прежде унять самую себя, рассудить, отмерить: это сон ли, предупреждение ли, игра предчувствия или призрак вины. Эмили, не настаивая, протянула ему носовой платок; он принял его, вытер губы, в которых ещё оставался привкус металла. И четверо вошли в дом – вошли так, будто каждый таил в себе, помимо наружного движения, ещё и некоторую внутреннюю сцену: страх, надежду, любопытство – всё это теснилось у них в груди, и нечего было делать, как притвориться, что ночь – всего лишь ночь, дом – всего лишь дом, а приглашение – всего лишь приглашение.
Холл дома лорда Мортимера был вовсе не тем простым, гостеприимным приёмным, какие бывают у людей средних и скромных; это было нечто иное – вместилище, хранилище, судилище даже, где каждый шаг отдавался тяжёлым приговором, а каждый взгляд нёс на себе метку давно свершившегося и неотвратимого. Ворота входа распахивались в просторную, чуть низкую комнату, вымощенную чёрным камнем, по которому плясали огненные блики – и первым, что настойчиво, нестерпимо входящему бросалось в глаза, был громадный камин. Нельзя было назвать его простым; это была какая-то чревовещательная пасть дома, огромная, чёрная лаща, из которой, как из живого органа, выходил жар и голос – треск поленьев, шёпот пламени, и всё это вместе создавало особый, почти религиозный звук, заставлявший сердечную мышцу биться иначе, глубже и тревожнее.
Над камином, в том месте, где у простых людей висел бы семейный портрет или часы, возвышалась бронзовая статуя Зевса – не спокойно застывшая фигура, а словно вырванная из самой стены, как будто камень раскололся, и бог устремил руку наружу, рвался, пробивался, освобождался. Бронза была тёмная, в зелёных отблесках старости, но в ней горел и блеск – блеск воли, силы, влекущей за собой страх. Лицо Зевса было сурово и неулыбчиво; глаза его, вылепленные в металле, смотрели не на людей, а через людей, как будто упрекая их в слабости, в мелочности их дел, – и этот взгляд был хуже всякой реальной тирании, ибо он не просил и не приказывал: он обвинял. Казалось, что бог этот не нов для дома; он жил здесь, как память о давних победах, как отпечаток гордыни, и в то же время был неким напоминанием о несчастье – потому что, где устраивают себе идолов силы, там часто таится страх перед её утратой.
Огонь в камине отбрасывал на статую тёмные, длинные тени; стены, облицованные коврами и старинными гобеленами, казались движущимися, и в узорах их иногда мелькали лица, не лица, а намёки на лица – старые хозяева дома, предки, чьи образы теперь сплетались с бронзой и пламенем в одну странную, живую ткань. Воздух был тяжёл от запаха смолы, старой пыли и неизъяснимой горчинки, которая всегда бывает у домов, хранящих более тайн, чем имели бы право хранить люди. В этом запахе было что-то от свечей и от книг, от табака и от тех ночных разговоров, которые лучше не повторять при свете дня.
А ещё в холле звучали шаги – редко, но ясно; шаги слуги, отечного, крепко стоящего на ногах, – и эти шаги отбрасывали от себя длинные эхо, как бы повторяя вопрос: кто ты, пришедший, и в чём твоё право ступать по этом пороге? Люди, когда входили, чувствовали себя услышанными не просто как присутствующие, но как подсудимые; и при свете пламени им казалось, что вся эта тяжёлая архитектура – камни, ткань, бронза – готова вот-вот промолвить приговор, вынести вердикт, определить дальнейшую участь. И была в этом что-то не столько сверхъестественное, сколько нравственное: подобные дома – зеркала человеческой души; чем больше в них золота и бронзы, тем отчётливее в них отражается тяжесть вины.
У камина на тот момент ютилось двое. Ранее упомянутый Сэр Грегори и седовласый, слегка полненький мужчина, лица которого не было видно. Слуга указала рукой направление господ к камину, а сам удалился для них в неизвестном направлении.
Опять же, говоря о Сэре Грегори – бароне Ноттингем – он присутствовал здесь, в этом доме, не как простой посетитель, не как случайный прохожий, а как некое необъяснимое явление, в котором смешалось и торжество власти, и почти дитящее сострадание; и в этом смешении – та самая внутренняя вражда, которую можно было бы боготворить или бояться. Рост его отмерялся не по сантиметрам, а по притяжению взгляда: высокий, но не громоздкий, скорее вытянутый, словно человек, которому пришлось сдерживать и направлять воли множество – воли чужих судеб и собственной строгой воли. Его лицо – странное, мягко-суровое, срезано было временем и привычкой к долгому напряжению: лоб широкий, немного нависший, в складках которого виднелась усталость не столько физическая, сколько нравственная; нос прямой, сужающийся к кончику – нос, которым, казалось, он делал пометки не на бумаге, а на людях; губы узкие, умело складывающиеся в улыбку, редкую и потому более опасную.
Глаза Грегори – вот что особенно тревожило: они были темно-серыми, не совсем холодными, но и не тёплыми – два наблюдательных суда, которые всегда выносили приговор раньше, чем человек успевал произнести слово в свою защиту. В них мелькало и деловое блескливое любопытство, и (неожиданно) детское, почти болезненное участие к судьбе бедняка; эти две вещи – рядом – делали взгляд одновременно ясным и виноватым. Волосы, тонкие, уже с проседью у висков, были расчёсаны назад с тотальной аккуратностью, что придавало лицу некоторую театральность, но и сдержанность; на щеках – бледность, как у человека, привыкшего к лампе и к бумагам, а не к открытым ветрам.
Он всегда одевался так, будто его одежда была продолжением служебной обязанности: тёмный сюртук без лишних украшений, жилет с приглаженным узором, густой платок у шеи – не для показной роскоши, а для обозначения порядка; перчатки – тонкие, кожа слабо блестящая, пальцы в них казались длинными и ловкими – такими, что могли и подписать указ, и пожалеть руку бедняку. Когда он снимал перчатку – делал это едва заметным, почти робким движением, как будто открывая внутренний шов своей души; но стоило руке коснуться чашки чая или школьной тетради, и в движении возникал весь его расчёт, вся его воля, вся та точность, с которой он умел строить империи и распределять благодеяния.
Есть в нём что-то священное и тираническое одновременно; он похож на проповедника, ставшего финансистом, и на финансиста, подвергшегося искушению идеалом. На лице его иногда, в минуты молчаливого раздумья, появлялась тень мучения – не от физических страданий, а от того знания, что каждая добрая акция питается не только сердцем, но и сметой, и что каждая жестокость оправдывается пользой. И это знание делало его внешность притягательной и отталкивающей: благородная осанка, голос низкий и точный, с тем особенным английским тоном, который одновременно указывает на воспитание и скрывает недоверие. Вся его внешность – как знак, предупреждающий, что перед тобой не просто человек, а властитель, который умеет любить и уметь распоряжаться любовью так, чтобы она стоила дешевле доллара и дороже судьбы.
Трое подошли к тем, кто сидел у камина, и подошли не так, как подошли бы к простому светскому общению, а с той неловкой, почти священной робостью, с которой люди входят в чужую беду и ищут слова, способные её унять или, по крайней мере, не разжечь ещё больше. В комнате повисла та едва ощутимая тишина, которую, как известно, несут с собой не только мысли, но и обязанности.
