Грязный свет
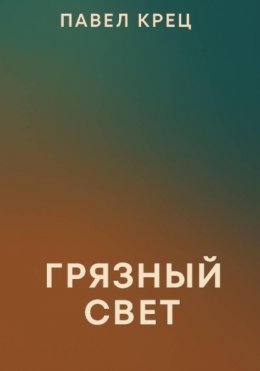
Кадры из золотой клетки
Белый шум чужих голосов бился о стены, отражался от глянцевых поверхностей фотографий и оседал на дне бокала с шампанским тонкой пленкой усталости. Влад Чернов стоял в центре этого управляемого хаоса, исполняя роль, которую сам для себя написал: гений, пророк грязных подворотен, человек, научивший богему видеть поэзию в ржавчине и плесени. Он ловил на себе взгляды – восхищенные, завистливые, оценивающие – и отвечал на них легкой, едва заметной полуулыбкой, отточенной до совершенства. Его тело было здесь, в стерильном пространстве галереи «Геометрия», но сознание работало в привычном режиме: кадрировало.
Вот седовласый критик, похожий на облезлого филина, – крупный план, резкий боковой свет от софита выхватывает сетку морщин у глаз, фактуру дорогого твида. А вот стайка девушек с одинаково надутыми губами и хищным блеском в глазах – групповой портрет, длинная выдержка, чтобы смазать их движение в единый голодный порыв. Они все были объектами. Экспонатами его личной, негласной выставки. Он видел их насквозь, до самой диафрагмы души, и от этого знания становилось невыносимо скучно.
«Грязный свет». Название, брошенное им почти случайно, прижилось, стало брендом. Теперь его тиражировали, разбирали на цитаты, вписывали в искусствоведческие статьи. Они говорили о диалектике света и тени, о поиске гуманизма в дегуманизированном пространстве, о новой искренности. Влад слушал все это и думал, что на самом деле все проще. Он просто любил смотреть, как умирающий луч фонаря цепляется за мокрый асфальт, как неоновая вывеска борделя окрашивает в розовый лица спящих на остановке бездомных. В этом не было философии. Была только физика света и химия распада. Идеальное сочетание.
– Влад, дорогой, это абсолютный триумф! – Голос Анны, теплый и обволакивающий, как кашемир, выдернул его из внутреннего монолога.
Она подошла сзади, обвила его талию тонкими руками. От нее пахло шампанским и каким-то сложным, цветочным парфюмом, который стоил дороже его первой камеры. Анна Загорская. Его девушка. Его арт-менеджер. Его безупречно выстроенный фасад. Она была так же совершенна, как и эта галерея: идеальная линия скул, продуманная небрежность укладки, платье, сидящее так, словно его создали прямо на ней. Она была произведением искусства из мира, который он презирал, но услугами которого так умело пользовался.
– Ты так считаешь? – Он повернулся, заглянул в ее сияющие глаза. Фокусное расстояние – пятьдесят миллиметров. Идеальный портрет. Никаких искажений.
– Все так считают. Ты слышал, что сказал Левитан? Он назвал тебя «Рембрандтом городских окраин».
Влад усмехнулся. Левитан был тем самым седым филином. Ему платили за громкие сравнения.
– Рембрандт писал светом божественным. А мой свет – грязный. От уличных фонарей, от фар, от зажигалки в руках наркомана. В нем нет святости, Аня. Только правда.
– В этом и есть твоя гениальность, – прошептала она, касаясь губами его щеки. – Ты заставляешь нас видеть то, от чего мы привыкли отворачиваться. Ты делаешь это… безопасным.
Вот оно. Ключевое слово. Безопасным. Он брал грязь, страх, безнадегу, кадрировал их, печатал на дорогой бумаге, вставлял в раму и продавал тем, кто больше всего на свете боялся этой грязи коснуться. Он был проводником в ад для туристов с платиновыми картами. Осознание этого уже давно не вызывало отвращения, только глухую, привычную тоску.
К ним подошел невысокий, суетливый человек в очках – владелец галереи. Он излучал нервное счастье, как перегретый процессор.
– Влад Игоревич! Половина работ уже продана! Американцы интересуются всей серией «Бетонные вены». Хотят вывезти в Нью-Йорк! Вы представляете?
Влад кивнул, изображая заинтересованность. Он представлял. Представлял, как его снимок с облупившейся стеной хрущевки, похожей на больную кожу, будет висеть в пентхаусе на Манхэттене. Ирония была настолько густой, что ее можно было резать ножом.
– Это прекрасно, Семен Маркович. Спасибо вам.
– Это вам спасибо! Вы наш главный актив! – Галерист пожал ему руку влажной, мягкой ладонью. – Пойдемте, вас хочет видеть пресса. Буквально пару слов.
Анна ободряюще сжала его локоть. Он пошел, чувствуя себя марионеткой. Вспышки фотокамер слепили, били по глазам. Он инстинктивно прищурился, оценивая мощность и угол света. Дешевые накамерные вспышки. Убивают объем, делают лица плоскими, как блины. Дилетанты.
Молодая журналистка с микрофоном, на котором красовался логотип модного интернет-издания, прорвалась к нему.
– Владислав, ваши работы пронизаны меланхолией. Скажите, вы находите красоту в уродстве или уродство в красоте?
Заученный вопрос. Он слышал его в десятках вариаций.
– Я не делю мир на уродство и красоту, – ответил он ровным, хорошо поставленным голосом. – Я делю его на свет и тень. Все остальное – лишь их производные. Грязь, ржавчина, трещины на асфальте – это просто фактура. Она честнее, чем отполированный мрамор. На ней видна история, видно время. А свет… свет одинаково ложится и на лицо святого, и на лезвие ножа. Моя работа – просто нажать на кнопку в нужный момент.
Журналистка восторженно закивала, записывая его слова так, будто это было откровение свыше. Он отвернулся, и его взгляд зацепился за одну из центральных работ выставки.
«Колодец». Снимок, сделанный с крыши старого доходного дома. Десятки темных окон, сложенных в уродливую геометрию. И в одном из них, на пятом этаже, горит одинокая желтая лампочка. А на подоконнике виден силуэт кошки. Крошечная точка тепла и жизни в огромном каменном мешке. Он помнил тот вечер. Пронизывающий ветер, запах сырости и угля. Он просидел на крыше три часа, пока не зажглось именно это окно. Он ждал не свет, он ждал историю. И дождался. Здесь, в стерильном зале, под светом софитов, эта история выглядела выхолощенной, превращенной в стильный элемент декора.
– Потрясающе, правда? – раздался рядом знакомый голос.
Дмитрий Крюков. Журналист-расследователь, старый приятель еще с тех времен, когда они оба были нищими и полными надежд. Теперь Влад был на вершине, а Дима все так же копался в чужом грязном белье для сомнительных изданий, маскируя зависть под дружескую иронию.
– Ты так думаешь? – Влад не обернулся, продолжая смотреть на фотографию.
– Конечно. Это же твой magnum opus. Квинтэссенция всего твоего творчества. Одиночество, безысходность, но с проблеском надежды. Продается за бешеные деньги, я слышал?
В голосе Дмитрия сквозила нотка, которую Влад научился распознавать безошибочно – кисловатый привкус чужого успеха.
– Деньги – побочный эффект, Дима. Ты же знаешь.
– О, конечно, – Крюков подошел и встал рядом. Он был одет в потертые джинсы и мятый пиджак, словно подчеркивая свою непричастность к этому гламурному сборищу. – Мы, творцы, выше этого. Но все же приятно, когда твой «проблеск надежды» оценивается в сумму с пятью нулями. Помогает творить дальше, не отвлекаясь на быт.
Влад наконец посмотрел на него. Узкое, нервное лицо, бегающие глаза за стеклами очков. Он всегда выглядел так, будто куда-то опаздывает или что-то ищет. Сейчас он искал уязвимость во взгляде Влада, но не находил.
– Рад тебя видеть, – солгал Влад.
– И я тебя. Пришел поздравить. И выпить твоего бесплатного шампанского. – Дмитрий улыбнулся, но улыбка не затронула глаз. – Ты, конечно, молодец. Нашел золотую жилу. Эстетизация упадка. Очень в духе времени. Пока я пишу про то, как чиновники воруют на ремонте этих самых домов, ты делаешь из их гнилых фасадов искусство и продаешь этим же чиновникам. Гениальная бизнес-модель.
Это был удар. Точный и выверенный. Прямо в то место, где у Влада еще осталась совесть.
– Это не бизнес-модель, а точка зрения, – холодно ответил Влад. – Ты показываешь грязь. А я – свет в этой грязи. Это разные вещи.
– Правда? – Дмитрий поднял бровь. – А по-моему, мы оба просто паразитируем на ней. Просто у тебя получается красивее. Ладно, не буду портить тебе праздник. Наслаждайся славой. Заслужил.
Он хлопнул Влада по плечу и растворился в толпе, оставив после себя неприятный осадок. Влад провел рукой по волосам. Дмитрий был прав. Отчасти. И это бесило больше всего.
Вечер тянулся, как резиновый. Бесконечные поздравления, рукопожатия, пустые комплименты. Влад чувствовал, как его социальная батарея садится с катастрофической скоростью. Мир вокруг терял резкость, превращался в размытое пятно, боке из огней и силуэтов. Ему хотелось сбежать. Туда, где тихо, где пахнет мазутом и сырой землей, где единственные звуки – это скрип металла на ветру и далекий гул электрички. В его мир.
Наконец, когда последние гости начали расходиться, Анна взяла его под руку.
– Поехали домой. Ты выглядишь измученным.
Дом. Лофт в бывшем здании фабрики, переделанном в элитное жилье. Огромные окна от пола до потолка, минималистичная мебель, идеальный порядок. Еще один стерильный куб. Его золотая клетка.
Они ехали по ночному городу в ее бесшумном электрокаре. За окном проносились огни: яркие, кричащие витрины центра сменялись тусклыми, редкими фонарями спальных районов, а затем и вовсе исчезали, уступая место непроглядной тьме промзон на горизонте. Влад смотрел туда, в эту темноту. Она манила его, обещала тишину и подлинность. Там не нужно было улыбаться и соответствовать. Там можно было просто быть.
В лофте царила гулкая тишина. Анна включила тихую музыку, налила им по бокалу вина. Она села рядом с ним на огромный белый диван, положила голову ему на плечо.
– Я так тобой горжусь, Влад.
– Я знаю.
– Что-то не так? Ты весь вечер сам не свой. Это из-за Крюкова? Я видела, как вы разговаривали. Он всегда был таким… желчным.
– Дело не в нем. Просто устал.
Он смотрел через панорамное окно на город, раскинувшийся внизу. С их высоты он казался идеальной фотографией. Россыпь огней, четкие линии проспектов, темные массивы парков. Красиво. И абсолютно безжизненно. Как карта. Он не чувствовал его пульса, его дыхания. Отсюда не было видно ни трещин на асфальте, ни окурков в лужах, ни усталых лиц в окнах напротив. Только чистая, холодная эстетика.
– Может, съездим куда-нибудь на пару недель? – предложила Анна. – На Бали. Или в Тоскану. Снимем виллу, будем пить вино, отдыхать. Тебе нужно перезагрузиться.
Он представил себе это. Белый песок, лазурная вода, залитые солнцем виноградники. Идеальные, открыточные виды. Пересвеченные, лишенные всякой драмы. Его тошнило от одной этой мысли. Ему нужна была не перезагрузка. Ему нужна была подзарядка. А энергию он брал не от солнца и моря. Он брал ее от распада.
– Я подумаю, – сказал он, чтобы не обидеть ее.
Она подняла голову, заглянула ему в глаза. В ее взгляде была тревога.
– Ты снова хочешь туда, да? По своим заводам и трущобам. Зачем, Влад? Ты уже все всем доказал. Ты на вершине. Зачем тебе снова лезть в эту грязь?
Он не мог ей объяснить. Не мог объяснить, что эта «вершина» для него – безвоздушное пространство. Что он задыхается в этом мире идеальных интерьеров и выверенных улыбок. Что только там, в грязи, среди сломанных судеб и забытых богом мест, он чувствовал себя живым. Потому что там был настоящий свет. Не тот, что выставляют в галереях, а тот, что борется за жизнь, пробиваясь сквозь копоть и мрак.
– Это моя работа, Аня. Это то, кто я есть.
– Ты – художник, а не сталкер, – она встала, в ее голосе появились жесткие нотки. – Твои работы стоят сотни тысяч. Ты не можешь больше рисковать, лазая по заброшкам, где тебя могут прирезать за камеру. Это безрассудно.
– Искусство всегда безрассудно.
Она покачала головой, понимая, что спор бесполезен. Она подошла к окну, обняла себя за плечи. Ее идеальный силуэт на фоне идеального ночного города. Еще один готовый кадр. Дорогой. Глянцевый. Мертвый.
– Я просто боюсь за тебя, – сказала она тихо, не оборачиваясь.
Влад молчал. Он знал, что она боится не только за него. Она боится, что он разрушит этот хрупкий, идеальный мир, который они построили. Что однажды он уйдет в свою тьму и не вернется. И в глубине души он понимал, что ее страхи не беспочвенны. Он сам чувствовал, как эта тьма тянет его, обещая что-то настоящее, чего не найти ни в овациях критиков, ни в объятиях любящей женщины.
Позже, когда Анна уже спала, он долго стоял у окна. Город внизу жил своей жизнью. Где-то там, в лабиринте улиц, разворачивались тысячи драм, больших и маленьких. Кто-то рождался, кто-то умирал, кто-то любил, кто-то предавал. И все это тонуло в огромном, равнодушном шуме мегаполиса. Он чувствовал себя оторванным от этого потока, наблюдателем за стеклом. Его объектив был его пропуском в реальность, но одновременно и стеной, отделяющей от нее. Он фиксировал жизнь, но не участвовал в ней.
Он подошел к столу, где лежал его рюкзак. Старая, потертая «Лейка», пара объективов. Его настоящие друзья. Он взял в руки камеру. Холодный, тяжелый металл привычно лег в ладонь. Он поднял ее, посмотрел через видоискатель на спящий город. Мир в маленьком прямоугольном окошке становился упорядоченным, понятным, подчинялся его воле. Он мог приблизить, отдалить, сменить угол, поймать нужный свет. Это была его власть. Его единственная настоящая власть.
И он почувствовал зуд. Нестерпимое, почти физическое желание. Сорваться с места, сесть в машину, уехать из этого стерильного аквариума на окраину, где бетонные ребра заброшенных заводов впиваются в низкое, пересвеченное небо. Туда, где тишина звенит в ушах, а воздух пахнет тревогой. Туда, где еще можно было найти кадр, не испорченный деньгами и славой. Кадр, который мог бы стать для него оправданием. Или приговором. Ему было все равно. Главное – снова почувствовать холодный щелчок затвора, отсекающий мгновение от вечности. И он знал, что скоро не выдержит. Очень скоро.
Холодный щелчок затвора
Ночной воздух, влившийся в приоткрытое окно машины, был чистым и холодным, как дистиллированная вода. Он смывал с легких остатки парфюма, шампанского и чужого самодовольства. Влад вел машину, не глядя на навигатор, его руки сами находили дорогу в темноте, как будто в них была вшита карта этого города, но не парадная, туристическая, а изнаночная, состоящая из промышленных артерий и капилляров заброшенных переулков. Центр остался позади, ярким, размытым пятном в зеркале заднего вида – боке чужой, красивой жизни. Здесь, на окраине, начиналась его территория.
Свет становился другим. Редкие натриевые фонари лили на дорогу больной, оранжевый свет, в котором асфальт казался кожей прокаженного. Они создавали длинные, рваные тени, искажали перспективу, превращали привычный мир в декорацию к тревожному сну. Влад убавил скорость. Он чувствовал, как спадает напряжение последних часов, как уходит из мышц фальшивая бодрость, уступая место сосредоточенному, хищному покою. Зуд в кончиках пальцев, который он ощущал в лофте, превратился в ровный, низкий гул предвкушения. Он ехал на охоту.
Старый седан, купленный специально для таких вылазок, – неприметный, грязный, с царапиной на боку – свернул с шоссе на разбитую бетонку. Машину затрясло. Фары выхватывали из темноты фрагменты индустриального пейзажа: ржавую сетку забора, увенчанную колючей проволокой, как терновым венцом; остовы каких-то механизмов, похожих на скелеты доисторических животных; стены цехов со слепыми глазницами выбитых окон. Здесь заканчивался город людей и начиналось царство бетона и железа.
Он припарковался в тени гигантского элеватора, заглушил мотор. И тишина обрушилась на него. Не та тишина, что бывает в дорогих квартирах, звукоизолированная и мертвая. Тишина здесь была другой плотности. Не отсутствие звука, а его активное поглощение. Ржавчина, бетон и мерзлая земля впитывали любое эхо, оставляя лишь едва уловимые шорохи: скрип арматуры на ветру, шелест полиэтиленового пакета, запутавшегося в кустах, далекий, почти инфразвуковой гул сортировочной станции. Влад вышел из машины, вдохнул этот воздух – смесь озона, металлической пыли и гниющей листвы. Запах подлинности.
Он достал из рюкзака камеру. Старая «Лейка М6», верная, как собака. Механическая, без единого лишнего элемента. Никаких экранов, никаких меню. Только он, объектив и мир. Он прикрутил свой любимый светосильный «полтинник», проверил пленку. ISO 400. Хватит для этого слабого света. Он не любил цифровую стерильность, ему нужна была честность зерна, его случайная, живая текстура.
Двигался он бесшумно, привычно. Годы таких вылазок научили его ступать мягко, сливаться с тенями, быть частью этого ландшафта, а не чужеродным элементом. Он был здесь не гостем. Он был здесь дома.
Его вел свет. Небольшой прожектор на столбе у дальнего склада, единственный работающий на сотни метров вокруг. Он давал резкий, контрастный рисунок, вычерчивая геометрию пространства. Влад поднял камеру, прильнул к видоискателю. Мир сузился до прямоугольной рамки. Хаос упорядочился. Он сделал несколько кадров: ржавая лестница, уходящая в черноту; фактура облупившейся стены, похожая на карту неизвестного континента; лужа с радужной пленкой мазута, в которой отражался одинокий прожектор. Хорошо. Но этого было мало. Это была лишь прелюдия, настройка оптики. Он искал не просто красивую композицию. Он искал нерв. Историю.
Он обошел склад и увидел то, что искал. Гигантский заброшенный цех, крыша которого частично обрушилась, открыв взгляду прямоугольник ночного неба. Внутрь через проломы падал тот самый жесткий свет от прожектора, смешиваясь с мягким, рассеянным светом звезд. Он создал внутри пространства причудливую игру света и тени. Влад замер, чувствуя, как учащается пульс. Это было оно. Собор из бетона и стали.
Он нашел пролом в стене и проскользнул внутрь. Внутри пахло могильным холодом и сыростью. Под ногами хрустело битое стекло. Свет от прожектора рисовал на полу длинные полосы, между которыми лежала абсолютная, бархатная тьма. Влад двигался вдоль стены, давая глазам привыкнуть. Он видел силуэты огромных, застывших станков, похожих на оцепеневших чудовищ. Это было место силы. Место, где умерло что-то большое, и его дух все еще витал здесь.
Он уже прикидывал точки съемки, выстраивал в голове кадры, когда услышал голоса.
Они донеслись с противоположного конца цеха, приглушенные, неразборчивые. Влад замер, сливаясь с тенью огромного пресса. Его первой реакцией была досада. Кто-то нарушил его одиночество, вторгся в его храм. Охрана? Мародеры? Влюбленная парочка в поисках острых ощущений? Он прислушался. Голоса были мужскими, низкими, лишенными всякой романтики. И они приближались.
Инстинкт самосохранения велел убираться. Найти другой выход, тихо исчезнуть. Но инстинкт фотографа, более древний и сильный, приковал его к месту. Он присел на корточки за станком, превратился в слух и зрение.
Из темноты появились три фигуры. Они двигались в одну из световых полос. Двое были в строгих темных пальто, безликие, как тени. Третий, шедший между ними, был одет в тонкую кожаную куртку, явно не по погоде. Он нервно озирался, ежился. Влад навел на них объектив, но не стал снимать. Слишком далеко, слишком темно. Он просто наблюдал, как фотограф изучает натуру перед съемкой.
Они остановились прямо под световым пятном. Идеальная сценическая площадка. Влад почувствовал укол профессионального цинизма. Кто-то наверху обладал хорошим вкусом.
Через минуту с другой стороны цеха появилась еще одна группа. Их было четверо. Впереди шел крупный, грузный мужчина. Он двигался медленно, с достоинством хозяина этого места, этого города, этой ночи. Даже на расстоянии в его фигуре чувствовалась тяжелая, свинцовая уверенность. За ним следовали двое молчаливых спутников, а чуть поодаль – еще один, который остался на границе света и тени, наблюдая.
Крупный мужчина подошел к первой троице. Свет выхватил его лицо: бритая голова, тяжелые надбровные дуги, светлые, почти бесцветные глаза, которые, казалось, ничего не отражали, а только поглощали свет. На его лице не было никаких эмоций. Пустота. Но эта пустота была страшнее любой ярости.
– Принес? – Голос у него был тихий, немного хриплый, совершенно не вязавшийся с его габаритами. Голос, которым можно было зачитывать приговор.
Человек в кожаной куртке вздрогнул. Один из его спутников шагнул вперед, протягивая небольшой металлический кейс.
– Все на месте, Сергей Викторович. Как договаривались.
Сергей Викторович. Влад мысленно зафиксировал имя. Он выставил диафрагму на максимум, поднял ISO до 1600. Зерно будет крупным, как песок, но другого выхода нет. Он сделал первый, пробный щелчок. Затвор его «Лейки» сработал почти беззвучно, как кошачий кашель.
Крупный мужчина не взял кейс. Он просто кивнул одному из своих людей. Тот подошел, открыл кейс, посветил внутрь маленьким фонариком. Кивнул в ответ.
– Хорошо, – сказал крупный. – Можешь идти.
Человек в куртке облегченно выдохнул. Казалось, все прошло гладко. Но что-то в неподвижности крупного мужчины, в том, как он смотрел на своего собеседника, заставило Влада напрячься. Видоискатель камеры стал его единственным окном в эту реальность, спасительной рамкой, отделяющей его от происходящего.
– А деньги? – нервно спросил человек в куртке.
Крупный медленно повернул голову, словно удивляясь самому факту этого вопроса.
– Какие деньги, Костя? Ты меня подставил. Ты думал, я не узнаю?
В голосе не прибавилось громкости, но он стал плотнее, тяжелее. Воздух вокруг них, казалось, загустел. Костя побледнел. Свет прожектора делал его лицо мертвенно-белым, пергаментным.
– Сергей Викторович, я… Я не понимаю…
– Ты все понимаешь, – прервал его крупный. Он сделал едва заметный жест рукой.
И все произошло молниеносно.
Двое в пальто, что пришли с Костей, резко отскочили в стороны, поднимая руки. Они предали его в ту же секунду. Один из людей крупного шагнул вперед и ударил Костю. Не кулаком. Чем-то тяжелым, завернутым в ткань. Удар пришелся в живот. Глухой, мокрый звук. Костя согнулся пополам, хватая ртом воздух. Второй удар обрушился на его затылок. Хруст, от которого у Влада свело зубы.
Костя рухнул на бетонный пол, как мешок с тряпками.
Влад не дышал. Он забыл, как это делается. Его палец сам лег на кнопку спуска. Мир за пределами видоискателя перестал существовать. Был только этот прямоугольник, в котором разворачивалась немая, страшная пьеса. Его мозг работал с холодной точностью механизма. Композиция. Свет. Момент.
Крупный мужчина подошел к лежащему телу. Он смотрел на него сверху вниз, без ненависти, без злобы. С брезгливым любопытством энтомолога, разглядывающего раздавленное насекомое.
– Грязь, – произнес он так тихо, что Влад едва расслышал.
Затем он поднял голову и посмотрел прямо в сторону темноты, где прятался Влад.
Сердце Влада пропустило удар. Ему показалось, что эти светлые, пустые глаза видят его сквозь станки, сквозь мрак, прямо в душу. Но взгляд мужчины скользнул дальше. Он просто осматривал свою территорию.
Один из его помощников достал пистолет с глушителем. Короткий, нелепый хлопок. Тело на полу дернулось и затихло.
В этот самый момент произошло то, чего Влад не мог предвидеть. Какая-то птица, потревоженная звуком, сорвалась с балки под потолком. Пролетая через световую полосу, она на секунду заслонила прожектор. Свет мигнул, изменив рисунок теней на полу. И на одно короткое, бесценное мгновение лицо крупного мужчины оказалось освещено под идеальным углом. Не сверху, а сбоку, отраженным от бетонной стены светом. Рембрандтовский свет. Тот самый, о котором говорил критик на выставке. Свет, который лепил объем, выявлял фактуру, превращал лицо в портрет.
Палец Влада сработал раньше, чем мозг успел отдать приказ.
Холодный щелчок затвора.
Единственный. Самый важный.
Он поймал все: и тяжелый, презрительный взгляд светлых глаз, и капли крови на бетонном полу, и ствол пистолета в руке убийцы на заднем плане, ушедший в расфокус. Идеальная, чудовищная композиция. Шедевр, рожденный из смерти.
Сразу после этого люди крупного начали действовать. Они деловито подняли тело, завернули его в какой-то брезент, потащили в темноту. Крупный бросил последний взгляд на пустое место на полу, повернулся и пошел к выходу, не оглядываясь. Его свита последовала за ним. Человек с кейсом и двое бывших спутников Кости ушли вместе с ними.
Через минуту в цеху снова воцарилась тишина. Но это была уже другая тишина. Пропитанная кровью, оскверненная. В ней висел запах пороха и страха.
Влад сидел за станком, не в силах пошевелиться. Его тело била мелкая дрожь. Камера в руках казалась невыносимо тяжелой, будто была отлита из свинца. Он оторвал взгляд от видоискателя. Реальность, больше не заключенная в спасительную рамку, навалилась на него всей своей уродливой массой. Темное мокрое пятно на бетоне. Несколько стреляных гильз, тускло поблескивающих в свете прожектора. Он только что снял убийство. Не просто снял. Он превратил его в искусство.
Его затошнило. Отвращение к себе было таким сильным, что перехватило дыхание. Он – стервятник. Падальщик, питающийся чужой болью. Он искал «честный кадр» и нашел его. И эта честность оказалась смрадной, липкой, невыносимой. Все его работы, вся его философия «грязного света» показались ему сейчас пошлой, инфантильной игрой. Он играл с фактурой ржавчины, не зная, как выглядит настоящая фактура насилия.
Он медленно поднялся. Ноги были ватными. Нужно было уходить. Немедленно. Он сделал шаг и замер. В пятне света что-то блеснуло. Не гильза. Что-то другое. Он, сам не зная зачем, подошел ближе. На полу, рядом с кровавым пятном, лежал маленький золотой крестик на оборванной цепочке. Видимо, сорвался с шеи Кости, когда его убивали.
Влад посмотрел на крестик, потом на свою камеру. Два полюса мира. Символ веры и орудие холодного наблюдения. Он поднял объектив и сделал последний снимок этой ночи. Крупный план. Крестик на фоне запекшейся крови. Максимально открытая диафрагма, чтобы фон растворился в размытом пятне. Кадр получился бы сильным. Журнальным. Продающимся.
Он опустил камеру и его снова затрясло. Он понял, что только что совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Тот щелчок затвора, запечатлевший лицо убийцы, не был щелчком художника. Это был щелчок спускового крючка, направленного в его собственную голову. Он запечатлел то, что не предназначалось для чужих глаз. Из охотника за мгновениями он превратился в дичь. И на этой пленке, в его камере, теперь хранился его смертный приговор.
Он развернулся и почти побежал к выходу, не разбирая дороги, спотыкаясь о куски арматуры, не чувствуя боли от царапин. Прочь из этого бетонного склепа. Прочь от этого грязного света, который только что сжег дотла всю его прошлую жизнь.
Вирусное искусство
Ключ в замке повернулся с сухим, непропорционально громким треском. Дверь в лофт открылась, впустив его в залитый лунным светом прямоугольник стерильного пространства. Белые стены, серый бетонный пол, черная кожа дивана – все было на своих местах, выверенное, геометрически безупречное. И в этом холодном совершенстве он, Влад, был теперь чужеродным элементом. Грязным пятном, нарушающим композицию. Он принес с собой запах сырого подвала, металлической пыли и страха. Этот запах въелся в кожу, в волосы, в подкладку куртки. Он чувствовал его так же отчетливо, как биение собственной крови в висках – рваное, паническое стаккато.
Он не включил свет. Прошел вглубь комнаты, двигаясь на автомате. Его тело помнило маршрут, но сознание отставало, застряв там, в промозглом цеху, в липком пятне чужой крови. В кармане куртки лежал отснятый ролик пленки. Маленькая, плотная катушка, тяжелая, как обломок метеорита. Она жгла бедро холодом. Весь ужас той ночи был спрессован в тридцати шести кадрах эмульсии. Он был его единственным хранителем. И заложником.
Анна спала. Он слышал ее ровное, спокойное дыхание из спальни. Она была в другом мире, в мире, где самой большой трагедией был проданный на аукционе лот или неудачная статья в глянце. Между ними теперь пролегала не просто стена, а тектонический разлом. Он смотрел на закрытую дверь спальни и понимал, что больше никогда не сможет войти туда прежним. Он был носителем заразы, и любой, кто подойдет слишком близко, рискует заболеть.
Он прошел в ванную, но не для того, чтобы умыться. Его ванная была одновременно и фотолабораторией. Аккуратные полки с дизайнерскими флаконами соседствовали с рядами коричневых бутылок с химикатами. Он запер дверь, заложил щель под ней полотенцем. Полная темнота. Он остался один на один с катушкой в кармане.
Руки дрожали, когда он доставал пленку. Он едва справился с защелкой бачка. В полной, бархатной темноте, наощупь, он зарядил пленку на спираль. Пальцы, привыкшие к этой процедуре, как к собственному телу, сегодня предавали его, соскальзывали. Каждый шорох казался оглушительным. Наконец, спираль с пленкой легла в бачок, крышка защелкнулась. Теперь можно было включить красный фонарь.
Комната утонула в вязком, тревожном свете, похожем на свечение крови. Его собственное отражение в зеркале было маской из преисподней. Он отмерил проявитель, фиксаж, воду. Точные, выверенные движения, доведенные до автоматизма, немного успокаили нервную дрожь. Процесс поглотил его. Заливка, агитация, слив. Ритмичное покачивание бачка в руках. Десять минут, которые растянулись в вечность. Он не думал о том, что делает. Он просто делал. Художник в нем, эта упрямая, безжалостная тварь, требовал увидеть результат. Ему нужно было убедиться, что кошмар был реален. Что он его зафиксировал.
Когда он вынул мокрую, пахнущую уксусом спираль и начал разматывать блестящую от влаги ленту, он задержал дыхание. Он просматривал негативы на свет красного фонаря. Вот лестница, уходящая во тьму. Вот фактура стены. Вот лужа с мазутом. А вот… Вот они. Фигуры в световом пятне. Он поднес пленку ближе к глазам. Изображение было крошечным, обращенным, но он видел все. Удар. Падение. Фигура с пистолетом. И последний кадр – лицо. Тяжелый взгляд светлых глаз, пойманный в идеальном ракурсе. Изображение было резким. Безупречно резким. Это был не просто компромат. Это был портрет. Портрет абсолютного, спокойного, почти бытового зла.
Его снова затошнило. Он бросил пленку в раковину, открыл кран. Холодная вода хлынула на негативы, на его руки. Он тер ладони, пальцы, пытаясь смыть невидимую грязь, отпечатавшуюся на них вместе с этим изображением.
Просушив пленку, он вернулся в студию. Ему нужно было увидеть это в полном размере. Сканер гудел ровно, убаюкивающе. Он положил полоску негативов в рамку. Синяя лампа сканера медленно поползла вдоль пленки, считывая информацию, превращая химическую реакцию в цифровой код. На экране монитора начало прорисовываться изображение. Сначала пиксельная каша, потом все более четкие контуры. И вот оно. Во весь двадцатисемидюймовый экран на него смотрело лицо убийцы. Каждый пиксель кричал об опасности. Высокое разрешение безжалостно зафиксировало все: холодную ярость в глазах, жесткую складку у рта, шрам над бровью. Влад смотрел на это лицо и чувствовал, как по спине ползет ледяной холод. Это был не просто снимок. Это был его смертный приговор, вынесенный в разрешении шесть тысяч точек на дюйм.
Что делать? Стереть. Уничтожить негативы, отформатировать жесткий диск. Сделать вид, что этой ночи не было. Это был самый разумный, самый безопасный выход. Он уже поднес курсор к иконке корзины. Но палец замер. Тварь внутри, художник, взбунтовалась. Стереть это? Этот кадр? Самый сильный, самый настоящий кадр в его жизни? Кадр, за который другие фотографы продали бы душу? Это было равносильно тому, чтобы вырвать себе глаза.
Внезапный, резкий звонок в дверь заставил его подпрыгнуть на месте. Сердце рухнуло куда-то в район желудка, забив там частый, панический ритм. Они пришли. Так быстро. Он вскочил, лихорадочно соображая. Куда бежать? Что делать? Он метнулся к монитору, выключил его. Негативы! Он схватил их со стола, запихнул в первый попавшийся ящик.
Звонок повторился. Более настойчивый, требовательный.
– Влад, открой! Это я, Дима! Знаю, что ты дома, машина внизу.
Дима. Крюков. Влад выдохнул. Волна облегчения была такой сильной, что у него подогнулись колени. Он оперся о стол, пытаясь унять дрожь. Всего лишь Дима. Но облегчение тут же сменилось раздражением. Какого черта ему нужно в такую рань?
Он поплелся к двери, посмотрел в глазок. Действительно, Крюков. Он топтался на площадке, ежился от утреннего холода. Влад открыл.
– Ты на часы смотрел? – прохрипел он. Голос был чужим.
– Смотрел. И что? У творцов нет расписания, – Дмитрий бесцеремонно прошел внутрь, оглядываясь. – Я звонил, ты не брал. Решил заехать, поздравить еще раз, по-человечески. А то вчера в этой суматохе… Ого. А ты выглядишь так, будто всю ночь вагоны разгружал. После триумфа положено пить шампанское, а не копать траншеи.
Он прошел вглубь лофта, его бегающие глазки сканировали пространство. Он заметил беспорядок на столе у компьютера, выключенный монитор.
– Новая работа? Не спится гению? Поймал музу за хвост?
– Что-то вроде того, – глухо ответил Влад, закрывая дверь. Он чувствовал себя обнаженным под этим цепким взглядом. – Что тебе нужно, Дима?
– Кофе. Черный, без сахара. И поговорить. – Крюков плюхнулся на диван, закинув ногу на ногу. Он вел себя как хозяин. – Я тут подумал после вчерашнего. Про твой «грязный свет». Знаешь, в чем твоя проблема, Влад? Ты слишком стерилен.
Влад молча пошел к кофемашине. Его руки все еще мелко дрожали.
– Ты снимаешь грязь из-за пуленепробиваемого стекла своего таланта, – продолжал вещать Дмитрий, не обращая внимания на состояние Влада. – Ты эстетизируешь ее, превращаешь в безопасный арт-объект. Это хорошо продается, но в этом нет нерва. Настоящего. Ты как военный фотограф, который снимает войну из штабного блиндажа. А надо лезть в окопы, под пули.
Кофемашина зашумела, наполняя воздух запахом арабики. Влад смотрел на струйку черной жидкости, и ему казалось, что это льется яд. Каждое слово Дмитрия било в цель, в свежую, кровоточащую рану.
– Ты не знаешь, о чем говоришь, – сказал он тихо.
– О, неужели? – Крюков усмехнулся. – А по-моему, очень даже знаю. Я всю жизнь в этой грязи копаюсь. Только мои «работы» не вешают в галереях. Их печатают на последней полосе, мелким шрифтом. А знаешь почему? Потому что они настоящие. Они неудобные. Они воняют. А твои пахнут дорогими духами твоих покупателей.
Влад поставил перед ним чашку с кофе. Слишком резко. Несколько капель пролилось на дизайнерский столик.
– Зачем ты пришел, Дима? Сказать мне, что я продажный мудак? Я это и без тебя знаю.
Дмитрий отхлебнул кофе, поморщился.
– Я пришел помочь. Я вижу, что тебя что-то гложет. Ты вчера был на взводе, и сегодня выглядишь еще хуже. Это творческий кризис, да? Ты достиг потолка и не знаешь, куда дальше? Я могу дать тебе наводку. Настоящую. Не для твоих гламурных выставок. Для истории.
Он наклонился вперед, его голос стал заговорщицким. Влад смотрел на него и видел только зависть. Густую, черную, как этот кофе. Зависть, маскирующуюся под участие.
– Мне не нужна твоя помощь.
– Нужна, Влад, нужна. Тебе нужно вырваться из этой золотой клетки. Сделать что-то по-настоящему рискованное. Что-то, что заставит всех ахнуть. Что-то, что…
Его взгляд снова метнулся к столу с компьютером.
– Что ты снял сегодня? Покажи.
– Ничего. Просто баловался. Техническая съемка.
Ложь прозвучала неубедительно даже для него самого. Дмитрий уловил это мгновенно. Его журналистский нюх учуял запах сенсации.
– Да ладно тебе. Мы же друзья. Я никому не скажу. Просто любопытно, над чем сейчас работает сам Рембрандт городских окраин. Наверняка очередной шедевр.
Он встал и пошел к столу. Влад инстинктивно шагнул, преграждая ему путь.
– Я сказал, там не на что смотреть.
Они стояли друг напротив друга. В глазах Дмитрия мелькнул азартный огонек. Он понял, что нащупал что-то важное.
– Ты чего так напрягся? Снял что-то противозаконное? – Он рассмеялся, но смех прозвучал фальшиво. – Дай угадаю. Новая серия. «Изнанка гламура». Депутат с проститутками? Или олигарх, нюхающий кокс с капота «бентли»? Брось, Влад, мы оба знаем, что это всего лишь картинки. Искусство. Оно вне юрисдикции.
Влад молчал. Он был вымотан. Морально и физически. У него не было сил на эту борьбу, на это словесное фехтование. Он чувствовал себя загнанным в угол.
Дмитрий сменил тактику. Он положил руку ему на плечо, изображая дружеское участие.
– Слушай, я вижу, ты не в себе. Иди-ка ты в душ. Серьезно. Смоешь с себя эту ночь. А я посижу здесь, допью кофе, подумаю о вечном. Мне все равно нужно пару часов убить до встречи. Идет? Ты выглядишь так, будто вот-вот упадешь.
Предложение было до смешного соблазнительным. Душ. Горячая вода. Возможность на десять минут спрятаться от мира, от самого себя, от этого цепкого взгляда. Он был истощен до предела, его воля ослабла.
– Хорошо, – сдался он. – Только ничего не трогай.
– Да боже упаси! – Дмитрий поднял руки в примирительном жесте. – Священное рабочее место художника. Я не прикоснусь.
Влад ушел в ванную, на этот раз – в обычную, человеческую душевую кабину. Пока горячие струи били в лицо, он прислонился лбом к холодному кафелю. Он пытался не думать. Пытался заставить воду смыть не только грязь, но и память. Но изображение, выжженное на сетчатке, не исчезало. Лицо. Светлые, пустые глаза. Он тер кожу докрасна, но запах промзоны, казалось, исходил изнутри.
А в это время в студии Дмитрий Крюков больше не играл в друга. Он сел за компьютер Влада. Пароля не было. Влад был художником, а не параноиком. Дмитрий усмехнулся. Один клик – и рабочий стол перед ним. Он быстро просмотрел папки. «Выставка 2023», «Архив», «Италия». Все не то. Он открыл последнюю использованную программу – сканер. История сканирования. Вот она. Временная папка. Он кликнул.
На экране появилось несколько файлов. Он открыл первый. Лестница. Красиво, фактурно. Типичный Чернов. Второй. Стена. Скучно. Третий. Пятно на полу… И крестик. Интересно. Уже есть намек на сюжет. Он открыл четвертый. И замер.
Перед ним было то самое лицо. Дмитрий мгновенно узнал его. Сергей Викторович Орлов, он же «Батя». Полумифическая фигура, теневой хозяин города. Журналисты вроде Дмитрия годами пытались подобраться к нему, но всякий раз натыкались на глухую стену. Ни одной четкой фотографии, ни одного прямого доказательства его причастности к чему-либо незаконному. Он был призраком, легендой. И вот сейчас этот призрак во плоти смотрел на него с монитора Влада. И это был не просто портрет. Фон, фигура с пистолетом, общее напряжение кадра – все кричало о том, что это не постановка. Это момент убийства.
Дмитрия прошиб холодный пот. Но тут же его сменила другая, горячая волна – смесь восторга, зависти и азарта. Вот оно. Тот самый нерв. Тот самый окоп, о котором он говорил. Влад сделал это. Случайно или намеренно, неважно. Он залез в самое пекло и вынес оттуда главный трофей.
Дмитрий быстро оглянулся на дверь ванной. Вода все еще шумела. Он вставил в USB-порт маленькую флешку. Скопировал всю папку. Несколько секунд. Он вытащил флешку, зажал ее в кулаке. Затем он снова открыл тот самый файл. Портрет «Бати». Он смотрел на него, и в его голове зрел план. Влад боится. Он никогда это не опубликует. Он зароет этот шедевр, сотрет, уничтожит. И мир никогда не увидит ни гениальной работы, ни лица главного преступника города. Это было бы преступлением. Против искусства. Против журналистики. Против справедливости. Так он сказал себе.
Но на самом деле им двигала зависть. Жгучая, всепоглощающая. Влад, этот везунчик, этот баловень судьбы, снова сорвал джек-пот. И он, Дмитрий, поможет ему. Поможет так, как умеет только он. Он выведет эту работу в свет. Он сделает Влада не просто знаменитым. Он сделает его легендой. А сам… сам он будет тем, кто эту легенду запустил. Серым кардиналом. Он получит свое. Признание. Сенсацию.
Он открыл браузер, зашел на страницу популярного новостного паблика, с которым давно сотрудничал. Раздел «Предложить новость». Анонимно. Он прикрепил файл. И написал короткий текст: «Похоже, фотограф Владислав Чернов не собирается останавливаться на достигнутом. Новая работа, случайно попавшая в сеть. Это уже не «грязный свет». Это сама тьма. Искусство или документ эпохи? Решайте сами».
Он нажал «Отправить». И удалил историю браузера.
Когда Влад вышел из душа, замотанный в полотенце, Дмитрий сидел на диване с невозмутимым видом и листал журнал.
– О, ожил, – сказал он. – Я уж думал, ты там утонул. Ладно, я побегу. Дела. Спасибо за кофе.
– Ты ничего не трогал? – спросил Влад, пытаясь разглядеть в его лице следы лжи.
– Слово скаута, – Дмитрий улыбнулся своей самой обезоруживающей улыбкой. – Не отвлекайся. Твори. Жду новых шедевров.
Он ушел. Влад остался один в гулкой тишине. Он почувствовал себя немного лучше. Вода и уход Дмитрия сняли часть напряжения. Он оделся. Подошел к компьютеру, включил монитор. Папка была закрыта. Все на месте. Он выдохнул. Может, он зря паникует? Может, нужно просто все стереть и забыть?
В этот момент его телефон, лежавший на столе, завибрировал. Один раз. Потом еще. И еще. Вибрация не прекращалась, заставляя аппарат медленно ползти по полированной поверхности. На экране загорались уведомления. Десятки. Сообщения в мессенджерах, упоминания в соцсетях, пропущенные звонки.
Сердце снова сжалось в ледяной комок. Он взял телефон. Дрожащим пальцем открыл первое уведомление. Ссылка на тот самый новостной паблик. Он нажал.
Страница загрузилась. И он увидел его. Свой снимок. Лицо «Бати». Под ним уже было несколько тысяч лайков и сотни комментариев.
«Это гениально! Чернов превзошел сам себя!»
«Господи, какой взгляд! Это реальный человек или актер?»
«Это новый уровень стрит-фото. Абсолютный шедевр».
«Просто мороз по коже. Где он находит такие типажи?»
«Продается? Я бы купил».
Он читал эти восторженные отзывы, и мир уходил у него из-под ног. Они видели искусство. Они видели гениальную работу, фактуру, свет, композицию. Они восхищались. А он видел свой некролог, опубликованный прижизненно и собравший тысячи лайков. Каждый восторженный комментарий был эпитафией на его могиле. Каждое «поделиться» – ударом лопаты, копающей ему яму.
Вирусное искусство. Дмитрий запустил вирус, который теперь распространялся по сети с экспоненциальной скоростью. И этот вирус убьет его. Влад смотрел на лицо на экране, и ему казалось, что светлые, холодные глаза смотрят не в объектив. Они смотрят прямо на него. Сквозь монитор. Сквозь километры проводов. И в этом взгляде было простое, ясное обещание. Обещание найти. И стереть. Как неудачный кадр.
Первая трещина
Телефон на столе перестал быть средством связи. Он превратился в эпицентр сейсмической активности, в черную пластину обсидиана, извергающую из себя потоки чужого внимания. Вибрация не прекращалась, сливаясь в сплошной, низкий, зудящий гул. Каждое уведомление, вспыхивающее на темном экране, было как разряд дефибриллятора, снова и снова пробивающий его парализованную нервную систему. Он смотрел на это бешеное мерцание, и ему казалось, что это не лайки и комментарии. Это были споры грибка, разлетающиеся в цифровом ветре, чтобы прорасти ядовитой плесенью на каждом углу его жизни. Он был пациентом зеро, и эпидемия уже вышла из-под контроля.
Он протянул руку, чтобы выключить звук, но в этот момент экран вспыхнул иначе. Не уведомление. Входящий вызов. Номер скрыт.
Влад замер. Весь шум мира, вся эта интернет-истерия, схлопнулся в одну точку – в этот светящийся анонимный сигнал. Это было оно. Неизбежность, обретшая форму телефонного звонка. Он мог не отвечать. Мог сбросить. Мог швырнуть аппарат в стену, разбив его на тысячу осколков. Но он знал, что это ничего не изменит. Негатив уже был засвечен. Процесс пошел.
Дрожащим пальцем он провел по экрану, принимая вызов. Он поднес телефон к уху, но ничего не сказал. В трубке была тишина. Не мертвая, не техническая. Живая, дышащая тишина, наполненная ожиданием. Она длилась несколько секунд, растягивая его нервы до предела. Он слышал собственное дыхание, громкое, как у загнанного зверя.
Наконец, из тишины родился голос. Тихий, ровный, лишенный каких-либо эмоций или интонаций. Голос, который мог бы зачитывать инструкцию к бытовому прибору или биржевую сводку. В этой безликости было что-то нечеловеческое, машинное.
– Владислав Игоревич Чернов?
– Да, – выдавил Влад. Слово прозвучало, как скрип ржавого металла.
– Вы хороший фотограф, – продолжил голос, так же монотонно. – Очень хороший. Вы умеете видеть. Это редкий дар.
Это не было похоже на угрозу. Скорее на бесстрастную оценку эксперта. И от этого становилось только страшнее.
– Кто это? – спросил Влад, пытаясь придать своему голосу твердость, но вышло жалко.
Голос проигнорировал вопрос.
– Талант – это ответственность. Вы выставили на всеобщее обозрение то, что является частной собственностью. Это как повесить в галерее украденную картину. Нехорошо.
– Это… это арт-проект, – выпалил Влад, цепляясь за ложь, как утопающий за щепку. – Постановка. Актеры.
В трубке снова повисла пауза. Влад представил себе человека на том конце провода. Он не видел его лица, но был уверен, что тот сейчас улыбается. Не губами. Глазами.
– Очень убедительная постановка, – наконец произнес голос. – Актер, которого вы сняли, очень ценит приватность. Он не любит, когда его портреты тиражируют без разрешения. Особенно такие… реалистичные. Он коллекционер. Но он собирает не искусство. Он собирает проблемы. И решает их.
Влад молчал, вцепившись в телефон так, что побелели костяшки. Каждое слово было гирей, медленно погружающей его на дно.
– Удалите фотографию, Владислав Игоревич. Везде, где сможете. И забудьте, что вы видели во время вашей… творческой сессии. Считайте, что это была вспышка. Она ослепила вас, и вы ничего не запомнили. У вас хорошая зрительная память. Это может стать для вас проблемой. А наш коллекционер не любит проблемы. Он их искореняет.
В голосе не появилось ни одной угрожающей ноты. Он оставался таким же спокойным, почти отеческим. Как будто давал полезный житейский совет.
– У вас есть час, – добавил он и повесил трубку.
Короткие гудки. Влад так и стоял с телефоном у уха, слушая эту механическую пустоту. Потом медленно опустил руку. Его тело покрылось холодным, липким потом. Это была не просто испарина страха. Это была химическая реакция организма, осознавшего свою смертность. Его мир, еще вчера состоявший из выдержек, диафрагм и световых схем, только что сузился до одного часа. Шестьдесят минут, чтобы стереть из реальности то, что уже стало ее частью.
Он бросился к компьютеру. Руки не слушались, пальцы промахивались по клавишам. Удалить. Он должен удалить. Но как? Фотография уже была не у него. Она жила своей жизнью, множилась, копировалась, сохранялась на тысячах устройств. Это было все равно что пытаться собрать обратно ртуть из разбитого градусника.
Он начал строчить. Сначала написал администратору паблика, где появилась первая публикация. «Прошу немедленно удалить пост. Это была техническая ошибка, публикация не согласована». Отправил. Потом открыл свои социальные сети, где его уже завалили упоминаниями. Он должен был перехватить инициативу, навязать свою версию реальности.
«Друзья, спасибо за такой бурный отклик на мой новый снимок! – печатал он, чувствуя отвращение к каждому слову. – Рад, что работа вызвала резонанс. Спешу внести ясность: это не документальный кадр, а часть моего нового проекта-мистификации «Городские типажи», посвященного исследованию архетипов современного мегаполиса. На фото – профессиональный актер. Прошу не распространять слухи и домыслы. Скоро будет больше информации!»
Ложь. Густая, вязкая, как мазут. Он нажимал «опубликовать» и чувствовал себя так, будто пачкает руки в чем-то непотребном. Он, который всегда кичился своей честностью, своей правдой «грязного света», теперь трусливо заметал следы, создавая фальшивый, глянцевый нарратив. Художник в нем корчился от унижения. Но инстинкт самосохранения был сильнее.
Комментарии под его постом посыпались мгновенно.
«Я так и знал! Слишком кинематографично для реальности!»
«Влад, ты гений провокации!»
«А кто актер? Лицо очень фактурное, нигде его не видел».
«Что-то не верится. Уж больно настоящий взгляд у этого «актера».
Он читал их, и его не отпускало чувство сюрреализма. Он сидел в своем дорогом лофте, в центре города, и вел войну в виртуальном пространстве, в то время как где-то в этом же городе безликий голос отсчитывал последние минуты его старой жизни.
Дверь спальни открылась. На пороге стояла Анна. Заспанная, закутанная в шелковый халат, она выглядела как видение из другого, мирного мира. Она потерла глаза и непонимающе посмотрела на него.
– Влад? Что случилось? Почему ты не спишь? Который час?
Она еще не знала. Она еще была по ту сторону разлома. Он посмотрел на нее – красивую, безмятежную, защищенную – и почувствовал острую, пронзительную жалость. К ней. К себе. К ним.
– Ничего. Не спалось. Работа, – пробормотал он, отворачиваясь к монитору.
– Какая работа в шесть утра? – она подошла ближе. Шелк халата зашуршал, наполнив комнату едва уловимым ароматом ее духов. Она заглянула ему через плечо. И увидела. – Боже мой. Что это? Это же… это везде.
Ее голос изменился. Сонливость слетела с него, как позолота. Она выхватила свой телефон с тумбочки. Ее пальцы забегали по экрану. Влад слышал, как участилось ее дыхание.
– Влад… что ты наделал? – прошептала она. В ее голосе не было восхищения, которое он слышал вчера на выставке. Только нарастающая тревога. – Кто это? Почему все об этом говорят?
– Это постановка, Аня, – сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал убедительно и спокойно. Он повторял свою ложь, надеясь, что если произнести ее достаточное количество раз, она станет правдой. – Я же написал. Новый проект. Просто Дима слил рабочий материал раньше времени, устроил хайп. Ничего серьезного.
Он ждал, что она поверит. Или сделает вид, что поверила. Он ждал облегчения, поддержки. «Ах, Влад, ты неисправимый провокатор! Но это гениально!» – вот что он хотел услышать.
Но Анна молчала. Она смотрела то на экран своего телефона, то на его затылок. Он чувствовал ее взгляд кожей. Оценивающий. Испуганный.
– Ты врешь, – сказала она наконец. Тихо, но с такой уверенностью, что у Влада внутри все оборвалось. – Я знаю тебя. У тебя другое лицо, когда ты врешь. И ты сейчас бледный, как полотно. Твои руки дрожат. Что происходит на самом деле?
Он медленно повернулся к ней. Их глаза встретились. Он хотел рассказать ей все. Про ночную вылазку, про убийство, про ледяной голос в трубке. Он хотел разделить с ней этот ужас, чтобы тот стал хотя бы вдвое легче. Но, глядя в ее расширенные от страха глаза, он понял, что не может. Этот груз раздавит ее. Ее мир, сотканный из вернисажей, бранчей и планов на отпуск в Тоскане, не был рассчитан на такую нагрузку. Он рассыплется от одного прикосновения этой грязной, кровавой реальности. И он, Влад, будет тем, кто его разрушил.
– Это просто… сложный проект, – сказал он, уходя от прямого ответа. – Есть некоторые риски. Репутационные. Я не хотел тебя волновать.
– Репутационные риски? – она нервно рассмеялась. Смех был похож на звон треснувшего стекла. – Влад, твой агент звонил мне уже три раза! Он в панике. Владелец галереи тоже. Они говорят, что этот человек на фото… что он очень опасен. Что это не игра.
Вот оно. Первая трещина. Она уже говорила с ними. Она уже была частью другого лагеря – лагеря тех, кто хочет обезопасить себя, дистанцироваться, уладить «проблему». Она не была на его стороне. Она была на стороне их общего, комфортного мира, который он поставил под угрозу.
– Они паникеры, – отрезал он. – Они боятся всего, что не вписывается в их рамочку. Это просто хайп. Через пару дней все утихнет.
– А если нет? – она сделала шаг назад. Этот шаг был громче любого крика. Он создал между ними новое, холодное пространство. – Влад, я не понимаю, зачем? Тебе мало славы? Мало денег? Зачем ты полез в это? Ты же не репортер, ты художник!
Она произнесла это слово – «художник» – как заклинание. Как будто оно могло защитить их, воздвигнуть невидимую стену между ним и тем миром, который он запечатлел на своем снимке. Но он-то знал, что никакой стены нет. Объектив камеры был не щитом, а порталом. И он сам его открыл.
– Потому что я устал от рамочек, Аня! – он повысил голос, сам того не желая. Отчаяние и страх прорывались наружу. – Устал от стерильного искусства для богатых снобов! Я хотел сделать что-то настоящее!
– Настоящее? – ее голос тоже зазвенел. – Убийства – это для тебя «настоящее»? Ты хоть понимаешь, во что ты ввязался? Во что ты втянул меня?!
Это прозвучало. «Втянул меня». Не «нас». Меня. В этот момент он понял, что уже потерял ее. Она смотрела на него не как на любимого человека, попавшего в беду, а как на источник угрозы. Как на стихийное бедствие, которое ворвалось в ее дом и рушит все на своем пути.
Он опустил голову, чувствуя полное бессилие. Война шла на два фронта: снаружи был безликий враг, который мог стереть его в порошок, а здесь, в его собственном доме, рушился последний бастион его мира.
– Я все улажу, – пробормотал он. – Я все исправлю.
– Как? – спросила она. В ее голосе был не вопрос, а приговор. – Как ты это исправишь? Отмотаешь время назад? Разобьешь свою проклятую камеру? Позвонишь этим людям и скажешь, что ты пошутил?
Она ходила по комнате, обхватив себя руками, словно ей было холодно. Ее шелковый халат казался тонкой, ненадежной броней. Она была похожа на породистую птицу, случайно залетевшую в клетку с хищником.
– Нам нужно уехать, – сказала она вдруг, останавливаясь. – Прямо сейчас. В аэропорт. В Тоскану, как я и говорила. Или куда угодно. Мы просто исчезнем на пару месяцев, пока все не уляжется.
Влад поднял на нее глаза. В ее предложении была такая детская, наивная вера в то, что от проблем можно улететь на самолете. Что можно сменить географию и обнулить реальность. Он почти позавидовал ей.
– Они найдут нас где угодно, Аня. Если захотят. Дело не в географии.
– «Они»? – она вздрогнула. – Ты говоришь так, будто… будто это мафия из плохого кино. Влад, мы живем в двадцать первом веке! Есть полиция, есть адвокаты…
Он горько усмехнулся. Полиция. Он вспомнил, как деловито и спокойно действовали люди в цеху. У них наверняка была своя полиция. И свои адвокаты.
– Ты ничего не понимаешь.
– Нет, это ты не понимаешь! – воскликнула она. – Ты не понимаешь, что поставил на кон все! Свою карьеру! Свою жизнь! Нашу жизнь! Ради одного кадра! Одной гребаной фотографии! Она того стоила?
Она стояла посреди комнаты, и лунный свет из панорамного окна падал на нее, вырисовывая ее тонкий, напряженный силуэт. Она была похожа на одну из его фотографий. Идеальная композиция. Безупречный свет. И бездонная пропасть между главным объектом и фоном. Он был фоном. Размытым, уходящим в темноту.
Стоила ли она того? Он посмотрел на монитор, на это страшное, гипнотическое лицо. Как художник, он знал ответ. Да. Безусловно, стоила. Этот кадр был вершиной всего, что он когда-либо делал. Это была та самая правда, которую он искал всю жизнь. Но как человек, который хотел жить, который любил женщину, стоящую перед ним, он не мог произнести это вслух.
Он промолчал. И это молчание было громче любого ответа.
Анна смотрела на него долго, изучающе. В ее взгляде боролись страх, любовь и разочарование. И страх побеждал. Он видел, как гаснет в ее глазах тепло, как на его месте кристаллизуется холодный, отчужденный блеск. Это был тот самый момент, когда пленка отношений рвется. Еще не до конца, но первая, фатальная перфорация уже пробита. Звук был почти слышимым.
– Я поеду к маме, – сказала она наконец. Голос у нее был ровный, лишенный всяких эмоций. Словно говорила не она, а тот человек из телефона. – Мне нужно подумать.
Она не стала ждать его ответа. Развернулась и ушла в спальню. Через несколько минут он услышал, как щелкают замки на чемодане.
Влад остался один посреди огромного, гулкого лофта. За окном начинался рассвет. Небо на востоке окрасилось в грязный, серо-розовый цвет. Передержанный кадр. Он смотрел на этот уродливо-красивый восход, и в его душе была такая же выжженная, безжизненная пустота. Час почти истек. Его ложь не сработала. Его мир треснул. И он стоял на самом краю разлома, и под ногами у него медленно осыпалась земля. Он не знал, что страшнее: безликая угроза извне или холодное, звенящее одиночество, которое только что поселилось в его доме. Он сделал свой самый главный снимок. И цена за него была – все, что у него было. Абсолютно все.
Незваные гости
Тишина, оставшаяся после ухода Анны, обладала весом и плотностью. Она заполнила лофт, как медленно застывающий бетон, придавив к полу остатки воздуха и звуков. Каждый предмет в комнате – безупречный диван, холодная сталь кухонных поверхностей, ряды книг с выверенными по цвету корешками – кричал об ее отсутствии, об образовавшейся пустоте. Влад стоял посреди этого мавзолея своей прошлой жизни и чувствовал себя экспонатом. Призраком, запертым в идеальной витрине.
Он действовал без мыслей, на одном лишь инстинкте, остром и холодном, как осколок стекла. Необходимо было спрятать улики. Не просто засунуть в ящик, а заставить исчезнуть, растворить в пространстве. Его взгляд обежал студию, кадрируя возможные тайники и тут же отбраковывая их. Под паркетом? Банально. В вентиляции? Киношный штамп. Они будут искать именно в таких местах. Им нужны негативы и цифровые копии. Пленка и флешка. Физические носители его приговора.
Его взгляд остановился на стеллаже, заставленном старой фототехникой. Целое кладбище камер, которые он скупал на блошиных рынках: громоздкие «гармошки», советские «Зениты», трофейные «Цейссы». Музейные экспонаты, артефакты ушедшей эпохи. Он подошел к полке и взял в руки тяжелый, угловатый «Фотокор-1». Довоенный аппарат, пахнущий пылью и кофражной кожей. Бесполезный кусок металла и стекла. Идеальный камуфляж.
Его пальцы, привыкшие к тонкой механике, быстро нашли скрытые винты. Через несколько минут корпус камеры был вскрыт. Внутри, в темном чреве, где когда-то размещалась кассета со стеклянной пластиной, было достаточно места. Он аккуратно свернул полоску негативов, поместил ее в маленький светонепроницаемый пакетик. Рядом легла флешка, на которую он предусмотрительно скопировал все файлы перед тем, как стереть их с компьютера. Он закрыл корпус. Камера снова стала просто камерой – мертвым объектом на полке, частью коллекции. Никто не станет потрошить музейный хлам.
Теперь цифровой след. Он отформатировал жесткий диск компьютера, потом еще раз, используя программу безвозвратного стирания. Процесс был долгим, мучительным. Он смотрел на ползущую строку прогресса и чувствовал, как его собственное прошлое, его работы, архивы, вся его творческая биография перемалывается в цифровой мусор, в бессмысленный набор нулей и единиц. Это была ампутация. Болезненная, но необходимая. Когда все закончилось, на мониторе остался лишь девственно-чистый рабочий стол. Он, Влад Чернов, как фотограф, перестал существовать в этом пространстве.
Он налил себе виски. Рука дрогнула, и золотистая жидкость плеснулась на столешницу. Он смотрел на янтарную лужицу, на то, как свет утреннего окна преломляется в ней. Красиво. Можно было бы снять. Эта мысль, машинальная, въевшаяся в подкорку, вызвала у него приступ тошноты. Он залпом осушил стакан. Огонь обжег горло, но не принес ни тепла, ни забвения. Лишь подчеркнул холод, поселившийся внутри.
Время потеряло свою линейность. Оно превратилось в вязкую, тягучую субстанцию, состоящую из ожидания. День сменился вечером, вечер – ночью. Он не включал свет. Сидел в темноте, в кресле, глядя на панораму ночного города. Огни мегаполиса, которыми он когда-то восхищался, теперь казались ему глазами хищников, наблюдающих за ним из темноты. Город больше не был для него источником вдохновения. Он стал охотничьими угодьями, а Влад – дичью, замершей на открытом месте.
Каждый звук заставлял его вздрагивать. Шум лифта в подъезде. Хлопок автомобильной двери на улице. Вой сирены где-то вдали. Его слух обострился до предела, превратившись в параноидальный локатор. Он ловил малейшие шорохи, анализировал их, готовился. К чему? Он не знал. И это незнание было самой страшной пыткой. Он чувствовал, как адреналин, смешанный с алкоголем, выжигает его изнутри, оставляя после себя лишь звенящую пустоту. Его профессиональная наблюдательность обернулась против него. Он видел слишком много деталей, слишком много потенциальных угроз. Тень, промелькнувшая в окне дома напротив. Фары машины, слишком долго стоящей на парковке. Все это складывалось в единую картину неотвратимости.
Он, должно быть, задремал. Провалился в липкое, тревожное полузабытье, где реальность смешивалась с кошмарами. Его выдернул из него звук.
Тихий. Едва уловимый. Не похожий ни на один из тех, что он слышал за последние часы. Это был не хлопок, не скрип, не гул. Это был короткий, сухой щелчок в районе входной двери. Звук, который издает металл, входящий в металл. Звук вскрываемого замка.
Все тело Влада мгновенно окаменело. Воздух в легких застыл, превратившись в острый кристалл. Это не было похоже на взлом. Взлом – это шум, суета, треск. Это же было хирургическое вмешательство. Точное, профессиональное, бесшумное.
Дверь приоткрылась без единого скрипа, впустив в прихожую тонкую полоску тусклого света с лестничной площадки. В проеме возник силуэт. Высокий, широкоплечий. Он не вошел. Он влился в пространство, двигаясь с плавной, хищной грацией. За ним скользнул второй, пониже и плотнее. Они закрыли за собой дверь с такой же абсолютной бесшумностью. Замок щелкнул еще раз, отрезая Влада от внешнего мира.
Они не сразу включили свет. Дали глазам привыкнуть к темноте, в которой Влад был зрячим, а они – пока нет. Он сидел в своем кресле, в дальнем углу комнаты, и тень от колонны скрывала его. Он не дышал. Он превратился в часть интерьера, в неодушевленный предмет. Он видел их, а они его – нет. Это давало ему одну, может быть, две секунды форы. Но что он мог сделать за эти секунды?
Вспыхнул свет. Не верхний, а торшер у дивана. Мягкий, боковой свет, который Влад так любил использовать для портретов. Сейчас он вылепил из полумрака две фигуры, превратив их в жуткую скульптурную группу.
Тот, что был выше, медленно повернул голову в его сторону. Влад узнал его. Он видел его в цеху, за спиной «Бати». Тот самый, что руководил остальными. Лицо, будто высеченное из камня грубым резцом. Коротко стриженые волосы с проседью на висках. Глаза, лишенные всякого выражения, – два темных провала. Это был «Седой».
Он не удивился, увидев Влада. Он просто констатировал факт его присутствия. Кивнул, словно поздоровался. Его взгляд был тяжелым, физически ощутимым. Он не просто смотрел. Он сканировал, оценивал, взвешивал.
– Добрый вечер, фотограф, – голос у него был под стать внешности. Низкий, ровный, без интонаций. Голос, которым можно озвучивать сводки погоды или приказы о расстреле.
Второй, коренастый и молчаливый, остался у двери, блокируя путь к отступлению. Он был тенью, функцией. Вся угроза концентрировалась в фигуре «Седого».
Влад не ответил. Слова застряли в горле. Он просто смотрел, как его самый страшный кошмар обретает плоть и кровь в центре его вылизанного, дизайнерского лофта.
«Седой» медленно пошел по комнате. Он не осматривался, как вор, ищущий, что украсть. Он двигался, как оценщик, инспектирующий чужую собственность. Он провел рукой по спинке дивана, постучал костяшками пальцев по стеклянной столешнице. Он прикасался к миру Влада, оскверняя его своим присутствием.
– Красиво тут у тебя, – сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. – Чисто. Слишком чисто. Как в операционной.
Он остановился перед стеной, на которой висела лучшая работа Влада с последней выставки. Тот самый «Колодец» с одиноким светящимся окном. «Седой» наклонил голову, рассматривая снимок.
– Свет, тень… Глубина, – произнес он, и в его голосе прозвучало что-то похожее на насмешку. – Ты и вправду талантливый. Жаль.
Он развернулся и посмотрел прямо на Влада.
– Час давно прошел. Картинка висит. Люди смотрят, обсуждают. Нашему коллекционеру это не нравится. Он расстроен. А когда он расстроен, я тоже расстраиваюсь.
Он сделал шаг к Владу.
– Где оригиналы? Негативы, цифровые исходники. Все, что ты снял той ночью.
– Я не знаю, о чем вы, – выдавил из себя Влад. Это была последняя, отчаянная попытка уцепиться за свою лживую легенду.
«Седой» вздохнул. Таким вздохом учитель реагирует на тупость нерадивого ученика.
– Не надо. Не усложняй. Мы оба знаем, что это была не постановка. И ты знаешь, что мы не уйдем, пока не получим то, за чем пришли. Давай по-хорошему.
– У меня ничего нет. Я все стер.
«Седой» посмотрел на него долгим, изучающим взглядом. Потом кивнул своему напарнику.
И начался погром.
Это не было хаотичным разрушением. Это была методичная, холодная деконструкция. Второй, молчаливый, начал с кухни. Он не бил посуду. Он просто открывал шкафчики и сбрасывал их содержимое на пол. Фарфор, стекло, крупы, специи – все смешалось в уродливую кучу на безупречном полу. Он действовал без злобы, с деловитой сосредоточенностью рабочего, разбирающего старую постройку.
«Седой» тем временем подошел к книжным стеллажам. Он не стал вытряхивать книги. Он брал их по одной, пролистывал и бросал на пол. Страницы мялись, корешки ломались. Сотни книг, которые Влад собирал годами, превращались в мусор.
– Негативы часто прячут в книгах, – пояснил «Седой», не оборачиваясь. – Старый трюк.
Влад сидел в кресле, парализованный. Он смотрел, как его мир, его упорядоченная вселенная, рассыпается на части. Каждый звук – звон разбитой чашки, глухой удар падающей книги – отзывался в нем физической болью. Они не просто искали. Они наказывали его, уничтожая то, что ему было дорого.
Когда с книгами было покончено, «Седой» подошел к стене с фотографиями. Он посмотрел на «Колодец», потом на Влада.
– Хорошая работа. Жаль, рама дешевая.
Он снял фотографию со стены и с размаху ударил ею об угол стола. Стекло разлетелось с сухим треском. Осколки посыпались на пол. Он вырвал паспарту, разорвал сам снимок – точную, дорогую печать – на две половины и бросил их на пол. Он сделал это медленно, глядя Владу в глаза.
В этот момент Влад вскочил. Это был иррациональный порыв, рефлекс художника, чье творение уничтожают на его глазах.
– Не трогай!
Он не успел сделать и шага. Второй, который до этого орудовал на кухне, оказался рядом в одно мгновение. Короткий, жесткий удар под дых выбил из легких Влада весь воздух. Он согнулся пополам, хватая ртом пустоту. Мир сузился до пульсирующего пятна боли. Его схватили за волосы и швырнули на пол, лицом в осколки стекла от разбитой рамы. Острая боль обожгла щеку.
– Я же просил. Не усложняй, – голос «Седого» донесся сверху, спокойный и нравоучительный.
Его подняли, заломив руки за спину, и поставили на колени в центре комнаты. Теперь он мог видеть все в деталях. Развороченные шкафы, разбитая техника, распоротая обивка дивана. Лофт превратился в поле боя после сражения, которое он проиграл, даже не начав.
– Последний раз спрашиваю, – «Седой» присел перед ним на корточки, их лица оказались на одном уровне. В его темных глазах не было ничего, кроме холодной усталости. – Где пленка и флешка?
Влад молчал, тяжело дыша. Изо рта шел привкус крови и желчи. Он смотрел в эти пустые глаза и понимал, что слова больше не имеют значения. Он проиграл.
– Понятно, – «Седой» выпрямился. – Значит, будем ломать. Не хочешь говорить – заставим вспоминать.
Он кивнул своему напарнику. Тот выволок Влада на середину комнаты и бросил на пол. Влад попытался встать, но тяжелый ботинок опустился ему на спину, впечатывая в пол.
– Руку, – скомандовал «Седой».
Напарник нагнулся, схватил левую руку Влада и вытянул ее на полу. Он наступил ботинком на запястье, фиксируя его. Влад видел свою ладонь, распластанную на бетонном полу. Пальцы фотографа. Длинные, чувствительные пальцы, которые чувствовали малейший нюанс спуска затвора, малейший люфт кольца диафрагмы.
«Седой» подошел, держа в руке что-то тяжелое. Это был один из объективов Влада, сорванный с полки. Старый, тяжелый «Гелиос».
– Ты же этим работаешь? – спросил он с ленивым любопытством. – Пальцами? Наверное, они у тебя очень чувствительные.
Влад забился, пытаясь вырвать руку, но ботинок на спине и на запястье держал его мертвой хваткой.
– Нет! Пожалуйста! – крик вырвался из него, хриплый и жалкий.
«Седой» не обратил на него внимания. Он поднял объектив.
– Посмотрим, какая у них точка невозврата.
Удар.
Не было острой боли. Был глухой, влажный хруст, который Влад не столько услышал, сколько почувствовал всем телом, каждой костью. Звук ломающейся структуры. Его мир взорвался белой, слепящей вспышкой, как передержанный кадр. А потом нахлынула боль. Нечеловеческая, всепоглощающая. Она прокатилась по нервам, как электрический разряд, заставляя тело выгибаться дугой. Он закричал, но крик утонул в ковре, смешанном с битым стеклом. Сначала хрустнул мизинец. Потом безымянный.
Они делали это методично, не торопясь. Как будто настраивали сложный инструмент. После второго удара сознание Влада начало отключаться, уплывать, спасаясь от агонии. Изображение перед глазами потеряло резкость, распалось на составляющие цвета – красные, синие, зеленые пятна. Хроматическая аберрация боли.
– Стой, – голос «Седого» остановил экзекуцию. – Он сейчас отключится. Нам он нужен в сознании.
Его перевернули на спину. Кто-то плеснул ему в лицо водой из вазы с увядшими цветами. Он закашлялся, возвращаясь в реальность, где его левая рука была одним сплошным, пульсирующим сгустком боли.
– Где? – спросил «Седой», снова склоняясь над ним.
Влад мотал головой. Он не мог говорить. Он не хотел. Упрямство, последнее, что у него осталось, было иррациональным, животным.
«Седой» цокнул языком.
– Ладно. Тогда последнее предупреждение.
Он поднял с пола любимый объектив Влада. Редкая, светосильная «Лейка». Его глаза. Его способ видеть мир. Он держал его в руке, как драгоценный камень.
– Хорошая линза. Немецкая. Резкая, наверное?
Он подошел к панорамному окну. И, не говоря больше ни слова, просто разжал пальцы.
Влад не услышал звука удара об асфальт где-то далеко внизу. Но он увидел, как его мир, его зрение, его талант, заключенный в этом куске металла и стекла, полетел в пропасть. Он смотрел на пустую руку «Седого» и чувствовал, как внутри него что-то обрывается окончательно. Они сломали не только его пальцы. Они сломали его душу.
– Это было первое предупреждение, – сказал «Седой», возвращаясь к нему. – То, что по телефону, – это была просьба. Сейчас – предупреждение. Следующего раза не будет. Будет просто результат. Ты, твоя девушка, все, кто тебе дорог. Мы не будем больше ничего искать. Мы просто сотрем все, что с тобой связано. Ты понял?
Влад смотрел на него снизу вверх, с пола, залитого водой и его собственной кровью. В его глазах больше не было ни вызова, ни упрямства. Только пустота. И что-то еще, новое, чего он никогда раньше не испытывал.
Не страх художника, потерявшего работу. Не страх светского человека, потерявшего репутацию. Не страх мужчины, потерявшего женщину.
Это был животный ужас. Первобытный, липкий, идущий из самого основания позвоночника. Страх кролика перед удавом. Страх существа, которое осознало, что оно – всего лишь мясо. Что его жизнь, его мысли, его талант, его любовь – все это не имеет никакого значения. Что есть сила, которая может в любой момент прекратить его существование, и сделает это так же буднично, как он сам менял объективы на камере.
Он медленно кивнул.
– Вот и хорошо, – «Седой» удовлетворенно хмыкнул. Он вытер руки о штаны, хотя они были чистыми. – У тебя есть двадцать четыре часа, чтобы оригинал оказался у нас. Как – твои проблемы. Позвонишь на тот же номер.
Они ушли. Так же тихо, как и появились. Щелкнул замок. И снова наступила тишина. Но это была уже не та давящая, бетонная тишина ожидания. Это была оглушающая тишина руин.
Влад лежал на полу посреди обломков своей жизни. Боль в руке была невыносимой, но она была где-то далеко, на периферии сознания. Главным было это новое, всепоглощающее чувство. Он больше не принадлежал себе. Его тело, его время, его будущее – все это было теперь собственностью человека с холодными глазами и тихого голоса. Он был объектом. Экспонатом в чужой, страшной коллекции. И он впервые в жизни понял, что такое настоящий грязный свет. Это не поэзия уличных фонарей. Это свет в глазах хищника, который смотрит на тебя и решает – жить тебе или умереть. И этот свет только что зажегся прямо внутри его души, выжигая там все дотла.
Разорванный контракт
Боль была архитектором, перестраивающим его тело по новому, уродливому чертежу. Она начиналась в раздробленных костях левой кисти, где каждый нервный узел превратился в раскаленный добела гвоздь, и оттуда расходилась концентрическими волнами по всему телу, затапливая сознание, отменяя мысли. Он проснулся – если этот рваный, поверхностный бред можно было назвать сном – на ковре, среди осколков собственной жизни. Правая щека прилипла к полу в лужице из виски, воды и крови. Утренний свет, тот самый, «режимный», который он так ценил, теперь был безжалостным и плоским. Он не лепил объем, а вскрывал, как скальпель, всю глубину погрома, всю степень его личного крушения.
Он сел, и мир качнулся, теряя резкость. Развороченная мебель, разорванные холсты, разбитая техника – все это сливалось в единую, хаотичную композицию, лишенную центра и смысла. Инсталляция под названием «Конец». Он посмотрел на свою левую руку. Она распухла, превратившись в бесформенный багрово-синий кусок мяса, из которого под неестественными углами торчали пальцы. Его пальцы. Инструмент его ремесла, его связи с миром. Теперь это был просто мусор.
Первым делом – аптечка. Он двигался, как сломанный механизм, каждый шаг отдавался пульсацией в руке и голове. В ванной, единственном нетронутом помещении, он нашел обезболивающее и бинты. Таблетки он проглотил без воды, давясь. Неумело, одной правой рукой, он пытался зафиксировать то, что осталось от его кисти. Бинт путался, соскальзывал. В зеркале на него смотрел незнакомец. Осунувшийся, с запекшейся кровью на щеке, с дикими, запавшими глазами, в которых плескался животный ужас. Зрачки были расширены до предела, словно пытаясь впитать больше света, больше информации, но видели лишь шум и помехи. Шумы на высоких ISO от страха.
Телефон, выживший в погроме, завибрировал на уцелевшем островке кухонной стойки. Он вздрогнул, как от удара. Это они. Часы еще не прошли, но они решили ускорить процесс. Он смотрел на аппарат, не решаясь подойти. Но на экране высветилось имя: «Марина (Галерея)». Не угроза. Хуже. Реальность.
Он ответил, прижав телефон плечом к уху, пока правая рука продолжала возиться с бинтом.
– Да.
– Влад? Слава богу, дозвонилась! – голос Марины, помощницы Семена Марковича, был высоким и напряженным, как натянутая струна. – Ты где? Ты в порядке? Тут такое творится!
Влад молчал. Он слушал ее щебет и представлял себе, как паника распространяется по их стерильному мирку, как вирус.
– Влад, алло? Ты меня слышишь? В новостях написали… какая-то драка, нападение на тебя. Это правда? Семен Маркович весь на иголках, он не может до тебя дозвониться. У нас тут журналисты обрывают телефоны!
«Нападение хулиганов». Какая удобная, обтекаемая формулировка. Она превращала хирургически точную экзекуцию в бытовой инцидент. Она делала ужас приемлемым для пересказа в светской хронике.
– Я в порядке, – солгал он. Голос был хриплым, чужим.
– Точно? Тебе нужна помощь? Мы можем…
– Что хочет Семен Маркович? – перебил он ее. У него не было ни времени, ни сил на это фальшивое сочувствие.
Марина замялась.
– Он просил передать… В общем, твой агент, Марк, ищет тебя. Срочно. У него в офисе. Говорит, это не телефонный разговор. Влад, что происходит? Все говорят про то фото… Говорят, человек на нем…
– Я понял, – снова оборвал он ее. – Я свяжусь с Марком.
Он отключился, не дослушав. Итак, цепная реакция пошла. Информация, искаженная и уродливая, как слух в испорченном телефоне, поползла по венам города, отравляя все, к чему прикасалась. И первым под удар попал его профессиональный мир. Тот самый, который еще позавчера носил его на руках.
Он нашел в шкафу Анны какую-то ее шелковую косынку и сделал из нее подобие перевязи для руки. Боль немного отступила, сменившись тупой, ноющей пульсацией. Он натянул толстовку с капюшоном, чтобы скрыть лицо, нашел в кармане вчерашней куртки ключи от машины. Нужно было убираться из этого разгромленного мавзолея. Нужно было встретиться с Марком. Пройти через последний, самый унизительный ритуал прощания с прошлой жизнью.
Офис Марка Зорина находился на сороковом этаже стеклянной башни в «Сити-Плаза». Это было пространство, спроектированное для переговоров, а не для жизни. Панорамные окна открывали вид на город, превращая его в абстрактную карту, в схему транспортных потоков и архитектурных амбиций. Свет был хирургическим, безжалостно выявляющим любую пылинку на полированном бетоне и малейшую неуверенность на лице собеседника. Влад чувствовал себя здесь так, словно попал под микроскоп. Секретарша с идеальной укладкой и калиброванной улыбкой проводила его в переговорную, стараясь не смотреть на его неуклюжую перевязь и свежую царапину на щеке.
Марк уже ждал его. Он стоял у окна, спиной к двери, заложив руки за спину. Идеально скроенный серый костюм сидел на нем, как вторая кожа, как броня. Марк Зорин был лучшим в своем деле. Он не просто продавал искусство. Он создавал легенды, выстраивал карьерные траектории, управлял репутациями. Он был архитектором успеха. И Влад был его главным, самым удачным проектом.
– Влад, – Марк обернулся. На его холеном, всегда безупречно выбритом лице не было ни тени сочувствия. Только крайняя степень деловой озабоченности. Его взгляд быстро, почти незаметно, скользнул по руке Влада, зафиксировал информацию и вернулся к глазам. – Присаживайся. Кофе? Воды?
– Ничего не нужно, – Влад остался стоять. Садиться означало принять правила этой игры, занять подчиненное положение.
Марк вздохнул, провел рукой по идеальному пробору. Жест выдавал напряжение, которое он так тщательно скрывал.
– Я не буду ходить вокруг да около. Ты знаешь, зачем я тебя позвал.
Он подошел к огромному столу из цельного куска какого-то темного, почти черного дерева и взял в руки планшет.
– «Фотохудожник Владислав Чернов стал жертвой нападения». «Снимок-провокация вызвал криминальные разборки?». «Арт-мир в шоке: кому перешел дорогу автор «Грязного света»?». – Он читал заголовки ровным, безэмоциональным голосом диктора, зачитывающего сводку происшествий. – Это только то, что вышло за утро. Мой телефон разрывается. Звонят из «Форбс», из «Нью-Йорк Таймс», из лондонской галереи. Все хотят комментариев. Все хотят знать, что происходит.
– Это нападение хулиганов, – механически повторил Влад официальную версию. – Ограбление.
Марк поднял на него глаза. В его взгляде, обычно теплом и располагающем, сейчас был холодный блеск полированной стали.
– Не надо, Влад. Не держи меня за идиота. Я двадцать лет в этом бизнесе. Я знаю, как выглядят ограбления, и как выглядят предупреждения. И я знаю, кто тот человек на твоей фотографии. Весь город это знает. Кроме, пожалуй, твоих восторженных поклонников в интернете.
Он отложил планшет и оперся руками о стол. Он смотрел на Влада так, как врач смотрит на безнадежного пациента.
– Ты совершил колоссальную, непростительную ошибку. Ты нарушил главное правило. Ты перепутал искусство с реальностью. Ты залез на территорию, где не действуют законы арт-рынка. Там другие правила. И другие цены.
– Я просто сделал снимок, – глухо сказал Влад.
– Нет! – Марк впервые повысил голос, ударив ладонью по столу. Звук получился сухим и резким, как выстрел. – Ты не «просто сделал снимок». Ты навел объектив на жерло вулкана и нажал на спуск, не подумав о том, что он может извергнуться и сжечь все вокруг! Тебя. Меня. Всю нашу репутацию, которую мы выстраивали годами!
Он прошелся по кабинету, пытаясь восстановить самообладание.
– Вчера мне звонили из головного офиса медиа-холдинга. Они в курсе ситуации. Юридический отдел работал всю ночь. Они проанализировали твой контракт.
Влад ждал. Он уже знал, что сейчас услышит. Но все равно ждал, как ждут удара, который должен положить конец мучениям.
– Помнишь пункт 7.4? «Действия Артиста, наносящие прямой или косвенный ущерб репутации Холдинга». Это форс-мажор, Влад. Основание для одностороннего расторжения.
Разорванный контракт. Формулировка была такой будничной, такой канцелярской. Она никак не вязалась с тем апокалипсисом, который происходил в его жизни. Это было все равно что описать авиакатастрофу термином «незапланированное снижение».
– Ты хочешь сказать… – начал Влад, но голос его подвел.
– Я хочу сказать, что холдинг прекращает с тобой всякое сотрудничество, – отчеканил Марк. – С сегодняшнего дня. Выставка в «Геометрии» закрывается. Официальная причина – «в связи с инцидентом и из соображений безопасности». Все запланированные проекты, включая выставку в Нью-Йорке, аннулированы. Твои работы снимаются с продажи во всех аффилированных галереях. Я больше не твой агент.
Он произнес все это на одном дыхании, как будто боялся, что если остановится, то не сможет закончить. Это была не просто новость. Это было профессиональное убийство. Холодное, методичное, оформленное юридически безупречно. Они не просто бросали его. Они стирали его из истории, вымарывали его имя из всех документов, превращали его в пустое место.
– Вы просто… бросаете меня? – Влад посмотрел на человека, который еще три дня назад называл его гением и главным своим активом. – После всего?
– Это не я тебя бросаю, Влад. Это бизнес, – Марк снова спрятался за этой непробиваемой формулой. – Ты стал токсичным активом. Любой, кто сейчас окажется рядом с тобой, рискует получить такие же проблемы. Галерея, холдинг, я. У меня семья, дети. Я не могу рисковать ими из-за твоего безрассудства.
«У меня семья». Последний, самый неотразимый аргумент любого предателя. Он ставил точку в любом споре, оправдывал любую трусость.
– А у меня, значит, нет? – горько усмехнулся Влад.
Марк отвел взгляд. Ему впервые стало не по себе.
– Послушай, по-человечески я тебе сочувствую. Правда. То, что с тобой сделали… это ужасно. – Он сделал паузу, подбирая слова. – Я могу дать тебе денег. На первое время. Чтобы ты мог уехать, залечь на дно. Считай это… выходным пособием.
Предложение было верхом цинизма. Откупиться. Заплатить за молчание, за собственное спокойствие. Превратить годы их сотрудничества в банальную финансовую операцию.
Влад посмотрел на свою изуродованную руку, потом на лощеное, обеспокоенное лицо Марка. И что-то внутри него, последнее, что еще могло чувствовать унижение, сломалось. Его захлестнул холодный, черный смех. Он смеялся беззвучно, одними плечами, сотрясаясь всем телом. Боль в руке отозвалась на этот смех острой вспышкой, но он не обратил на нее внимания.
– Денег? – прохрипел он, когда смог говорить. – Ты думаешь, дело в деньгах? Ты ничего не понял, Марк. Совсем ничего.
Он повернулся и пошел к двери. Он не мог больше находиться в этом стерильном аквариуме, дышать этим разреженным воздухом успеха и предательства.
– Влад, подожди! – окликнул его Марк. – Возьми деньги. Уезжай из города. Это единственный твой шанс. Они не оставят тебя в покое.
Влад остановился у двери, но не обернулся.
– Они уже, – сказал он тихо. – Они уже не оставили меня в покое.
Он вышел из переговорной, прошел мимо испуганного лица секретарши, не дожидаясь лифта, пошел к лестнице. Он спускался с сорокового этажа пешком, виток за витком, погружаясь все ниже. Каждый пролет был как круг ада, отделяющий его от прежней жизни на вершине мира. Он шел, и боль в руке была его единственным спутником, его единственной реальностью. Все остальное – выставки, контракты, признание – превратилось в далекое, неправдоподобное воспоминание. Как сон, который почти забыл сразу после пробуждения.
