Последняя Европа
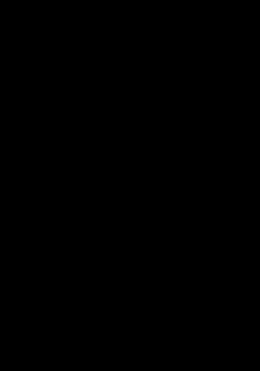
Над страницами «Последней Европы»
Я являюсь прилежным читателем прозы Б. С. Гречина достаточно давно, едва ли не со студенческих времен, моих и его. Отзывы на его тексты я пишу редко. Если быть точным, этот – второй.
У меня есть на это свои причины, и их много. Во-первых, моя теперешняя профессия далека от филологии. Во-вторых, Гречин и без меня не остаётся без критики, и доброжелательной, и не очень. Помню, как ещё в студенческой стенгазете «Третий этаж» нашего учебного корпуса постоянно появлялась критика на Гречина, скорее личная, чем литературная, и скорее преувеличенная, чем конструктивная. В любом случае, её авторы не достигли цели в отношении меня: меня, напротив, заинтересовал этот удивительный человек, последователи которого якобы «поднимаются над землёй на несколько сантиметров». Каково было моё разочарование, когда я убедился, что никто на самом деле не левитирует.
Моя третья причина состоит в том, что однажды я всё же написал на одну из «христианских» повестей Гречина небольшой отзыв. Отзыв понравился автору, но не понравился профессиональным филологам – тем, кто, если бы судьба сложилась иначе, мог бы стать моими коллегами. Он показался им неряшливым и непрофессиональным. Не то чтобы это нанесло мне неизлечимую травму, но я попросил автора незаметно удалить тот отзыв, который не провисел в Интернете и трёх дней.
Но в любом случае появление «Последней Европы» и вообще завершение всей «зазеркальной» трилогии дают мне повод снова взяться за перо. В этот раз я пообещал себе, что не совершу малодушия, но, чтобы мне не совершить малодушия в этот раз, я прошу автора опубликовать мой отзыв анонимно, хоть даже под своим именем, если он захочет. Именно так просила свои записи опубликовать Симона Вейль, что я тоже узнал из «Последней Европы». У меня нет никаких амбиций, связанных с этой рецензией. Я даже не могу назвать её рецензией: это именно размышления над прочитанным.
Я сказал про «появление» «Последней Европы», потому что книга, даром что в личном блоге автора появилась только первая глава – с необходимым «оживляжем» в виде картинки, авторского чтения и Рахманинова, – в электронном виде уже опубликована. Она есть на одном из популярных сетевых порталов, но читать её на этом портале, убившем форматирование, – как есть изысканное блюдо из солдатского котелка. Что более ценно, она существует в виде гугл-документа, ссылка на который есть в том же самом личном блоге автора. Я не утерпел, начал читать её сейчас и читал полночи, а после и следующие полдня.
Иноязычные вставки утомляют. По счастью, их гораздо меньше, чем в «Русском зазеркалье». И, по счастью, существует такая вещь, как онлайн-переводчики. В документе, кстати, есть и сноски с переводом – в сетевой версии их нет.
Иноязычные вставки утомляют, но я понимаю, что Гречин – писатель крайне добросовестный: реалистической, даже, говоря художественным языком, академической школы; что он не может писать диалог героев с литовцем, швейцарцами или греками на русском, потому что такой диалог не мог происходить на русском. Я даже не представляю, как люди такой лингвистической щепетильности, как Гречин, смотрят, к примеру, «Семнадцать мгновений весны», где высшие чины Третьего Рейха разговаривают на русском. Моему удовольствию от фильма это не мешает: я понимаю, что это – условность. Но в «Последней Европе» нет условностей такого рода. Она в своем реалистическом измерении стремится быть очень тщательной, включая в себя реальные названия отелей, описания реальных зданий, реальные цены и реальные расписания поездов. Не то чтобы нам пришло бы в голову это всё проверять… И всё же я чисто от нечего делать сделал выборочную проверку. У нашей епархии действительно есть секретарь. Венская сосиска в тесте действительно называется «кезекрайнер». В Гётеануме действительно шесть или семь этажей. За пятьсот евро и даже меньше в прошлом году герои действительно могли добраться из Парижа в Варшаву. Что ж, это всё успокаивает меня как читателя: я вступаю ногой на твёрдую почву. Я знаю, что мир, в котором живут герои, – плотный, «толстовский», настоящий.
Я вступаю на твёрдую почву и сразу поскальзываюсь.
Одна из картин умершей художницы Аллы Флоренской, в поисках которой герои романа едут по Европе, называется «Столыпин на перепутье». И вот, картина вводит зрителя в заблуждение, о чём пишет Каролина, эта непоседливая и очаровательная Каролина. Зрителю кажется, что перед ним – реалистический портрет, а на самом деле перед ним – холст, полный символизма в виде, к примеру, обратной, «иконической», «флоренской» перспективы.
Не будет преувеличением сказать, что этот невольный обман – метафора впечатления от всего текста, разумеется, если читатель не ленится читать и думать. Но те, кто ленятся читать, отвалились уже сразу, когда увидели объём книги.
На поверхности – текст о двух наших современниках и соотечественниках, которые едут по теперешней Европе, чтобы спасти от полного забвения картины третьей нашей соотечественницы, умершей в эмиграции. Кстати, про её картины написано так убедительно, так выпукло, что я едва не поддался искушению поискать в Интернете, кто такая Алла Флоренская. И это несмотря на то, что я читал первый роман трилогии и помнил, что она – вымышленный персонаж.
Это – на поверхности. Но роман многослоен. И этой своей многослойностью, в которой каждый слой сплетается с другим, вплавляется в него, «Последняя Европа» напоминает мифологическую систему в миниатюре. Но любой миф – это зачаточная, точнее, архаичная теология. Я не люблю преувеличений, особенно филологических, но у романа есть своя микротеология.
Давайте подумаем вместе. Есть эмоциональная динамика между Олегом и Кэри. Думаю, что «Кэри» частично отсылает к толстовской Кити, и, наверное, в характере этой девушки есть кое-что от Кити Щербатской. Правда, от Наташи Ростовой в ней больше. К счастью, эту историю не омрачит никакой Анатоль Курагин: Роберто явно не тянет на Курагина. Но это не слепое копирование, да и вообще не копирование, а именно кое-что, одна-две нотки. Один из самых очаровательных женских образов, которые я находил в современной литературе. И это при том, что Кэри вовсе не пытается быть «женственной девочкой». Она, например, вслух называет берлинских концептуалистов засранцами. Олег сначала замечает что-то в стиле «Кэринька, меня смущает, что ты ругаешься, как грузчик», а потом со вздохом соглашается: и правда засранцы. Да и мы согласимся.
Эта динамика между двумя, сорокалетним мужчиной и семнадцатилетней девушкой, – одновременно живое сердце, не дающее тексту превратиться в каталог мыслей для интеллектуалов-одиночек, и, так сказать, сама жизнь, «сей тварный мир» с его болью и его радостями. Боли много: вот, например, один Роберто, который приглашает Каролину на танец, посчитав Олега отцом девушки, чего стоит. Ради справедливости: у Кэри в Греции случится свой приступ ревности. Радости тоже много: читателю просто нужно, как и Олегу, набраться терпения и дойти до самого конца.
Но у этого слоя «тварного мира» есть, конечно, своя подслойка, свое чистилище. И это чистилище – сама Европа, физическая: пресловутый «цветущий сад» Жозепа Борреля. Увы, в саду растут одни тернии и нарциссы. В Вильнюсе и в Вене героям предсказуемо хамят; в Швейцарии один потасканный мачо, так и представляю себе этот типаж, пробует затащить Каролину в постель; в Риме на их голову обрушивают монолог об исторической и культурной отсталости России, которая не «вылезла из своих средних веков»; в Париже пробуют украсть у них с таким трудом добытые эскизы, а в Берлине… про Берлин я и писать не буду. В Берлине чистилище стало адом. После чтения главы про Берлин испытываешь острое сожаление о том, что наши деды, взяв Рейхстаг, не разобрали эту страну по кирпичику.
Но там, где есть ад, есть, конечно, и рай тоже. В пространстве романа этот рай двух-, даже трёхслоен. Картины Аллы, сложные, предельно насыщенные, – его условные образá, с ударением на последнем слоге, даром что настоящих икон в узком смысле слова среди них только одна: она изображает греческого святого Нектария Эгинского. Мы видим их лишь глазами Кэри, но это – очень умные глаза. Это глаза человека, который полностью понимает сложный язык академического изобразительного искусства и превосходно о своем понимании говорит. Способность, почти невероятная для семнадцатилетней девочки, даже если допустить, что Каролина создала свои описания после. Или это просто я стал старым брюзгой?
Другой слой условного рая – сборник эссе Аллы под общим названием «Непóнятые», книга в книге. Это – summa theologica всего романа. Кстати, почти и в буквальном смысле тоже, и в этом буквальном смысле книга, в отличие от «Евангелия Маленького принца», вовсе не провинциальна. «Евангелие» конструировало какую-то свою, локальную, камерную веру, миноритарную религиозную деноминацию. Сборник «Непонятые» как минимум в трёх эссе – о святом Нектарии Эгинском, Джордано Бруно, французской мыслительнице Симоне Вейль – говорит о христианстве, всём христианстве, стремясь порой достаточно дерзко его переосмыслить. Так, закрыв эссе о Бруно, Олег мысленно восклицает: «Отчаянная ты баба, Алка! На решения Халкидонского собора покусилась!» Реакция Олега вызывает улыбку, но вся задумка впечатляет масштабом.
Между прочим, «книга в книге» у Гречина существует не в первый раз. В «Русском зазеркалье» схожую роль выполняли лекции Аллы-Элис о русской песенной музыке. Но Алла с «Русского зазеркалья» постарела на год, а писатель – на пять лет. Теперь в фокусе – не «Наутилус» и Виктор Цой, а Бруно и святой Нектарий, Чюрлёнис и Гёльдерлин. Ожидаемо, мы даже и заждались.
Есть и жизнь Аллы после её трёх бурных лондонских недель. Эта жизнь дана как бы в восьми моментальных фотографиях, пунктиром. «Раем» её назвать нельзя. Она выполняет другую очень важную функцию.
Какую? И здесь мы возвращаемся к метафоре обратной перспективы: функцию глядящего на нас с фрески и судящего нас присутствия.
Алла – вовсе не святая, хотя интенсивность её умственной жизни в последний год заставляет вспомнить ту же Симону Вейль, а интенсивность творческой приближается к подвижничеству. Не святая – при этом думаю, что её почти мгновенная смерть от кардиомиопатии в её парижской студии перед незаконченным портретом Симоны Вейль под звуки «Прогулок по воде», о которых она писала в лондонских лекциях («Видишь, там на горе возвышается крест? Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нём!»), имеет огромное символическое значение.
Дело не в её святости. Дело в так никогда и не разрешённом напряжении её жизни, в её самом главном «Что, если?», которое появляется в восьмом отрывке из её дневника в виде курсива.
Что, если семнадцатилетняя девушка в один памятный для неё вечер нашла бы в себе немного больше мужества? Или не мужества ей не хватило, а любви? Или мужество и любовь – одно и то же?
Олег и Каролина живут именно внутри этого курсива. Своей историей они пробуют дать на него ответ. Кажется, у них в их ужасном слаломе, в котором каждая ссора может стать окончательным разговором, это всё же получится.
Я забыл еще один слой, и как же я мог его забыть! Его образность заимствована, разумеется, из «Сказки сказок» Юрия Норштейна, да автор этого и не скрывает. Ну, и стоит ли из-за этого ломать копья? В конце концов, и «Русское зазеркалье» даже в своем названии заимствовало образность из самой знаменитой викторианской сказки, и «Евангелие Маленького принца» – из самой знаменитой французской. Что уж теперь. В «Сказке сказок» Серенький Волчок ничего не говорит, а в «Последней Европе» он очень даже разговорчив. Мир Волчка – ни чистилище, ни рай. Это мир языческий, ветхий, параллельный, мир подсознательного, мир безлюдных пространств, мир тайных и неожиданных помощников человеку, которые тоже слабы и уязвимы, тоже опасаются своего ада. У нас на секунду перехватит дыхание, когда ближе к концу романа мы узнаем, что Серенький Волчок, этот «шерстяной соловей» русского леса, спасён от ада силой своего активного, хоть и неуклюжего добра.
Между прочим, Волчок – ещё и рассказчик, верней, один из рассказчиков книги. Их в книге ровно четыре: сам Олег, Алла, Каролина и наш лохматый друг. В музыке такая множественность параллельных голосов называется полифонией. И да, Бахтин здесь тоже просится на язык…
Не буду лишать читателя удовольствия разгадывать сплетения между слоями и голосами романа, а также то, как один из них влияет на другой. Мой отзыв, который я не планировал делать большим, вырос до шести страниц. А кое-чего важного я пока так и не успел сказать.
Я затрудняюсь определить в «Последней Европе» самое сущностное, её метафизическое сердце. Только мне кажется, что я понял, где же оно, как автор опрокидывает мои предположения, водит меня за нос. И всё же сейчас, когда я перевернул последнюю страницу, предположение у меня появилось. Самое важное – осознание цены, которую мы платим за смысл своей жизни, и смелость заплатить эту цену.
Этой ценой во всех случаях романа является жертва. Олег, к примеру, платит за свою любовь и возможность достаточно призрачного счастья с девушкой вдвое его младше полным, тотальным самопожертвованием. Это не унылая покорность «сахарного папашки»: это самопожертвование с отчётливым вкусом христианского покаяния. За что он кается, мы можем узнать из второго романа трилогии. Если мы его не читали и не хотим читать, мы сталкиваемся с чувством, которое своей интенсивностью и, так сказать, своей геометрией превосходит любое наше понимание и вообще любой здравый смысл.
Алла и Кэри идут двумя отчётливо разными путями: первая – дорогой творческой аскезы, вторая пробует для себя найти в этом сложном мире с его Сциллой косного консерватизма и Харибдой либеральной пошлости тропку к обычному женскому счастью. Но в обоих случаях жертва неизбежна. Алла за право создать свою часть «ковчега» – важное для романа понятие – жертвует тем самым пресловутым женским счастьем, возможностью жить в России, да и главным: длительностью жизни. Её выбор перед ней встаёт с пугающей ясностью, и совершает она его полностью сама.
Чем жертвует Кэри? Ну, например, возможностью своей аскезы – а мысль о творческой аскезе для неё в какой-то момент оказывается привлекательной, и думаю, что привлекательна она не только из обиды на Дафну Карагианис, которую Каролина очень смешно называет «дафнией». То ли Ницше, то ли Кьеркегор сказал, что любое «да» с железной необходимостью порождает множество «нет». Оттого выбор Кэри, её личная открытая дверь, которую она широко распахивает в самом конце романа, – это одновременно множество других закрытых, множество её юношеских образов: самурай, рыцарь, священница, художница, – которые ей приходится теперь отбросить, снять с себя, как люди снимают послужившую им одежду или даже как боец после боя стаскивает с себя бронежилет. Пожалуй, образ бойца ей ближе всех, и соглашусь с автором другого отзыва, подписавшимся инициалами А. Е., который, кажется, несколько легкомысленно ляпнул, что эта девочка – не девочка вовсе, а маленький, но настоящий духовный воин. В отношении всего европейского путешествия это верно безусловно. Но в эпилоге воин, похоже, делает свой выбор: его битвы будут теперь иными.
И всё же роман не содержит полной закрытости, окончательной предопределённости. Он, и закончившись, продолжает писать сам себя внутри нашего ума. А мы остаёмся, созерцая его не прямую, но обратную, «флоренскую» (по отцу Павлу, не по Алле) перспективу, с точкой схода не на горизонте, а внутри нас самих, с его вопросами, которые итальянец Сальпетриери ставит не столько перед Каролиной, сколько перед читателем. Куда ты идёшь? Во что ты веруешь?
К этим вопросам добавляются ешё два, невысказанные, уже – от Аллы Флоренской. На какую жертву ты способен? И – хватит ли у тебя мужества?
Старый Знакомый
Глава
I
В России
1
Позвольте представиться. Меня зовут Олег Поздеев, мне сорок лет – и нет, я не алкоголик. Избитую шутку про алкоголика я уже однажды, помнится, использовал в своём прошлом романе под названием «Евангелие Маленького принца», который выпустил под чужим именем. (Название несколько чрезмерно торжественное, но у меня не было никакой возможности назвать его иначе.) Так он до сих пор и лежит где-то в Сети, прочитанный парой десятков человек: то ли ждёт своего часа, то ли канул в безвестность. Сомнительная затея – приступать к новому роману, когда читатели ещё не распробовали первый, разве не так? Но люди не обязательно поступают очень уж разумно, даже если они – юристы широкого профиля. Юристы не всегда рациональны, так же, как психологи не всегда душевно здоровы, священники – порядочны, а философы – умны. Постараюсь, однако, не докучать вам своей доморощенной философией. Если уж на страницах этого романа и появится философия, я позволю о ней говорить другим рассказчикам.
Моя основная история начинается в июле 2024 года – но боюсь, что никак не смогу перейти к этой основной истории без обширного предисловия, которое перебросило бы мостик между ней и концом прошлого романа – его события завершились летом 2023-го. Нужно ведь мне рассказать, что со мной произошло за этот не самый простой год, который, кстати, по времени совпал с выпускным классом Кэри.
Но иной читель, пожалуй, и не знает, кто такая Кэри, и читать мой первый текст он вовсе не обязан. Специально для такого читателя – следующий фрагмент.
2
После смерти дочери и развода с женой (весной 2021 года) я долго не находил себе места. Из моей чёрной тоски меня не сумели тогда вытащить ни психолог, ни современная колдунья (то есть, простите, «космоэнергет высоких посвящений»).
Справилась с этим – играючи, вовсе не ставя перед собой такой цели, – Дарья Аркадьевна Смирнова, удивительная женщина с простым русским именем, истории знакомства с которой и посвящён мой первый текст. Пока она была жива, я видел, и до сих пор смею видеть себя её духовным учеником – вероятно, мало на что годным учеником. У моего учителя в свою очередь имелся её собственный наставник, с которым она была короткое время знакома в ранней юности.
Наше знакомство с ней тоже не продлилось долго. Дарья Аркадьевна скончалась на тридцать втором году жизни от сердечной недостаточности или похожей на неё болезни. После своей смерти она оставила группу последователей, которую с некоторой натяжкой можно было бы посчитать религиозной общиной. В глазах наших православных «друзей» мы, разумеется, являлись неохристианской сектой.
Нежданно-негаданно небольшая группа выбрала меня своим руководителем – вопреки полному отсутствию у меня религиозных и миссионерских талантов.
Тем же самым памятным летом я познакомился с «Карлушей», умным пареньком (это было самым первым впечатлением). «Паренёк» и впрямь оказался умным – умной девушкой-подростком. Непростой девушкой: девушкой, с которой я, возможно, был знаком давным-давно, когда она носила другое имя… Но пересказать эту часть истории парой абзацев нет никакой возможности, оттого не буду даже пытаться.
Смерть Дарьи поразила Кэри множеством несправедливостей, жестокостей и нелепых, едва ли не клеветнических измышлений, высказанных близкими родственниками покойной. На некоторое время девушка пропала, а после написала мне трогательное, выразительное письмо. «До моего совершеннолетия – полтора года, – так или примерно так заканчивалось то письмо. – Уйма всего может случиться за полтора года. Но если ничего ужасного не произойдёт, то – вы меня дождётесь?»
Вот, пожалуй, сказано достаточно, и самое время перейти к тому, что случилось после. Должен предупредить читателя, что ничего чрезмерно увлекательного, захватывающего дух, авантюрного за год со мной не произошло. На жизнь среднего человека редко выпадают приключения, а я – человек именно средний. И всё же год оказался не самым лёгким…
3
Первая встреча учеников Дарьи Аркадьевны прошла в начале августа. Ещё до той встречи мне позвонила Каролина.
Самый первый звонок после того пронзительного письма (до звонка было несколько коротких сообщений), и оттого некоторое время мы не знали, как говорить друг с другом. Начинали какую-то фразу и бросали её на половине…
Всё это, однако, изменилось, когда я – просто чтобы сказать что-нибудь – упомянул о встрече группы. Куда делись и её робость, и нерешительность!
«А когда? – немедленно уточнила девушка. – Где? Во сколько?»
Я назвал время и место, пояснил, что встреча пройдёт у меня дома, потому что Ольга, двоюродная сестра Дарьи Аркадьевны, отказалась продавать принадлежавший покойной дачный домик, даже ничего не ответила мне на моё подробное и вежливое письмо (не то чтобы я всерьёз надеялся на положительный ответ, но всё же…). И, сказав это всё, замялся. Произнёс наконец то, что не имел никакого желания произносить:
– Может быть, Кэри, вам не стоит…
«Мне не стоит участвовать?» – тут же догадалась она.
– Именно.
«Почему?»
– Я как раз и хотел… Потому что вам нет восемнадцати.
«То есть в учредительном собрании религиозной группы я участвовать могла, тут у вас не скребли кошки на душе, да? А в обычном – извини, деточка, ещё не выросла?»
– Дело в том, – принялся я объяснять, – что на так называемом учредительном собрании вы были не соучредителем, а просто моим помощником, и всё это происходило в рамках вашей профориентационной практики…
«Ну-ну, – с иронией прокомментировала Каролина. Справедливой иронией, конечно: едва ли у кого из её одноклассников, да вообще из бывших десятиклассников в их последнее школьное лето была такая насыщенная и причудливая «практика». Но ведь только её практикой моя юридическая, «немецкая» душа и могла оправдать всё это вопиющее безобразие. – А практика кончилась, и пора мне снова садиться на короткий поводок, правильно?»
– Я не это хотел предложить, Карлуша!
«Вот, и детским именем меня называете теперь снова…»
– Но вы же сами его… Отчего бы вам не попросить разрешения у родителей?
«И действительно, отчего бы… “Участие дочери в собрании секты разрешаю. Дата, подпись”, – так, наверное? (Я коротко хмыкнул.) И мы оба знаем, дядя Олег, что не видать мне такого разрешения, как своих ушей. Вы бы для своей дочери написали такую записку? Которая у вас умерла, я помню – извините, вечно ляпну какую-нибудь бестактность… Ну что, исключаете меня совсем? Может быть, мне теперь и вовсе вам на глаза не попадаться?»
– Кэри, милый человек! – прервал я её. – Не торопитесь, не рубите сплеча! Не вините меня за попытку сделать, как лучше. Ещё целая неделя впереди – я что-нибудь придумаю…
И я действительно придумал. Правда, не знаю, очень ли хорошей оказалась моя придумка… Но будем справедливы: не только ради Каролины мне пришлось импровизировать. Юле Уточкиной, одной из учениц Дарьи Аркадьевны, тоже ещё не исполнилось восемнадцати.
Через пару дней на телефоны всех причастных ушло приглашение посетить собрание неформального объединения «Клуб взаимной помощи имени Д. А. Смирновой». Вот так-то, а вовсе не религиозной группы «Оазис», как всё изначально называлось. Слабость, компромисс, шаг назад? Наверное – но я как юрист не видел другого способа невозбранно обеспечить участие двух несовершеннолетних. Пусть любой, кто отличается большим мужеством или там религиозной прозорливостью, первым кинет в меня камень.
Начать собрание я планировал чтением, возможно, выборочным, текста Платона под названием «Апология Сократа», а закончить – его обсуждением. Именно этот текст, в числе прочих, преподал Дарье Аркадьевне некто Азуров, таинственный незнакомец – для нас незнакомец, – который когда-то давно был её школьным учителем, а затем полтора месяца – духовным. Мне виделось, что разумно, правильно, талантливо, вдохновенно – начать движение нашего маленького кораблика под тем же парусом.
И вот, уже обводя взглядом лица собравшихся (пришли все), держа книгу на коленях, я почувствовал, что, видимо, ошибся. Моя паства (самое нелепое слово из возможных) – не юная Дарья Аркадьевна. Разве Дине нужна «Апология Сократа»? Или Семёну Григорьевичу, на его седьмом десятке? Или Аврелию – разве в коня будет корм? А если и нужна, если книги вроде «Апологии» нужны каждому вне зависимости от возраста, я не знаю, как о них говорить. Я – не знаток философии, не мастер слова, не выдающийся наставник и тем более не Принц духовной пустыни, а заурядный конторский служащий, и вовсе зря группа собирается «поднести мне жёлтый шарф»: не по чину.
(«Раньше надо было об этом думать!» – скажет мне невидимый критик. Верно, но мы, русские люди, слишком часто надеемся на то, что кривая вывезет. А ещё «думать» для меня, юриста, означает рассчитывать, планировать, вдаваться в мелочные детали. Вот уж спасибо! Мне и на работе хватает этой тоски.)
Кривая действительно куда-то вывезла: я отложил книгу и объявил:
– Дорогие друзья, сейчас гляжу на вас и вижу, что мои домашние заготовки, скорее всего, никуда не годятся. Наставлять вас с позиции просветлённого мудрого старца я не могу – с чего бы именно мне? Я – просто ваш товарищ по несчастью, кто-то, кто пережил кораблекрушение и выплыл на не известный мне берег, цепляясь за обломки. То, что я некоторое время стоял к нашему капитану ближе, чем другие, мало что значит. На этом новом берегу нам, выжившим, нужно или собраться вместе, разводить костёр, или разойтись каждый кто куда. Предлагаю разводить костёр – чтобы этой встрече не стать последней или не превратиться в банальный вечер воспоминаний. Предлагаю каждому по очереди рассказать о своих страхах, тревогах, проблемах и бедах, а другим – поделиться своими мыслями о том, что мы услышим. Думаю, будет справедливо ввести три нормы: полная искренность, дружелюбие, взаимная поддержка. Так мы, кто знает, вправду сможем помочь друг другу и сумеем обогреться вокруг общего костра. Есть ли те, кто против такого порядка работы?
(Конечно, я не помню своей речи дословно, и поэтому неизбежно изображаю её более гладкой, чем она была в действительности. Ну, что ж поделать!)
Протестующих не нашлось, хотя удивлённые взгляды, конечно, были. Проговаривая это всё, я, хоть сам этого не очень понимал тогда, круто переложил руль, сворачивая от религиозной практики в сторону чего-то, подобного практической психологии, а именно групповой терапии. Впрочем, кто скажет, где кончается одна и начинается другая, кто построит между ними бетонный забор? Только люди вроде Савелия Ивановича, а я не отношусь к строителям заборов, увольте.
Методы и нормы этой терапии во время первой встречи нам пришлось изобретать прямо на ходу – но, к нашей чести, мы, ни шатко ни валко, справились с этим. Продолжили с переменным успехом справляться и дальше.
Опять-таки, тот же самый невидимый критик скажет мне, что, насколько никудышный из среднего юридического работника выйдет священник или лидер современного культа, настолько же никудышный выйдет из него групповой психотерапевт. Справедливо на все сто, и «комплекс самозванца» преследовал меня всё время нашего предприятия (о том, как долго оно продлилось, будет позже). Но здесь, в этой работе, я хотя бы понимал, чтó именно я делаю, и не чувствовал себя совсем бесполезным. Самозванцы тоже бывают разные: лучше притворяться тем, кем ты в отдельные удачные моменты можешь быть, а не тем, кем ты не способен быть по самой своей природе.
В конце августа и в сентябре я, понимая, куда именно мы сворачиваем, проглотил пару пособий и художественных книг, а также посмотрел пару фильмов, посвящённых групповой психотерапии. (Некоторое время я даже игрался с мыслью пройти профессиональную переподготовку на психолога, после чего, повесив диплом на стенку, начать приглашать в группу новых участников. Так и не собрался, и теперь не знаю, на беду ли или, наоборот, к счастью.)
Больше, чем учебники, мне помог роман очаровательного американского еврея с русскими корнями под названием «Лечение Шопенгауэром». Из этого романа я, в частности, узнал, что идея обсуждать именно философские тексты в ходе работы терапевтической группы – не такая уж бессмыслица: подход вполне «имеет право быть». Попадись мне в руки «Лечение Шопенгауэром» немного раньше, я, возможно, и не отбросил бы идею читать «Апологию Сократа» на самом первом занятии. Но уже на третьем или четвёртом делать это было немного поздно: группа уплыла от философского берега в океан чистой психотерапии.
4
Описывать, чем именно мы занимались и какие разговоры вели в «Клубе взаимной помощи», пожалуй, не буду: нет места и времени, кроме того, как я успел понять, повествование о работе реальной психотерапевтической группы – особый жанр, требующий, в частности, согласия всех её участников на публикацию. Наконец, такие книги уже написаны до меня, написаны они профессионалами, и выглядят они гораздо умней и талантливей, чем всё, что я, дилетант, почти самозванец в области психологической взаимопомощи, когда-либо сумею об этом написать.
Скажу только, что не всем участникам группы моё начинание пришлось по душе. В числе недовольных предсказуемо был Семён Григорьевич Качинский, бывший дьякон Русской православной церкви, на седьмом десятке лет перешедший в «веру матушки Дорофеи», чтобы после смерти наставницы, увы, обнаружить, что оказался он совсем не там, где надеялся и чаял.
Разговор с Качинским произошёл, если мне не изменяет память, после самой первой групповой встречи: Семён Григорьевич остался, напросившись на чай, и за чаем высказал мне всё своё неудовольствие:
– Я, глупый человек, надеялся на службу, а вы, милейший, уж простите меня, старика, вместо службы устроили какой-то «Цвет ночи», не к ночи будь помянут. Знакома вам эта фильма?
– Н-нет, не припомню…. – уже проговорив это, я, конечно, обнаружил в своей памяти Color of Night, эротический триллер о незадачливом групповом психологе, разучившемся видеть красный цвет, и аппетитные изгибы Джейн Марч, будоражившие моё подростковое воображение. Густо покраснел.
– Вспомнили-таки! – не без удовольствия прокомментировал Качинский краску в моём лице.
– Вы, что же, намекаете на…
– Господь с вами! – замахал руками собеседник. – Удумали тоже! Ни на что такое я не намекаю, грех даже об этом думать, а просто – чувство испанского стыда никогда вас не посещает при просмотре таких киноподелок, милостивый государь вы мой?
– Когда я эту «киноподелку» смотрел в последний раз, а было это что-то четверть века назад, меня посещали совсем другие чувства…
– Понимаю, понимаю… Позвольте совсем по-простому, по рабоче-крестьянски? Люди пришли в магазин за колбасой, а вы им продаёте сыр. Это вам понятно?
– Если они очень голодны, то, знаете, они и от сыра не откажутся… Семён Григорьевич, мы снова возвращаемся к нашему разговору двухмесячной, что ли, давности. Какой из меня иерей? Мы, выжившие…
– Про выживших вы сегодня хорошо сказали! Извините, перебил.
– Спасибо на добром слове. …Мы, выжившие, даже не имеем единой веры, единого набора ценностей в голове. Возьмите вас и, скажем, господина Хвостова (эту прозаическую фамилию носил Аврелий): ведь пропасть, пропасть между вами, и умственная, и поколенческая! Какой общий для всех культ сможет перебросить мост через эту пропасть? Вашу голову занимают вопросы возбранности отхода от материнской церковной традиции, а он думает, где ему зарядить электросамокат!
– Ну, это уж вы слишком…
– Может быть, виноват, стыжусь! Да и ну его к лешему… Нас всех объединяла харизма Дорофеи Аркадьевны…
– «Харисма», я бы сказал, то есть через «С», как дар Божий, а не как политическое качество, – вновь поправили меня.
– Да, это точнее. Но даже и она, мистический гений, не создала никакого единого для всех нас культа. Куда же мне, религиозному середнячку, троечнику, создавать этот культ?
– Но всё же какие-то молитвы мы могли бы читать, Олег Валерьевич? – парировал Качинский. – А не просто слушать про то, как одна сердится на родителей, и целый век будет сердиться, а другой всю ночь снова снились мужчины в разных позах?
– Целый век не будет…
– Ой ли?
– Семён Григорьевич, встречный вопрос: какие молитвы? Какими именно «христианство Маленького принца» располагает молитвами? Что у нас есть, кроме тонюсенькой книжечки учителя нашего покойного учителя, которую люди вроде Мефодьева уже успели заклеймить «антихристианским писанием»?
– А я вот что вам скажу, – не сдавался старик, – пусть каждый из нас в следующий раз принесёт свою самую важную, самую дорогую сердцу молитву! И каждый по очереди её прочитает.
– И что же, выйдет нечто вроде «цветущей сложности» Леонтьева? – усомнился я.
– О, и с Константином Николаевичем знакомы, как приятно! – обрадовался собеседник. – Ну вот, а говорите «середнячок»! Бывали ли, кстати, на его могиле в Гефсиманском Черниговском скиту?
– Нет, не бывал. Знаком почти случайно: в вузе просто слушал, что говорят умные люди, а умные среди наших педагогов тоже попадались… Не боитесь вы, Семён Григорьевич, что в нашей симфонии один будет белому лебедю молиться, а другой – чёрной жабе?
– Уж настолько вы плохого мнения обо всех нас, чтобы подозревать «чёрную жабу»? – ответили мне вопросом на вопрос. – Зачем тогда взялись за нас грешных?
– А мы ведь даже не знаем, была ли Дарья Аркадьевна христианкой! – вдруг ляпнул я.
– Здравствуйте, приехали! – поднял брови Качинский. – Кем же ещё?
– Да кем угодно! Буддисткой, например. Оранжевую-то юбку помните её?
– Шутить изволите…
– Да если бы мне было до шуток… Чтó мы знаем? Рассуждаем, был ли погибший корабль шхуной или бригом, хотя кому это важно, и нам самим меньше всех, а в волнах качаются обломки…
Мы некоторое время грустно посидели. Под конец нашей беседы я пообещал Семёну Григорьевичу предложить группе заканчивать каждую сессию молитвами, если только остальные участники не будут против.
5
Нет, они не были против, хотя идея вызвала лёгкое недоумение и переглядывания между собой. Предложение Семёна Григорьевича (на которого я не преминул сослаться, тем самым будто бы умывая руки) было проголосовано и принято при двух воздержавшихся. Начиная с третьей встречи каждый желающий в конце встречи читал свою молитву. Затрудняюсь сказать, какую именно использовал я сам в своём несколько невнятном качестве руководителя группы (какой группы – религиозной? терапевтической?). Помню, что несколько раз читал одну из молитв Вивекананды: о нём, верней, о сестре Ниведите, мы однажды говорили с Дарьей Аркадьевной, а портрет Ниведиты висел в её «светёлке». В другой раз это было стихотворение Кристины Россетти – в переводе Виктора Топорова на русский оно начинается со строки «Дороги нет ли поровней?». И этот текст в жизни нашего учителя тоже сыграл свою роль… Мужественное стихотворение, и всем, кто хочет поплакаться на сложность жизненных испытаний, стоило бы заучить наизусть его первую строфу – но это уж просто к слову. Всё, что я читал, таким образом оказывалось полностью «ортодоксальным», если только к современному культу может быть применено слово «ортодоксальный». Впрочем, были ли мы ещё «культом»? Разве что последние пять минут в конце каждого собрания.
Отличился не я, а Каролина. На неделе, следующей после введения новой практики, она, когда пришёл её черёд, откашлявшись, прочитала то самое, знаменитое (правда, я этот текст тогда услышал в первый раз):
Я делаю своё дело, а ты делаешь своё.
Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям,
И ты живёшь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим.
Ты – это ты, а я – это я,
И если вдруг мы встретимся, это будет прекрасно.
Если нет, то ничего не поделаешь.
И, обведя группу глазами, хулигански добавила:
– Аминь. Это так называемая гештальт-молитва. Написана Фрицем Перлзом, основателем гештальт-психологии. Учитывая, что мы сами не знаем, кто мы – группа взаимной помощи или братья по вере, – думаю, она нам подходит просто отлично. У кого-то есть вопросы?
Вопросов не было, хотя Качинский и пробовал мне что-то высказать по поводу «выходки» Каролины в частном порядке. Я только развёл руками:
– Семён Григорьевич, вы сами этого хотели! Давайте пожинать плоды. Цветущая сложность цветёт и растёт, как ей хочется, она не бывает прямоугольной, ровно подстриженной и окрашенной в единообразный зелёный цвет.
Стоит сказать, что в следующий раз Кэри пожалела наши нервы, прочитав нам что-то из Джебрана Халиля Джебрана, арабского философа и поэта начала прошлого века. Есть в этой девушке нечто неуловимо ближневосточное… Ливанский мудрец Семёну Григорьевичу, полагаю, тоже пришёлся против шерсти. Уж извините, мой драгоценный.
6
Вообще, с Каролиной творилось что-то, что я понимал очень плохо, да и с нашими «отношениями» тоже, если только слово «отношения» пригодно для причудливой дружбы без малого сорокалетнего дядьки и без малого семнадцатилетнего – подростка? девушки?
Ещё в августе она рассказывала мне, что хотела бы стать женщиной – духовным лидером. Но только в православии ей этот путь закрыт – да, наглядевшись на православных «друзей», не больно-то, конечно, и хотелось! Прекрасная альтернатива – Англиканская церковь: в ней-де давно уже есть женское священство. Но вот беда: в России карьерных перспектив для такой священницы после её рукоположения почти не просматривается, особенно с нашей нарастающей англофобией. Другим вариантом был бы буддизм, в котором женщинам путь в священство тоже как будто не заказан. Девушка уже навела справки и узнала – новое огорчение! – что в Агинской буддийской академии на философский факультет женщин не принимают! Остаются ещё два, кажется, иконописный и медицинский, только вот они не вызывают у неё большого интереса…
Я слушал и не мог понять: неужели всё говорится всерьёз? А верилось в её серьёзность легко: голос звучал убеждённостью, глаза горели… Самым разумным, что я мог сделать – и делал раз от разу, – было не противоречить, а осторожно соглашаться, при этом приводя практические соображения и уводя обсуждение в область жизненных сложностей. Например, Агинская академия – прекрасный выбор, но неужели она действительно готова семь лет прожить в посёлке Агинском? Смею надеяться, что мои терпеливые, вежливые и взрослые рассуждения хотя бы отчасти способствовали тому, чтобы очередная полубезумная идея через полмесяца или месяц теряла для девушки свою привлекательность.
С «духовным лидерством» именно так и случилось: с концом августа образ женщины-священницы померк, а на торжественное место в голове Каролины воссел образ женщины-психолога. (Началось всё, понятное дело, с гештальт-молитвы. Мы съели эту провокацию, если она была именно провокацией, не поморщившись, и долгое время девушка группу больше ничем не провоцировала.) Ещё верных три недели мне пришлось слушать про то, какое важное служение исполняют психотерапевты и как ей приятно думать о себе как о будущем «специалисте». Вот ведь и мне самому не поздно переучиться на психолога, разве нет? Что такое сорок лет? Пустяк! В сорок лет жизнь только начинается!
(Справедливости ради скажу, что именно Каролина нашла для меня несколько книжек по групповой психотерапии – без них я бы, пожалуй, в ходе наших сессий был совсем бесполезен в качестве руководителя, просто бы беспомощно лупал глазами. Спасибо ей большое!)
Не помню, отчего для неё угас и этот идеал, но и ему пришла пора померкнуть. (Впрочем, девушка продолжила посещать групповые занятия.) В течение осени её успели посетить желания стать
– фотографом,
– великим писателем,
– политиком (причём по возможности главой целого государства, пусть даже маленького).
Я потратил отдельный длинный вечер на то, чтобы подробно и аргументированно поговорить с ней о ничтожности суверенитета всех маленьких и крохотных государств в наше время и о том, как руководство государством без полномасштабной и тщательной подготовки к этому труду скатывается в печальную и кровавую клоунаду (благо за примерами далеко ходить не нужно: пример соседней страны ещё долго будет у всех нас стоять перед глазами).
Карлуша услышала мою «проповедь» – но эта проповедь возымела неожиданное и ужаснувшее меня последствие: девушка загорелась и почти две недели горела желанием отправиться на фронт! Причём не медсестрой, а как бы не рядовым бойцом. Если нужно – и сложить на фронте голову. Да уж, большое спасибо за плоды моего политического просвещения сказали бы мне тогда её родители…
Вся имеющаяся деликатность и всё наличное терпение потребовались мне, чтобы вслух вместе с ней взвесить эту идею, поглядеть на неё со всех сторон и признать, конечно, возвышенной, благородной, пылкой, но юридически невозможной хотя бы до её совершеннолетия. (А там, Бог даст, и СВО закончится, ведь верно?)
Желание стать женщиной-самураем, как и прочие, в итоге угасло, но девушка расставалась с ним тяжело, с мрачным лицом, без своей обычной иронии, шалостей и фантазий.
– Я трусиха, трусиха, самая обычная трусиха! – призналась она мне. – Я позволила тебе меня убедить, потому что и сама ведь немного боюсь… День или два не боялась, а после начала. Вот и киваю, поддакиваю тебе, что «рано». Как же в ту войну девочкам моего возраста воевать было не рано, а в эту мне якобы «рано»? Какой стыд, какой позор!
(Пометка для читателя: в тот момент у неё сказалось именно «тебе», не «вам». Этим «тебе» она меня осенью дарила нечасто.)
– Так ведь и я, если такой меркой мерить, тем более должен быть на фронте, – трезво заметил рассказчик. – Почему же в моём случае это не стыд и позор?
Каролина смерила меня долгим взглядом, тяжело вздохнула и ничего не ответила. Тему своей «военной карьеры» при мне она больше не поднимала.
7
Мы виделись почти каждую неделю во время групповых встреч «Клуба взаимной помощи» (почти, потому что иногда девушка всё же их пропускала). Раз или другой в месяц мы выбирались на совместную прогулку: всегда по её инициативе и никогда – по моей. (Причины моей сдержанности, наверное, объяснять не нужно?)
Списывались и созванивались мы, правда, чаще, чем виделись вживую, едва ли не через каждые два дня на третий. Для Кэри в порядке вещей было, к примеру, прислать мне в половине двенадцатого вечера какую-нибудь политическую новость вместе с возмущённой ремаркой вроде:
Дядя Олег, они там вообще обалдели?!!
Количество восклицательных знаков в таких её «снарядах» равнялось степени возмущения. Опять же, заметьте, «дядя Олег»: полудетское обращение, от которого она в своём «рубежном» письме сама торжественно отказалась, потому что какой же я ей дядя? Выходило: вполне себе, оказывается, пригодный эрзац-родственник. (Досадно!)
О чувствах мы не говорили: для этого не появлялось никакого повода. Девушка всем своим поведением давала мне понять, что считает меня близким, даже самым близким другом, старшим товарищем, отчасти инструктором в житейских премудростях, и только – словно и не было ничего, не было её июньского письма с трогательным вопросом-просьбой «дождаться». А я, разумеется, готов был дождаться, я решил для себя именно дождаться, если, пользуясь её же выражением, за это время не произойдёт «ничего ужасного»! (А и легко может произойти: появится на горизонте молодой красавчик с мрачно-загадочным взглядом Роберта Паттинсона, и до свиданья, дядя Олег, спасибо за знакомство!) Может быть, зря решил, да и вообще в моём возрасте глубоко неуместны такие решения?
Поговорить об этом, верней, даже начать разговор об этом не было никакой возможности, мне – из стыдливости, ей… ей, вероятно, по той же самой причине.
Друг к другу мы по-прежнему обращались на «вы», которое со стороны Каролины редко, до невозможности редко и будто бы нечаянно слетало на «ты». Я сам сбивался на «ты» чаще – и то, в адрес юного, иногда даже по-детски ребячливого человека «ты» выговаривается проще. Девушка делала вид, что не замечает моих оговорок, а на мои вопросы, порой настойчивые, о том, как же ей больше нравится, чтобы я к ней обращался, только пожимала плечами.
8
Хоть мне давали понять, что видят во мне только старшего друга, для внешнего мира, включая родителей Каролины, это было, похоже, не совсем так. Девушка и сама охотно поддерживала альтернативный взгляд: видимо, я должен был смириться с существованием двух версий того, как можно и нужно описывать наши отношения, одной – для внутреннего пользования, и другой – на экспорт.
Как-то раз, когда мы задержались за просмотром фильма, я обеспокоился, не хватятся ли её дома. Кэри только недовольно дёрнула головой:
– Всё в порядке, – кратко ответила она. – Я скажу, что задержалась у Олега.
– «Дяди Олега», то есть?
Она только фыркнула:
– Вот ещё! Только «дяди» мне не хватало! Я давно уже им сказала, что у меня появился этот самый… – она сделала рукой пренебрежительно-неопределённое движение в воздухе. – Ну, который жрёт уши. Вспомнила, «ухажёр» по-бумерски! Правильно?
– А что ещё твои, извините, ваши родители знают про «Олега, который жрёт уши»? – осторожно поинтересовался я.
– Ля маман знает, – поправила меня Карлуша. – Лё папан это как-то глубоко безразлично. Ну, не так уж и много: то, что он закончил вуз, работает, живёт один, немного меня старше…
– Не то чтобы совсем неправда, но… чёрт побери, «немного» старше?!
– А что ты… то есть вы хотели бы, чтобы я ей сказала? – возмутилась Кэри в ответ. – Ваш настоящий возраст? Чтобы завтра под окнами стояла полиция с мигалками?!
Мы оба посмотрели друг на друга, и каждый, наверное, подумал о том же самом: рано или поздно «ухажёра Олега» возможно, всё же придётся предъявить маме. Как это сделать, чтобы маму не хватил удар? Большой вопрос… Впрочем, я не знаю, о чём подумала девушка, сидящая рядом со мной на диване. Эта девушка только вздохнула, а мыслями не поделилась…
В другой раз мы задержались на прогулке за городом – день, как назло, был погожим, не по-октябрьски ясным и тёплым. Мы увлеклись разговором о политических судьбах Церкви в России и за рубежом (да, вот такие разговоры мы вели!) и спохватились лишь в начале одиннадцатого.
Каролина, нахмурясь, стала вызванивать маму со своего телефона. После первых её слов в трубку я набрался мужества, шёпотом попросил передать телефон мне и, стараясь звучать помоложавее, убрав из голоса басовый регистр, охотно покаялся: извините, вина полностью моя, но повинную голову и меч не сечёт, привезу Карлушу домой через полчаса в лучшем виде. Недовольные нотки в голосе собеседницы сменились более дружелюбными, и попрощались мы самым приветливым образом. Как мне передали потом, Ирина Константиновна была очарована моей «старомодной галантностью». Так состоялось наше с ней заочное знакомство.
Через два месяца произошло и очное, и совпало оно с днём рождения Каролины: в декабре ей исполнялось семнадцать.
За неделю я обеспокоился вопросом подарка и, найдя подходящую минутку – девушка задержалась у меня дома после групповой «сессии», – спросил, что же ей подарить. Карлуша недовольно, быстро взмахнула головой:
– Ничего не надо мне дарить, ничегошеньки! И спрашивать даже не нужно! Мы не в таких отношениях…
– Хорошо, хорошо, как скажете… А… в каких мы, кстати, отношениях? – осведомился я как можно невинней.
Вопрос этот застал её врасплох. Девушка даже открыла рот и несколько мгновений бесцеремонно так и стояла. Пробормотала наконец, глупо улыбаясь:
– Говорят, что у любого сорокалетнего мужчины на каждый случай жизни есть анекдот. Я хоть и не сорокалетний мужчина, но у меня тоже есть парочка. «Тяжёлый день был сегодня», – говорит один психолог другому. Другой отвечает: «Ты хочешь об этом поговорить?» Так вы… хотите об этом поговорить?
Я кивнул. Мы сели друг напротив друга, разделённые кухонным столом. Сели и глядели друг на друга, ничего не говоря, верных полминуты.
– Я ведь хорошо помню то твоё письмо, – как-то сказалось у меня.
– Да? – выдохнула она. И призналась, очень тихо: – А я думала, ты про него забыл…
И ещё мы сидели, и Каролина начала приметно краснеть. Наконец, признавшись, что не может сейчас говорить об этом, вообще ни о чём не может говорить, она выбежала из квартиры.
Через пару минут мне на телефон пришло короткое сообщение.
Цветы. Пусть будут цветы, этого достаточно. Но в следующий четверг приходи к нам домой обязательно!
9
Устиновы жили на четвёртом, последнем этаже в современном доме почти что в центре города (я, напомню читателю, живу на восьмом в типовой многоэтажке, двор которой украшает только лиственница, однажды посаженная Дарьей Аркадьевной). Металлическую калитку на заборе вокруг их дома украшал не просто домофон, а целый видеофон. Я прикрылся огромным букетом белых роз. Поднимаясь по лестнице, я остро ощущал и свою обветшалость для ухаживания за молодыми красивыми девушками, и своё, так сказать, социальное плебейство.
Улыбка Ирины Константиновны, вместе с виновницей торжества вышедшей встречать меня в коридор, медленно сползла с лица, когда из-за букета показался несчастный «Олег-жрущий-уши», ровесник или почти ровесник мамы своей невесты.
Я пробормотал что-то маловразумительное. Каролина первая нарушила установившееся молчание громкой и прямой репликой:
– Мама, не надо делать такое лицо, как будто мой жених – это старый одноногий негр или жирная американская лесбиянка1! Олег, как мило! Пойду поставлю в вазу.
Мама, однако, не была вдохновлена дочкиной мыслью о том, что всё могло быть ещё хуже. Шёпотом она уточнила моё отчество, а после попросила меня пройти в соседнюю комнату.
Оказавшись с ней наедине, я поторопился произнести:
– Ирина Константиновна, я понимаю, как это выглядит, то есть может выглядеть, но хочу вас уверить, что наши отношения с Каролиной, если вообще использовать такое торжественное и весомое слово, как «отношения», – чисто платонические, и что до самого…
– О, ещё бы! – фыркнула она, этим на секунду напомнив Кэри. – Ещё бы он сказал что-то другое! Не подумайте, Олег Валерьевич, я прогрессивная женщина, я понимаю, что мир не стоит на месте. Но вы посудите сами! Если бы у вас была своя дочь, она была бы сейчас примерно того же возраста!
– У меня действительно была дочь, – признался я. – Сейчас она была бы помладше, конечно…
Сослагательное наклонение не укрылось от моей собеседницы, которая спросила лаконично и точно:
– Была бы – почему?
– Потому, что для своих родителей она навеки останется пятилетней… Мы, собственно, и с женой-то развелись потому, что не преодолели этой утраты, верней, преодолевали её по-разному и… и, в общем, слишком по-разному. Звучит, наверное, по-детски…
– Нет, не по-детски. Извините, я не знала. Возможно, вы всё же лучше, чем я о вас совсем недавно подумала…
Мне пришлось дать полный отчёт и в моей семейной ситуации, и в подробностях развода, и в том, чем зарабатываю на жизнь. От меня также попросили пообещать, что наши с Каролиной отношения останутся полностью платоническими по крайней мере до её совершеннолетия – и, конечно, я пообещал с лёгким сердцем. Ирина Константиновна только вздохнула:
– Дура я, дура, что беру у вас это обещание! Как будто кого и когда такие обещания останавливали…
– Я, разумеется, собираюсь его исполнять!
– А я и не про вас совсем: мне тоже было семнадцать лет… Как будто кто-то сможет сдержать эту… кобылицу! Олег Валерьевич, я не должна этого говорить о дочери, особенно за глаза, и особенно, наверное, вам, но ведь с ней последнее время нет никакого сладу! Вы заметили, как она изменилась за полгода? Мы с вами – мы ведь в её возрасте не были такими?
– Заметил, да, но…
– Но?
– …Но все те буйные идеи, которые в ней сейчас бушуют, – это возвышенные, благородные идеи, пусть и очень преувеличенные. Мы не были такими, наверное, потому, что взрослели в более суровое время, и это время все наши порывы немного приплющило, огрубило…
– Ах, вы так гладко говорите, и, конечно, материнскому сердцу хочется верить, но полностью-то не верится… А я ведь ещё ничего не рассказала о вас, то есть о вашем возрасте, Михаилу Сергеевичу – как-то он воспримет?
На этом месте Кэри просунула в дверь свою любопытную голову:
– Мама, долго вы ещё? Что это ты устроила за допрос с пристрастием? Олег – мой гость, а не твой!
– Карлуша, не говори глупостей – и поставь себя, пожалуйста, на моё место!
– Вот, снова, ещё и «Карлуша»… Каркуша! Карлик-Нос, Карловы Вары… Я не замуж ещё за него выхожу, чтобы держать его двадцать минут взаперти!
– Уйди, уйди, ради Бога! – замахала мать на неё руками. – Мы ещё не закончили!
Но мы, как выяснилось, почти и закончили. После нас ждал чай с тортом и несколько неловкая беседа, в течение которой каждый пытался найти верный общий тон, этакая групповая психотерапевтическая сессия в миниатюре. Ничего, обошлось без ужасных ляпов и без зловещего молчания. Всё хорошо, а лучше всего то, что любые такие мероприятия однажды кончаются.
Поздним вечером Кэри «обрадовала» меня коротким сообщением:
Ты произвёл на маму прекрасное впечатление, хоть она в этом и не признается. Настолько прекрасное, что я даже слегка разочарована.
Вот, всё ей не так… Я нашёл в себе мужество уточнить: «Чем именно разочарована?» На это мне ответили:
Да всем… Подарком, например.
Неожиданно, правда?
«Наверное, я должен был тебе всё-таки подарить фотоаппарат- “зеркалку”, не зря ты о нём весь месяц твердила…» – шутливо покаялся я.
Нет, нет, нет! Ни в коем случае! На фотоаппарат я накоплю сама, я не чья-нибудь содержанка. Зря написала, дурно с моей стороны. Дядя Олег, не берите в голову!
Вот, снова «вы» и «дядя»…
И сразу после меня наградили ещё одним:
Розы – прекрасный подарок. Они меня тронули. Но в цветах есть доля предсказуемости, буржуазной банальности. А я хотела… Бог знает, чего я вообще хотела и хочу. Я хочу несбыточного, я хочу подвига, я хочу открытия тайн…
Прочитав последнее, я только вздохнул. Как отвечать на такое? Связался, что называется, чёрт с младенцем…
10
Первая суббота января 2024-го выпадала на православный сочельник. Тем не менее, мы решили провести встречу «Клуба взаимной помощи» – в обычное время, пять часов вечера.
Когда все заняли свои места, я по обыкновению спросил, у кого сегодня имеется что-то важное и кто сегодня претендует на какую-то часть общего внимания.
– Начну я, – объявила Дина, моя ровесница, – но мне потребуется пять минут, не больше. На следующем собрании меня не будет. Я уезжаю в Крым на полгода. Или навсегда, как получится.
Аврелий, оживившись, засы́пал её вопросами. Дина отвечала неохотно: она уже удалялась от нас, уже мысленно была в своём Крыму. Призналась, наконец, делая усилие над собой, с некоторым нарочитым холодком в голосе:
– Мне жаль прощаться, и я вам всем благодарна, но одновременно я рада, что переезжаю. Я, как вы знаете, долго чувствовала себя не полностью здоровой – Дарья Аркадьевна меня вытащила из пропасти, как, наверное, и не одну меня. Чтобы отойти от края пропасти, я и посещала занятия. Кажется, отошла – боюсь сглазить. Теперь оставаться в Клубе для меня – это вспоминать, какой я была раньше. Я не хочу этих воспоминаний. Простите.
– Можно было бы и других оттаскивать от края пропасти, Дина Евгеньевна, – заметила Кэри тихо и не по-юношески мудро. Дина слабо улыбнулась:
– Можно… Я женщина, а не трактор. Простите ещё раз.
На этом месте я взял слово и сказал всё, что руководителю группы полагается говорить в таких случаях, то есть что это – смелое решение, которое мы все, конечно, только поддерживаем; что наши двери, если это понадобится, будут для неё всегда открыты. «Группу надо расширять, приглашать новых участников, если мы хотим её сохранить! – думалось мне, пока я почти механически проговаривал нужные слова. – А хотим ли? С этими людьми я связан общей судьбой, а с теми – буду ли? Этих я обязан “накормить сыром”, за неимением у меня колбасы, по меткому выражению Качинского, а на других хватит ли ещё у меня сыра? Эти люди, пережившие кораблекрушение вместе со мной, не имеют вопросов к моей квалификации самозваного психолога, а другие разве не зададут таких вопросов?»
Мои мысли прервала Юля Уточкина, тихая, скромная девушка, сдержанная в одежде, пропорционально сложенная, даже почти симпатичная, но слишком бесцветная, чтобы быть по-настоящему красивой. Во время сессий она слушала других внимательно, и мне хотелось верить, что это слушание для неё, юного человека, оказывалось не без пользы, но говорила меньше всех. Сейчас она вдруг начала:
– Если у Дины – всё, то и я тоже скажу пару слов. Я этим не злоупотребляю; видит Бог, мне и сейчас нелегко. Я… кажется, влюбилась – а может быть, полюбила. Не знаю этих оттенков: мне негде было узнать и не у кого спросить. Нет, нет, не поздравляйте меня! Я думаю, что это чувство, скорей всего, будет безответным. Шансов у меня очень мало, если вообще они есть, эти шансы. Вот поэтому… знаю, одно не вяжется с другим, но… вот поэтому меня, скорей всего, тоже не будет на следующем занятии.
Да, одно с другим действительно никак не вязалось!
Аврелий, снова оживившийся, фактически взял мою работу на себя, задавая Юле всё нужные и правильные вопросы, а именно:
– Что ей мешает прийти в следующий раз?
– Почему она считает свои шансы ничтожными?
– Знает ли она, что группа существует как раз для таких случаев – ситуаций, с которыми человек не может справиться самостоятельно?
– Отчего Юля не хочет быть более откровенной, и отчего она нарушает один из трёх главных принципов группы, а именно принцип открытости?
Вообще, про участие Аврелия в Клубе стоит сказать особо. Чисто внешне он вписался в групповую психотерапевтическую работу просто идеально: он сразу понял правила игры, он говорил активно и искренне, вёл себя дружелюбно и терапевтично. И при этом сам для себя он, казалось мне, не извлекал из работы группы никакой пользы (да и другим, возможно, её почти не приносил). Авель (его второе имечко) был слишком похож на гуся из поговорки, с которого стекает любая вода. Никакие «человеческие, слишком человеческие» чувства в нём не только не задерживались, а словно даже не появлялись. Гнев, раздражение, обида? Увольте: зачем гнев, раздражение, обида, когда все люди – братья друг другу и все должны быть счастливы, как он понял благодаря наставлениям «матушки Дорофеи», но на самом деле намного, намного раньше? Зависть, ревность? Чему завидовать, ради чего ревновать? Муки неразделённой любви? Не слышал о таком… (А возможно, и влюблён-то по-настоящему ни разу не был.) Аврелий напоминал коралловый риф с огромными дырами, через которые маленькая рыбка любого чувства или душевного состояния могла проплыть в любом направлении, не встречая препятствий. Бог знает, что делать с такими людьми…
Юля на все вопросы Аврелия только качала головой, отделываясь короткими фразами. На последний вопрос она и вовсе ничего не ответила, а только подняла взгляд и уставилась ему прямо в глаза, словно говоря: «Господи, какой же ты… какой же ты дурак!» – так что и наш невинный юноша, созданный для счастья, как птица для полёта, наконец смутился.
(Кстати, в скобках: всегда меня, ещё в школе, смущал этот лозунг Короленко о естественности счастья для человека, который школьные учителя литературы ничтоже сумняшеся преподносят своей юной пастве как святую истину. О Короленко мы, помнится, однажды, говорили и с Семёном Григорьевичем. Качинский не только согласился с моим сомнением, но высказал вот какую лаконичную мудрость: «Земля есть великая школа, и для большинства – школа страданий». По его словам, не сам он дошёл до этой мудрости, а услышал её от Дарьи Аркадьевны. Может быть, люди вроде Аврелия, вместо того чтобы учиться в этой школе, просто режутся в «дурачка» на задней парте? Впрочем, не хочу никого судить: не моего ума дело, и не мой он, к счастью, ученик!)
Долго ли, коротко ли, но Юля наотрез отказалась говорить о случившемся с ней больше, чем уже сказала. После этого встреча и вовсе пошла наперекосяк. Слова попросил Качинский и начал долго, пространно – хотя откровенно, разумеется, – рассуждать о том, что сегодня, в сочельник, он всё же пойдёт на службу в храм, и какой именно храм, что бы мы думали? – в православный!, ведь «христианство Маленького принца» не предложило, увы ему и ах, не предложило никакой службы взамен («…А могло бы, Олег Валерьевич, могло бы!»), и что это посещение храма уже заранее вызывает в нём противоречивые, почти шизофренические чувства («Ведь так это называется языком психологии?»). И что, спрашивается, ему делать с этим душевным расколом?
Я сочувствовал старику всей душой и ввязался с ним в беседу, но вскоре обнаружил, что никому, кроме нас двоих – да вот ещё Кэри, пожалуй, – эта беседа по-настоящему не интересна. Аврелий, конечно, сидел с лицом, изображающим дружелюбное внимание, и поочерёдно, словно локатор, поворачивался к каждому из двух собеседников, но это ведь в ходе работы группы было его обычное, так сказать, служебное лицо…
Худо-бедно я добрался до какой-то логической точки, а после провёл пятиминутную дыхательную методику, вычитанную мной в пособии по телесно-ориентированной терапии (название учебника, увы, уже запамятовал). После каждый, как было у нас заведено, прочитал свою молитву.
Юля продолжила в тот вечер нас удивлять: вместо молитвы она припасла блоковское «Девушка пела в церковном хоре». Читала она его без всякого внешнего выражения, ровно, холодно, отчётливо, и её голос – вместе с содержанием, конечно! – производил жуткое впечатление.
Качинский на последних двух строчках беспокойно заёрзал на месте и откашлялся.
– Я знаю, что вы хотите сказать, Семён Григорьевич, – озвучил я его мысли, бывшие, конечно, и моими мыслями тоже. – Это стихотворение финальностью своей безнадёжности не только не создаёт молитвенного настроя, но как бы является антимолитвой. В пространстве именно религиозной общины оно было бы бестактно и глубоко неуместно. Правда. Согласен. Но ведь и мы – не вполне религиозная община. Мы – пережившие общую утрату «товарищи по земному несчастью». Поэтому позволим ему быть тоже.
Качинский только развёл руками, беззащитно улыбаясь:
– Да, конечно, позволим! Я просто не хотел заканчивать на этой ноте, и ещё в такой день! Я не хотел и не хочу, чтобы «Никто не придёт назад» повисло в воздухе.
Глаза Кэри, неотрывно наблюдавшей за Юлей, были полны слёз, что для меня оказалось неожиданностью и глубоко тронуло. Вот, подвинув свой стул ближе к своей ровеснице, она заговорила:
– Я не хотела сегодня ничего читать, но последней строчке из Блока действительно нельзя позволять висеть в воздухе. Юля, всё будет так, как пела девушка из хора: все корабли прибудут в свою гавань, все усталые люди найдут новую жизнь. А ребёнок – мало ли о чём плакал ребёнок? Может быть, у него просто отняли игрушку! У меня тоже есть молитва – буквально восемь строчек из одного… одного очень глупого человека, когда дело доходило до политики, но стихи писать он умел, этого у него не отнимешь. По-английски – можно? Просто его никто не перевёл на русский как следует – боюсь, уже и не переведёт.
И ясным, звонким голосом она прочитала две заключительные строфы из начала «Памяти А. Г. Х.» Теннисона:
Forgive my grief for one removed,
The creature whom I found so fair:
I trust he lives in Thee, and there
I find him worthier to be loved.
Forgive these wild and wandering cries,
Confusions of a wasted youth,
Forgive them, when they fail in truth,
And in Thy wisdom make me wise.2
Я знаю английский не настолько, чтобы на слух ловить все оттенки смыслов духовной поэзии XIX века – но сам звук её голоса как будто уже нёс в себе утешение, веру и надежду. После, попросив у Кэри прозаический перевод, я обнаружил, что моя догадка о смыслах была верной. Как ко двору пришлось это стихотворение, как точно оно сказало о «диких криках смятенной юности», с которыми ничего не сделать, кроме как простить их! Как повзрослела Каролина за эти полгода!
Подсев к любительнице Блока ещё ближе и взяв её безвольно висящую руку в свою, глядя на неё, Кэри произнесла:
– Юля, я уверена, что ты должна ему признаться! Иначе так всю жизнь и будешь жалеть.
Юля вернула ей взгляд – очень смешанный, очень сложный. Я не мастер читать чужие чувства по глазам, но этот взгляд, возможно, не расшифровал бы ни один человекознатец.
Мне ничего не оставалось, как объявить встречу законченной. Будет ли новая?
11
Вечером следующего, рождественского дня – я как раз вернулся домой после долгой прогулки с Кэри – мой телефон прожужжал коротким сообщением. Юля Уточкина. (Невероятно! За всё время моего знакомства с ней Юля написала мне лично, кажется, только один раз, двумя словами подтвердив, что придёт на учредительное собрание религиозной группы. Этот раз был вторым.) Юля спрашивала меня, буду ли я дома вечером, можно ли ей зайти ко мне домой на несколько минут. Да уж! Последние времена настали…
Примерно через час после своего сообщения она прибыла и сама, сдержанная, молчаливая.
В моей комнате с началом работы Клуба появились три дополнительных стула, которые я штабелировал в углу комнаты. Юля вынула из штабеля два стула, будто готовилась к очередной сессии. Выставила их друг напротив друга. Села на один, таким образом приглашая меня сесть на второй.
Заняв места, мы смотрели друг на друга верную минуту.
В одном из пособий по психотерапии говорится, что торопить клиента не нужно. Если ему требуется молчать, пусть молчит, сколько его душе угодно. Само молчание – разговор. Возможно… Но я – не профессиональный психолог, а всего лишь любитель, дилетант, некто, «открывший сырную лавку» просто потому, что больше некому было её открыть. И оттого я не выдержал, спросив наконец:
– Вы хотели обсудить вчерашнее?
Юля кивнула.
– Мне не нужно было вчера читать Блока, – заговорила она. – Глупо, нехорошо, эгоистично, и совершенно справедливо ваша Каролинка меня пристыдила.
– Никто вас не стыдил, и почему «моя»? О, как вы ошибаетесь!
– А вы догадались, как связана моя влюблённость и мой выход из группы? – Юля бросила старую тему как ненужную тряпку, будто всё, что стоило о ней сказать, мы уже сказали (да так оно и было, пожалуй).
– Всё же выход, именно выход? – огорчился я. – Даже не пауза? Нет, не догадался. И действительно, почему? Ума не приложу!
– А сейчас – догадаетесь?
И снова девушка замолчала, и снова мы глядели прямо друг другу в глаза.
Да, я тугодум, Поздеев, о чём уже много, много раз говорил. Мне потребовалась ещё целая минута, чтобы догадаться. Увидев по моим глазам, что это произошло, Юля еле заметно кивнула.
– Вы оба очень тщательно прячете волны любви, которые от вас исходят, – продолжила она. – Так, что многие и не заметят. Но я, конечно, заметила. Знаете, я сначала влюбилась не в вас, а в само чувство любви, в то, что так тоже бывает. Может быть, из зависти. Дурное чувство, я знаю, но что уж поделать. Хотела бы я быть такой же пустоголовой, как Авель, чтобы ничего этого не знать!
– Я не заслуживаю, – только и сумел пробормотать я.
– А я понимаю! – ответила мне Юля очень спокойно и даже слегка безжалостно. («Вот уж спасибо, мил-человек!») – Понимаю умом, но что поделать? Знаете, в моей влюблённости – огромная доля… несправедливости, то есть возмущения несправедливостью. Что-то во мне кричит: «Я тоже хочу!» и «Почему одним – всё, а другим – ничего?» Тот самый дикий крик бездарной юности. Ведь я бездарна! И как человек я бездарна, нет во мне никаких особых талантов, и как девушка – тоже бездарна. Скажете, не так? Что насчёт полной искренности – первого принципа Клуба?
– Ничего об этом не скажу, но то, о чём вы говорите, – не приговор, Юля! Мы способны развить в себе все таланты, включая и этот.
– Спасибо! Но сейчас-то, прямо сейчас, что мне делать? Есть у вас ответ?
Разумеется, у меня не было ответа. У меня были только дежурные слова о моей благодарности за её честность; о том, что жизнь после безответного чувства не кончается; о том, что любой эмоциональный опыт нас обогащает; о том, что она ещё так молода, и у неё впереди – ещё так много славного; о том, что группа всегда будет готова её поддержать. Юля, выслушав это всё, улыбнулась одними губами, словно говоря: «Не стоило труда», и поднялась. В прихожей мы с ней попрощались – возможно, навсегда.
С уходом Дины и Юли в Клубе оставалось, кроме меня, ровно три участника, один из которых сетовал на то, что его заставили есть сыр вместо колбасы, а другой, что бы с ним ни случилось, и без того парил на крыльях внутреннего счастья. (Пустоголового счастья? Повторюсь, пусть об этом судят другие, а не я.) Осознав это, я написал оставшимся большое, подробное письмо с изложением своих мотивов и предложил группе взять полугодичную паузу в работе. Ещё честнее было бы прямо объявить о роспуске, но что-то мне не дало так поступить – может быть, банальное малодушие. Моё предложение было проголосовано и одобрено большинством при одном воздержавшемся.
12
Ближе к концу января подошло время и моего дня рождения. По общей традиции, вернее, по какому-то непонятному суеверию сорок лет «не отмечают». Пользуясь именно этим суеверием, я настойчиво попросил Кэри не дарить мне никаких подарков. Какие, спрашивается, мне, работающему человеку, она, школьница, могла подарить подарки?
У Каролины, похоже, были свои соображения на этот счёт…
Утром памятного дня (так совпало, что он пришёлся на выходной) Кэри позвонила мне и после приличествующих поздравлений объявила, что, дескать, меня будут сегодня рады видеть оба её родителя!
Сомнительный подарок, конечно. Но, если я всерьёз строил планы на будущее с этой девушкой, большого разговора было не избежать. В несколько мрачном настроении я поднимался по знакомой лестнице, запасясь маленьким, лаконичным букетиком, за которым в этот раз при звонке в видеофон даже не попытался скрыться.
Каролина встретила меня в приталенном, расширяющемся книзу, лёгком летнем платье, которое я уже однажды видел на ней: именно в этом платье она как-то летом поспешила мне на помощь, когда моя бывшая жена явилась ко мне домой, чтобы, так сказать, вправить мне мозги. Читайте эту историю в предыдущем романе.
– Это – мне? Как мило!
– А где родители?
– Обманула, обманула! – засмеялась девушка и весело захлопала в ладоши. – Их не будет до вечера.
– Не то чтобы я против… но зачем?!
– Да ты бы иначе не приехал!
– Само собой! – подтвердил я. – И ты знаешь, почему.
– Нет, не знаю, даже не догадываюсь… Ты боишься меня так, словно я кусаюсь!
Бестрепетно взяв меня за руку, Кэри повела меня по квартире: «делать экскурсию». Долго ли, коротко ли, но мы оказались и в её девичьей комнатке, где ей пришла в голову шальная мысль: непременно показать мне свои детские фотографии! Я пытался отнекаться:
– Не нужно, спасибо!
– Нет, тебе будет очень, очень интересно, я гарантирую…
Никакого альбома, однако, не было: родители девушки относились к её фотографиям несколько небрежно, просто складывая их в картонную коробку. Коробка стояла на высоком платяном шкафу. Чтобы достать её, Кэри поставила рядом со шкафом стул – вращающийся, фортепьянный, с регулируемой высотой.
– Дай-ка я сам её сниму, – предложил я: стул не вызывал доверия.
– Нет, ты не понимаешь: снять коробку могу только я! Так полагается! Но ты тоже можешь сделать доброе дело: держи меня пожалуйста, за талию, а не то я проще простого навернусь отсюда. Фу, сколько пыли! Держи меня крепче, не то… А-а!
(Пояснение. Обо всём, что произошло дальше, мне писать отчасти неловко, и я, видит Бог, обошёлся бы без этого фрагмента – просто намекнул бы на произошедшее в двух словах. Помешала этому сама Каролина. Она знает, что я пишу новый роман, и возмутилась моей готовности к самоцензуре. По её словам, всё дальнейшее – важная часть, которую нельзя выкидывать из повествования. Ей виднее…)
Кэри, конечно, начала падать – не могу сказать, с умыслом или нечаянно. Разумеется, я её удержал. Само собой, она оказалась в моих объятиях.
Опустим то, что происходило дальше. Достаточно будет пояснить, что мы остановились – главным образом по моей инициативе – в двух шагах от непоправимого поступка.
Девушка оправила платье, тяжело дыша. Присела на злосчастный стульчик. Мне тоже пришлось присесть: на кровать, в которой мы пару секунд назад едва не очутились (я мог бы этого и не говорить, конечно: воистину, я вполне могу побороться за звание Капитана Очевидность).
– Я ничего не понимаю, – заговорила она. – Я, что, действительно Карлик-Нос, как меня дразнили в детстве? Или маленькая ведьма Аннабель, в волосах которой копошатся жуки и гусеницы?
– Откуда ты зна… Ах, да, я же сам… – я вспомнил, что в досужую минуту, когда Кэри заинтересовалась моим детством, сам показал ей детскую книжку про немецкую ведьмочку и, перелистав страницы с красочными картинками, сам рассказал содержание.
– Сам, сам! Что, я действительно – именно она?
– Кэри, милая, я в первую очередь не хочу нарушать слова, которое я дал…
– Кому?
– Самому себе, если хочешь, – извернулся я. – Одни и те же вещи очень по-разному видятся в семнадцать лет и в сорок…
– Неправда! Самые важные вещи в любом возрасте выглядят одинаково!
– Наверное, но вот это всё точно не входит в категорию самых важных… Может быть, ты помнишь своё письмо, своё замечательное, трогательное письмо…
– Ещё бы!
– …В котором ты сама, сама писала мне: «До моего совершеннолетия – ещё полтора года», и сама просила меня дождаться?
– Я не моего совершеннолетия просила дождаться, дурень! А того момента, когда я созрею как девушка!
Действительно: все эти полгода я с беспокойством наблюдал за тем, как Кэри всё хорошеет и становится всё более женственной.
– Но ведь я не умею читать мысли…
(Вообще, она, наверное, лукавила: письмо понималось строго определённым образом. Простим ей это.)
– Ты не мысли не умеешь читать, а просто ты труслив, как… как Лукас, почтальон из сказки, которую ты читал в детстве! Дурацкая сказка, дурацкая, но тебя она характеризует, тебя и твою буржуазно-немецкую душонку! Уходи!
– Это плохой способ закончить разговор, Кэри, и я бы не хотел, чтобы мы попрощались именно таким образом…
– Уходи! Ты не заслуживаешь никакого хорошего способа!
Ну, что мне ещё оставалось делать?
В защиту несправедливо обруганной сказки, хоть я и рискую показаться читателю до невозможности занудным: «Ведьмочка Аннабель», написанная Утой Мауэрсбергер, – пусть не шедевр детской литературы, но эпитета «дурацкая» она тоже не заслуживает.
13
Когда недоумение прошло, явился гнев. Вот уж, действительно, маленькая ведьма! За что она меня обидела? Какое зло я ей причинил? Знала бы она ещё, как трудно мужчине в таких случаях остановиться! И вот, вместо благодарности…
Прошёл и гнев. Осталась печаль, растерянность, непонимание, что делать дальше.
Долго предаваться моей печали и свалиться в чёрную тоску у меня не получилось: в восьмом часу зазвонил телефон.
«Олег Валерьевич, простите, что беспокою вас, но Каролина сама не своя: лежит на кровати ничком, никого к себе не подпускает и ревёт в три ручья, вся подушка от слёз, наверное, промокла… Что произошло? Вы… поссорились?»
– Ирина Константиновна, да, что-то вроде! – признался я. – Но я, во-первых, не понимаю, насколько честно по отношению к Каролине будет с моей стороны вам расска…
«Простите, как это “нечестно”?! – возмутилась собеседница. – А кому ещё вам рассказывать?! Я мать, в конце концов!»
– Да и не телефонный это разговор…
«Приезжайте к нам!»
– Ну да, ну да, – усмехнулся я. – Чтобы Михал-Сергеич, пользуясь случаем, заодно открутил мне голову.
«На Михаиле Сергеевиче тоже лица нет! Он этой истерикой перепуган, словно ребёнок! Он по отношению к дочери всегда – сама деликатность, а вы его рисуете каким-то монстром. Как вам не стыдно!»
– Хорошо! – решился я. – Я приеду, но подниматься, с вашего позволения, не буду. Встану у вас под окнами, верней, у калитки. Вы спуститесь ко мне, и мы посидим в машине. Согласны?
– …Так что случилось, Олег Валерьевич?! – мать девушки с шумом захлопнула дверь автомобиля.
– Случилось – но мне так неловко… Случилось, в общем, то, что Каролина попыталась…
– …Вас соблазнить? – догадалась Ирина Константиновна.
– О, как вы попали в точку, но как это грубое слово не отвечает настроению, хотя, может быть, и отвечает фактам…
– И вы, конечно?..
– Вы ошибаетесь: я устоял. Ценой сверхусилий, между прочим… А это как раз и вызвало бурную реакцию: я, мол, плюгавая, расчётливая, немецкая душонка, почтальон Лукас из «Ведьмочки Аннабель»…
– Откуда-откуда?
– Из «Ведьмочки Аннабель». Детская сказка, изданная в ГДР. Вы читаете по-немецки? Могу вам принести.
– Нет, спасибо… Так она ревёт в подушку уже не знаю какой час из-за того, что вы оказались почтальоном Лукасом?
Ирина Константиновна откинулась на спинку сиденья, выдохнула. Негромко удовлетворённо рассмеялась.
– Вам хорошо смеяться! – заметил я, почти жалобно. – А мне-то каково? Мне-то что делать?
– Ничего не делать, Олег Валерьевич: милые бранятся – только тешатся. Смешно даже, что вы… Послушайте, хотела спросить: неужели у вас с первой женой в начале вашего знакомства не случалось ничего такого?
– «Единственной женой», вы хотите сказать: я был женат только однажды.
– Ну, какие ваши годы… Хотя вы – почти мой ровесник! Извините, перебила.
– Нет, с Кристиной у меня ничего такого не происходило! Кристина была прекрасной женщиной и женой, но немного приземлённой, что ли. Как, впрочем, и я – приземлённый, заурядный человек, и, наверное, почти все мы. А вашу дочь, Ирина Константиновна, я просто начинаю бояться…
– Понятное дело! Думаете, я её не боюсь?
– Не в том смысле: в ней такой заряд юношеской чистоты, искренности, что…
– Ну, ну, начали… Вам, конечно, простительна вся эта глупость, на правах жениха, что ли… Боюсь, со стороны Карлуши будут и новые попытки…
– Думаю, нет!
– …И заклинаю вас, Олег Валерьевич: сохраните ту же самую принципиальность! Вы выросли сегодня в моих глазах – постарайтесь в них не упасть!
– Постараюсь… А я вас в свою очередь очень прошу, Ирина Константиновна: не рассказывайте Кэри ни слова о нашем сегодняшнем разговоре!
– Это почему ещё?
– Потому, что она его воспримет как моё предательство: мол, её родители для меня важнее её самой.
– Вредная, вредная, гадкая девчонка… Как же мне не рассказать? Чем я должна её утешать? Думаете, мне легко смотреть на этот всемирный потоп? Послушайте, поднимитесь к нам, прямо сейчас!
– Нет, как можно! Тогда она тем более поймёт, что мы с вами сговорились, якобы – против неё, и проклянёт меня на веки вечные.
– Понимаю… Дайте мне ваш телефон! Ну дайте, дайте, не съем я его! Как она у вас записана – «рыбка», «заинька»?
– Нет, просто «Каролина»… Позвольте, что вы пишете?!
– Готово, отправила! Что я написала? «Я очень тебя люблю».
Я в свою очередь откинулся на спинку сиденья и, подумав, негромко рассмеялся:
– О, вы мудрая женщина!
– Я? Конечно, мудрая, а вы бы и сами могли сообразить! Седина в бороду, а не понимаете таких простых вещей! Ладно же! Скажете мне ещё однажды спасибо…
Мы тепло попрощались.
14
Не знаю, мудрое ли сообщение Ирины Константиновны было тому причиной или что другое, но мы с Кэри помирились уже на следующий день. Вечером без всякого предупреждения в мою дверь позвонили.
Каролина явилась в наряде, который без особой натяжки можно было назвать погребальным: длинная чёрная юбка в пол, чёрная глухая блузка с длинными рукавами; волосы, которые она с лета успела немного отрастить, собраны в хвостик в районе затылка (самая, на мой взгляд, неженственная причёска, и сдаётся мне, что я однажды говорил ей, какие причёски считаю самыми неженственными).
– Ты могла бы мне позвонить, предупредить, – пробормотал я, стараясь, чтобы мои слова не прозвучали как упрёк.
– Специально не позвонила! Думала: вдруг застану вашу любовницу?
– Ах, да! Тогда конечно…
Мы прошли в комнату.
– Ваша смс! – начала девушка с места в карьер. – Я вчера только после неё и уснула – хотя нет, зачем вам знать… А сегодня с утра думала про неё, думала… Она такая короткая, такая – холодная! Такая продуманная, такая рассчитанная! Будто вы спросили нейросетку, что́ написать расстроенной девушке, и она вам сочинила: ни одного лишнего слова, ровно столько, сколько нужно, чтобы уже успокоилась эта идиотка! Или будто моя мама его написала… – я на этом месте с трудом удержал улыбку. – Мне даже показалось, что так и было: я вчера нафантазировала себе не пойми что, – продолжала Кэри. – Не моя мама вам его продиктовала, нет?
– Можно я оставлю это без комментариев?
– Да, конечно: зачем комментировать фантазии такой дурёхи… А ведь я в самом деле дурёха. Простите меня! Вы, наверное, очень на меня сердитесь. Мы, молодые девушки, настолько уверены в своей «высокой рыночной цене», что забываем: у мужчин тоже могут быть чувства. Или их нет: как смешно… Я после того письма ни разу не спросила, хотите ли вы меня дожидаться, будто это само собой разумеется – а ведь не разумеется! Даже и вчерашняя смс… Я бы так хотела поверить этим четырём словам! А могу? Само то, что их всего четыре, хотя и не в этом дело. Слова – словами, а поступки доказывают другое. Знаете, это – страшный удар для девушки: думать о себе невесть что и вдруг узнать, что она – всего лишь ведьмочка с пауками в волосах, а почтальон Лукас уже вовсю крутит педали. Вот, я специально даже их собрала, чтобы сегодня из них ничего не сыпалось…
Здесь я не удержался – коротко рассмеялся, но девушка только еле улыбнулась. Спросила жалобно:
– Скажите мне правду: вы ведь меня не любите?
Мне оставалось только сесть на диван, сцепить руки в замок, опустить голову. Да, приехали. Полгода! Полгода терпеливых встреч, сдержанности, деликатности, робких надежд, и ради чего? Чтобы в итоге услышать такую вот ахинею?
– Как же тебе не стыдно, – прошептал я, имея в виду именно то, что говорю. – Как же тебе не стыдно…
Не могу точно сказать, навернулись ли тогда у меня слёзы на глаза или нет. Надеюсь, что нет, но если и да, прошу меня не судить за это строго. Каролина присела на корточки и встревоженно заглянула мне в глаза.
Не помню, как она снова оказалась в моих объятиях, и не очень помню, что произошло сразу после, помню только, что мы снова остановились едва ли не в последний момент. Разумеется, эта остановка опять привела к лёгкой размолвке, но теперь мне, по крайней мере, не кричали: «Уходи!» Что ж, и на том спасибо.
Рассказ про обещание, данное мной Ирине Константиновне (а ведь я должен был в нём признаться, разве нет?) предсказуемо вызвал новую вспышку гнева, и мне не сразу удалось убедить Кэри в том, что без этого обещания её родители меня в следующий раз и на порог бы не пустили.
– А зачем тебе нужно, чтобы тебя в следующий раз пустили на порог?
– Потому что я думаю о нашем общем будущем!
Девушка осеклась. Заговорила, немного помолчав, другим, серьёзным тоном:
– Я тоже думаю о будущем. Вот, например, я теперь самостоятельно изучаю графический дизайн и веб-дизайн. Через пару-тройку месяцев, если всё получится, буду брать первые заказы на бирже фриланса.
– Как будто не очень романтичное занятие для совсем молодой девушки? – усомнился я.
– Да, ещё бы! Веб-дизайн – это не священница, не женщина-самурай и не глава государства, – она слабо усмехнулась. – Но это – профессия, вернее, ремесло: случись что, оно меня прокормит. Ну, или другое… Да и то: пора браться за ум, куда дальше откладывать? Я думаю о дальнейшей учёбе. После школы передо мной два варианта: факультет информатики в государственном университете или специальность «Дизайн» в художественном училище.
– Я очень рад! – сказал я искренне. – И к чему ты больше склоняешься?
– К первому… да разве важно? Ты очень рад, да я сама не рада! Я, видишь ли, уже знаю наперёд, что́ будет с моей жизнью – примерно, то есть. Всё как у всех, если вынести за скобки небольшие… декоративные элементы. И мне от этого – плохо! Ты не представляешь, как мне от этого плохо! Словно чёрная клякса стянула всё в груди. Хотя с чего бы? И даже стыдно: где-то дети умирают от голода, а я здесь, сытая, благополучная и даже любимая – любимая ведь, да? (она пристально заглянула мне в глаза) – бешусь с жиру, верней, не с жиру, конечно, а от нехватки смысла в жизни! Я, когда тебе писала про подарок, не от неблагодарности так писала! Милый мой, найди мне занятие, найди мне точку приложения сил! Ты старше, ты умнее – неужели не найдёшь? Всего ничего осталось до моего поступления в вуз, полгода, а дальше жизнь и совсем пойдёт по накатанной! Пока она не пошла по накатанной, пока я не погрузилась по уши в обывательское болото, найди мне занятие, так, чтобы в нём была и тайна, и открытие, и подвиг! Только не говори, пожалуйста, что моё главное занятие сейчас – хорошо учиться и быть послушной девочкой! Я тебя за это… возненавижу!
Страшно! А тебе бы не стало страшно, уважаемый читатель?
– Я боюсь тебя, Кэри! – признался я. – Я обычный человек, достаточно бесцветный, что бы ты там ни говорила, и этому бесцветному человеку ты свалилась на голову, как – фейерверк, как сундук с загадками! Я и в прошлый раз, наверное, тебя боялся. Ты бежишь вперёд, как длинноногая лесная лань, а я еле поспеваю за тобой, как старая собака со свалявшейся шерстью и высунутым языком…
– Неправда!
– Нет, почти правда! И поэтому дай мне хотя бы месяц! В моей повседневности, в моей профессии я занимаюсь более простыми вещами, поэтому мне нужно время. Я… поищу тебе занятие, такое, чтобы в нём была тайна, открытие и подвиг. По крайней мере, я попробую…
15
Поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что! Вот уж весело – стать Федотом-стрельцом на пятом десятке! Дарья Аркадьевна, «матушка Дорофея», могла бы, пожалуй, дать ответ этой юной душе. А я – разве матушка Дорофея?
Возможно, я втайне надеялся, что мой драгоценный учитель явится мне во сне и укажет, что делать. Этого не случилось. Но всё же воспоминание о ней не пропало зря: я понял, в каком направлении двигаться, и через два дня уже набирал номер Каролины. Когда она ответила, я, беря с неё пример, сразу взял быка за рога:
– Кэри, есть мысль, может быть, не совсем зряшная. Тебе стоит открыть «Евангелие Маленького принца»…
«“Евангелие Маленького принца”? Ту тоненькую книжечку, написанную учителем Дарьи Аркадьевны?»
– Нет, не её, а мой роман, законченный прошлым летом.
«Ах, твой роман…»
– Да, именно его. Пожалуйста, вчитайся в него, прочти его с лупой, даже, если хочешь, под микроскопом, и поищи в нём ответ на свой вопрос!
«Как странно! – удивилась она. – Ты сам – автор, и ты не можешь мне дать ответа, а твой роман даст?»
– Ты же знаешь, что это не столько роман, сколько хроника! А тот, кто пишет хронику, должен себя устранять, должен дать говорить другим. Может быть, эти другие намекнут на ответ…
«Это какая-то игра? Ты уже знаешь ответ, а хочешь, чтобы я поискала?»
– Ничего подобного!
«Может быть, ты это всё придумал, чтобы я просто занялась чем угодно и не компостировала тебе мозги? Может быть, если бы у тебя не было своего романа, ты бы мне “Войну и мир” подсунул – на, деточка, играйся?»
– Кэри, как не стыдно!
«Стыдно, – вздохнули на другом конце провода. – Хорошо, я попробую. Почитаем ваши сочинения, господин Поздеев, почитаем… Нет, на самом деле, без шуток, спасибо! Если даже ничего и не выйдет, ты хотя бы думал о моей просьбе, хотя бы пытался, понял меня, принял меня всерьёз. Обожаю тебя…»
Я выдохнул с облегчением.
Советуя Кэри перечитать мой прошлый роман, я держал в уме три цели, имел три надежды.
Во-первых, девушка могла загореться образом изучения философии – тем, чем под руководством незнакомого мне Азурова и занималась юная Дарья Аркадьевна. Изучение философии – дело разом и благородное, и безобидное. Будет только замечательно, если её юношеский пыл весь уйдёт в это русло.
Во-вторых, Каролину мог увлечь образ тихого мистицизма, тайного духовного делания. Правда, если такое делание потребует монашества в миру, мои планы о совместном будущем с этой девушкой будут перечеркнуты большим жирным крестом. Увы, увы…
В-третьих, Карлуша могла бы просто захотеть написать подробную, детальную биографию Дарьи Аркадьевны, для чего ей потребовалось бы и время, и совершение новых открытий, и разгадка тайн, и, так сказать, подвиг (общение с православными «друзьями» вроде Мефодьева – чем это, спрашивается, не подвиг?). Работа над биографией будет способствовать росту её исследовательских навыков и привьёт вкус к науке, а этот вкус в свете скорого поступления в вуз – дело крайне желательное.
Ни одной из моих тайных надежд не суждено было сбыться. Я и представления не имел, к чему приведёт моя задумка!
16
В очередную субботу, закончив школьные занятия, Кэри появилась у меня на пороге в оригинальной клетчатой кепке с длинным козырьком.
– Февраль тёплый, но всё же не настолько, – обеспокоился я за неё. – А впрочем, понимаю, это образ. Тебе только второго козырька сзади не хватает, чтобы…
– Чтобы получился настоящий deerstalker, верно! – она чмокнула меня в щёку. – Настоящих у нас не продают, но этот тоже годится. Та – та-ра-та – та-ра-ра-ра-ра! – промурлыкала она мелодию из популярного телефильма времён моего детства.
– Мне приятно, что ты смотришь советскую классику, – похвалил я её.
– Нет, что вы, сударь, только анимэ, мангу и хентай… Ну, дай уже твоему детективу пройти на кухню и свари ему кофе! А я тебе расскажу, что я откопала…
На кухне разговор продолжился. В начале прошедшей недели девушка перечитала мой роман. Нет, желания изучать философию у неё не появилось, идеал монашества в миру её не соблазнил, и писать биографию Дарьи Аркадьевны ей тоже не захотелось. Зачем, если я уже написал одну? Больше же всего её увлёк таинственный мистер Азуров, о котором мы не знаем ровным счётом ничего кроме того, что в 2008-2009 учебном году Александр Михайлович Азуров преподавал английский язык в Православной женской гимназии нашего города.
– Зацепок, казалось бы, никаких, правда? – рассказывала она, потягивая свой кофе и болтая одной ногой под столом. – Но я – как ты думаешь, что я сделала? Нет, во мне определённо погиб детектив…
– Что же?
– Явилась в гимназию и напросилась на интервью к директрисе!
– О Господи!
– Осторожней, не ошпарься…
– Неужели директриса охотно дала интервью постороннему человеку?
– Отчего сразу постороннему? Я прикинулась корреспонденткой «Епархиальных ведомостей». Напялила на себя свой костюмчик «Прощай, надежды!» – ты его видел в прошлое воскресенье – и косынку тоже не забыла. Сослалась на Савелия Ивановича и на то, что он прекрасного мнения о моих журналистских и литературных способностях, прекрасного!
Мы оба не могли не рассмеяться.
Итак, вот что удалось выяснить Кэри. Гимназия всё ещё существовала, правда, переехала из роскошного здания в центре города в бывший дом причта при храме св. Николая (я не стал уточнять, каком именно: в нашем городе имя этого святого носят три или четыре храма). От общежития для иногородних пришлось избавиться, и старших классов в гимназии теперь тоже нет…
Но они были? – настойчиво расспрашивала директора юная корреспондентка. Да, были: в первые три учебных года. А можно ли подержать в руках классный журнал, скажем, одиннадцатого класса первых лет существования гимназии? – продолжала спрашивать Каролина. Ведь это – живая, овеществлённая история!
Не знаю уж, мытьём или катаньем, лестью, хитростью или настойчивостью она добилась своего, но только дали ей в руки и классный журнал – и даже каким-то чудом разрешили сделать несколько ксерокопий. («А не разрешили бы, я бы сфотографировала нужные страницы!»)
Копия искомой страницы теперь лежала у нас на кухонном столе: раздел «Английский язык», первое полугодие 2008-2009 учебного года.
Мы склонились над списком учениц.
Агапкина София
Комлева Евдокия
Надеждина Маргарита
Очагова Елена
Пастухова Ксения
Рысина Екатерина
Смирнова Дорофея
Смирнова Ольга
Сабанеева Мария
Седова Варвара
Флоренская Алла
Чулкова Елизавета
Яковлева Наталья
– Дорофею Аркадьевну нашёл под номером семь! – обрадовался я.
– Нет, мы не её ищем…
– А кого тогда?
– Думайте, Олег Валерьевич, думайте! Ту самую таинственную Розу, которую Принц похитил, а после вернул в Оранжерею.
– Среди учащихся нет Розы…
– Нет, я начинаю сомневаться в ваших способностях, сударь, честное слово! «Роза» – это метафора. А по-настоящему девушку звали Али…
– Алина?
– Может быть, и Алина: Дарья Аркадьевна однажды оговорилась и назвала первые два слога её настоящего имени.
– В списке и Алины тоже нет…
– Зато есть Алла!
– Алла – всё-таки не Алина, – усомнился я.
– Так ведь и Дорофея – не Дарья!
– Верно: у человека одно имя может быть паспортным, а другое повседневным.
– В точку! А ещё обрати внимание на то, какая у этой Аллы роскошная фамилия: Флоренская!
– Родственница знаменитого философа?
– Может быть, и родственница! Уже проверила, кстати, происхождение фамилии в Викисловаре: от латинского flōs – «цветок». Ну, чем не Роза? И знаешь что? Будь я мужчиной, я бы заинтересовалась ученицей по имени Алла Флоренская, а не кем-то, кого звали Софья Агапкина или там Мария Сабанеева – бр-р-р!
– Какое у тебя странное, извращённое представление о школьных учителях словно о турецких султанах, которые разгуливают по классу как по своему гарему, Кэри!
– Ну хорошо, хорошо: не он ей, а она им заинтересовалась. Ведь это-то мы знаем наверняка?
– Я восхищён тем, что ты раскопала кусочек чужой биографии, а заодно подтвердила, что история Дарьи Аркадьевны оказалась правдой. Но… зачем?
– Зачем? Сама пока не знаю! Нет, всё же знаю! Азуров был незаурядным человеком – ведь с этим мы не спорим? Та, которая его полюбила, тоже могла быть незаурядным человеком, разве нет? И вообще, каким бы человеком она ни была, мы её разыщем…
– Ой, сомневаюсь!
– …И основательно расспросим! А почему сомневаешься?
– Потому сомневаюсь, что она эмигрировала, если мне не изменяет память…
– Не изменяет: кажется, в США или в Канаду.
– …И это дополнительно усложняет нашу задачу…
– И это её упрощает, потому что женщину по имени Алина Флоренская в Канаде найти проще, чем в Саратове или Брянске!
– А ещё, конечно, эмигранты из России у меня не вызывают симпатии.
– Ну, не суди, не суди кого-то, о ком ты ничего не знаешь! Мало ли какие у неё могли быть причины? Так ты даёшь мне благословение на розыск?
– «Благословение на розыск»? – я не мог не рассмеяться над комичностью этого словосочетания. А просмеявшись, добавил: – Милая моя, я даю тебе самое торжественное благословение на розыск Алины Флоренской. Хоть всесоюзный, хоть международный! Как я могу быть против, если тебя это так занимает! («И чем бы дитя ни тешилось», – добавил я мысленно.)
17
Каролина основательно вжилась в роль детектива. Каждую новую субботу она мне «докладывала» о результатах своего расследования. (Чаще, увы, не получалось: всё её свободное время безжалостно пожирали, во-первых, подготовка к Единым государственным экзаменам, во-вторых, изучение веб-дизайна. Я, само собой, радовался её занятости, но мою радость сложно было назвать очень уж искренней.)
Первые поиски в Сети ничего не дали. Рунет не хранил информации о ком-то по имени «Алла Флоренская». Словосочетания Alla Florenskaya и Alina Florenskaya привели к ничтожному результату. Может быть, «Али…» – не Алина, а Алиса? Но и Alisa/Alice Florenskaya тоже не принесла никакого улова. Иногда моему юному детективу казалось, что она напала на след. Так, удалось найти некую Ольгу Андреевну Флоренскую (род. в 1960 году) – поэтессу, режиссёра. Родственница? Увы, все следы оказывались ложными…
Однажды Каролина явилась ко мне сияющей. Выпалила с порога:
– Меня навела на мысль библиотека отца!
И продолжила за своим привычным чёрным кофе, к которому пристрастилась:
– Я изучала корешки книг в поисках хоть какой-то идеи. У него в кабинете огромная библиотека – я показывала тебе! В том числе и на английском, конечно: он тоже выпускник инъяза, они с мамой там и познакомились. И вот, мой взгляд совершенно случайно падает на H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine.
– «Тайная доктрина» Блаватской? Очень мало о ней знаю. Что здесь важно – «доктрина» или «тайная»?
– Ай, ты слоупок! Извини, конечно… Назову тебя доктором Ватсоном. Нет, ни то, ни другое – говорю же, Blavatsky! В английском языке до какого-то времени было принято давать русским женским фамилиям мужское окончание. Мизогины, одно слово… Как я раньше не догадалась!
– Значит, не Florenskaya, а Florensky? – сообразил я наконец.
– Умница!
Вот так всегда: то «слоупок», то через пару секунд – «умница». То ещё веселье – общаться с юной девушкой…
Поиск по словосочетанию Alice Florensky наконец-то дал первый скромный результат: пьесу на английском языке под названием Three Weeks in London3. Невзрачное название – но главной героиней оказывалась наша знакомая! Если это была она, разумеется.
– Да ну, простое совпадение! – засомневался я.
– Нет, не простое, и не совпадение! Текст уже у меня в телефоне. Я знаю, что у тебя с английским плоховато, но хоть вот на столечко ты понимаешь? Дай я тебе зачитаю отрывок!
ALICE I think we must exclude the romantic component in both the parallel and the actual reality. One person specifically taught me that this component is a taboo between a teacher and a student.
PATRICK Do I know this person?
ALICE Not very likely: it was my teacher of English who passed away two years ago.4
– Да, многое совпадает! – признался я. – И мысль про табу – в духе Александра Михайловича, конечно. Хорошо, что я всё же не твой педагог. Но…
– Никаких «но»! Слушай дальше!
PATRICK You are a brilliant narrator. I almost could see this provincial Russian town, your mysterious teacher and you as a girl beside him.5
A Russian town6, слышишь! – воскликнула она торжествующе. – А не German7, не Chinese8, не Polish9 и не Indonesian10!
– Всё это очень хорошо, но… пьеса, ты говоришь? Любая пьеса по определению – художественный вымысел. Кому это придёт в голову под видом художественного текста писать биографию реального человека?
– И кому, действительно, Олег Валерьевич? – отозвалась Кэри с нескрываемой иронией. – Кому, в самом деле, придёт в голову под видом художественного текста писать биографию реального человека?
Язва, одно слово…
Согласно пьесе – если ей можно было доверять, – наша знакомая являлась художницей, которая даже одно время что-то преподавала в некоем музыкальном (отчего музыкальном?) колледже в Лондоне в качестве приглашённого профессора. Проработала она там недолго: не сошлась взглядами с администрацией учебного заведения, этими предсказуемыми общечеловеками, которые обвинили её в расизме, сексизме, воинствующем милитаризме, клерикализме, оправдании семейного абьюза и поддержке Владимира Путина. А пьеска-то, похоже, была чистой правдой! Такое не выдумаешь… Она начинала мне нравиться, наша далёкая «духовная тётка», эта бесстрашная русская девчонка, вставшая за кафедру Лондонского колледжа современной музыки! (И какого рожна её, спрашивается, понесло в Англию? Что ей дома не сиделось?)
Между делом становились понятны направления дальнейшего поиска – не просто в Сети, а в онлайн-каталогах музеев современного искусства и художественных галерей. Каждая неделя приносила что-то новое: работы нашей заочной знакомой обнаруживались в Ливерпуле, Берлине, Риме, Вене, Дорнахе… Какую-то роль в покупке картин у художницы и последующей их продаже или передаче в дар другим владельцам играл некий частный британский фонд с неким длинным и цветистым названием – разобраться во всём этом было непросто.
– Послушай-ка аннотацию! – бросала мне Кэри. И дальше переводила с английского.
«Дерево» Элис Флоренски при первом художественном прочтении воспринимается просто как изящный образчик декоративно-прикладного искусства, как нечто, что вы можете вместо натюрморта повесить в своей кухне или спальне. И только внимательный взгляд различит, что листья и плоды дерева – вовсе не плоды и листья. Это – множество миниатюр удивительной степени детальности и проработанности для такого небольшого полотна. Буквы латинского алфавита сплетаются с буквами кириллического, иероглифами, математическими символами. Забавные рожицы разыгрывают сценки, комические и печальные. Причудливые фантастические зверьки заставляют вспомнить о рисунках на полях средневековых рукописей. На «Дерево» приятно смотреть, но его гораздо интересней разгадывать, и рациональной стороне нашего ума оно способно сказать куда больше, чем нашему эстетическому чувству.
– Красиво, правда? И почему я не умею писать так же? Может быть, мне ещё не поздно стать искусствоведом?
– Красиво, да – но покажи мне уже само «Дерево», и я без этих умников решу, говорит оно что-то моему эстетическому чувству или не говорит!
– А картинки, видишь ли, нет – только описание. «Работа в частной коллекции».
И так – везде. Мы находили имя автора – но нигде, нигде, нигде не могли найти изображений работ!
– Если твоя Элис одно время преподавала в вузе, может быть, она и книжки пишет? – однажды осенило меня. – Методички, учебники, лекции, статьи?
Электронные книги в наше время, конечно, разыскиваются не в общедоступной Сети, а на специальных «пиратских» ресурсах, которые я, пожалуй, называть не буду, и с помощью особых программ, которые тоже не стоит называть. Кэри об этих ресурсах и программах знала только понаслышке, и мне пришлось провести для неё краткий ликбез. А ещё веб-дизайнер, будущий айти-специалист, эх…
Книги действительно нашлись, целых две. Сообщая об этом, Кэри выглядела мрачнее тучи.
– Что такое? – забеспокоился я. – Плохие книги, никуда не годные?
– Нет, книги хорошие – первая, по крайней мере. Просто… на сайте была биографическая справка об авторе, а в справке стояли годы жизни.
– Год рождения, ты хочешь сказать?
– Нет – годы жизни! Элис уже умерла.
– Давно ли?!
– В две тысячи двадцатом…
Мы помолчали. Я размышлял о том, что коронавирус, похоже, забрал не одну Миру, а ещё – о жестокой участи двух ближайших учениц Александра Михайловича. Чем он так прогневал Бога? Или, напротив, нам нужно за обеих порадоваться – отмучались?
– Ах, как жаль! – воскликнула Каролина с горечью в голосе. – Находишь талантливого, незаурядного человека, твоего современника, у которого учиться бы да учиться, которого слушать бы да слушать, а он уже умер! Разве это честно?
– Мне нечем тебя утешить, – ответил я. – Я только напомню тебе молитву, которую ты прочитала на последней встрече Клуба и перевод которой прислала мне немного позже. Я сохранил твой перевод – хочешь, прочту его вслух?
Прости моё горе по ушедшему —
Созданию, что считал таким совершенным.
Я верю, что он живёт в Тебе, и в Тебе
Нахожу его ещё более достойным любви.
Прости эти дикие крики —
Смятение бездарно потраченной юности;
Прости их, когда они не оказываются правдой,
И в Своей мудрости сделай мудрым и меня.
Девушка улыбнулась мне сквозь слёзы.
– Хорошо, что ты не прочитал её по-английски, – заметила она. – Я бы рассмеялась, слушая твои усилия, и это погубило бы всё впечатление. Может быть, мне заняться твоим английским языком?
18
Если в наших отношениях с Кэри всё, казалось, было безоблачно, то отношения Каролины с её родителями как будто портились от месяца к месяцу. Я предпочитал об этом не задумываться – и всё же не мог не слышать коротких недовольных реплик девушки во время телефонных разговоров с мамой, не мог не тревожиться интонациям Ирины Константиновны (мы периодически с ней списывались, а иногда и созванивались), не мог не озадачиться её признанием о том, что со мной ей говорить приятнее, чем со своей собственной дочерью.
Хоть роль «добровольного третьего родителя» и была мне достаточно противна, пару раз я всё же предпринял попытку достучаться до чужого ума. Оба раза прошли по одному и тому же сценарию. Я говорил что-то вроде:
– Кэри, милый человек, может быть, тебе не стоит ссориться с домашними понапрасну?
Моя собеседница поднимала на меня невинные глаза:
– Разве я ссорюсь? Я их просто… как-то не замечаю.
– Не замечать близких людей дурно…
– Но у них своя жизнь, а у меня своя! Я – птица, которая вылупилась из яйца динозавра, ну, или наоборот. О чём мне с ними говорить?
– Птицы – прямые потомки динозавров, и динозавры на птиц были похожи гораздо больше, чем мы все раньше считали, – не сдавался я. – Учёные недавно установили, что динозавры могли быть пернатыми. Отчего тебе не кажется, что твои родители в молодости тоже были пернатыми, тоже испытывали ужас перед погружением в мещанское болото? Какой ещё ты будешь в их возрасте?
Кэри недовольно поводила плечами:
– Когда доживу, тогда и увидим! Наверное, ты прав – какая разница? Один и тот же человек в разном возрасте не захочет говорить сам с собой. Ты бы захотел говорить с собой десятилетним? Или ты бы ему просто крикнул: «Эй, сопляк, отойди от машины!»?
Что ж, у неё была своя правда, да я и боялся убеждать её слишком настойчиво: меня ведь и самого в любой момент могли записать в «динозавры»? Кто я ей? По-прежнему – всего лишь пионервожатый, да ещё доктор Ватсон в её расследовании. Кажется, даже не жених…
Гром грянул в начале апреля. Одним пятничным вечером мне позвонила Ирина Константиновна и огорошила меня тем, что оба они, родители Каролины, крайне хотели бы увидеть меня утром следующего дня.
– О Господи! – вырвалось у меня. – Что она ещё натворила? Или это я чем-то перед вами провинился?
«Вы? Ничем!»
– Вы переезжаете в другой город и хотите забрать Каролину с собой? – посетила меня жутковатая догадка.
«Никуда мы не переезжаем! Переедешь тут… Перестаньте гадать, Олег Валерьевич! Мы ждём… если хотите, мы, может быть, ждём вашей помощи, совета! Дело неприятное, дело важное…»
И вновь у меня не оставалось иного выхода. Насколько честно разговаривать с родителями Кэри за её спиной? Не очень… Но правда и в том, что они всё же – её родители, а не два стоптанных башмака или там два динозавра, грызущих кости с утробным рыком. А она сама, как ни крути, всё-таки несовершеннолетняя. До самого декабря наступившего года именно им нести за неё ответственность, а значит, и принимать за неё решения. Эти решения они могут принять, ни с ней, ни со мной не советуясь. Оттого терпи, казак! И скажи спасибо за то, что вообще тебя пригласили…
В гостиной мы расселись за классическим – в наше время уже антикварным, а то и изготовленным под старину – круглым столом. Михаил Сергеевич протянул мне руку, кисло заметив:
– Мы, кажется, уже знакомы?
– Да, кажется, – ответил я так же неопределённо.
«Знакомы» мы были с момента, когда летом прошлого года единственный раз поговорили по телефону, решая судьбу школьной профориентационной практики его дочери в «Восходе» – месте моей работы. Ни он, ни я решили перед его женой не вдаваться в подробности нашего знакомства. Я – потому что могло показаться, будто я в итоге использовал своё служебное положение в личных целях. Он – потому что выходило, словно он своими руками способствовал сближению дочери с «этим невнятным типом».
Мы сели и молчали некоторое время. Мне пришлось обозначить: я весь внимание.
– Вы смотрели фильм «Мой ангел-хранитель»? – начал отец Кэри с совсем неожиданного. Я признался, что нет. – Ну вот, а мы с супругой посмотрели. Вынуждены были посмотреть! После того как узнали, что родная дочь собирается в жизни воплотить его фабулу и подать в суд на своих родителей. Это, случаем, не вы ей в качестве юриста присоветовали?
– Первый раз об этом слышу, – только и сумел я из себя выдавить.
– Михаил Сергеевич говорит глупости, – вмешалась Ирина Константиновна, – потому что расстроен, а кто бы не расстроился! Так что уж извините его, пожалуйста. Я расскажу, как всё было. С дочерью последние два месяца мы почти перестали общаться – обидно! Обидно, но можно понять: дело молодое… В этот же понедельник – ой, простите, плохо… В этот понедельник захожу к ней в комнату уже в половине первого ночи и по-человечески прошу не сидеть за компьютером так поздно, пожалеть и себя, и нас! Вам не кажется, что у неё от недосыпа круги под глазами? А в ответ мне это создание заявляет: она меня услышала, спасибо, но свет всё же выключит, когда закончит всю работу, которую за неё никто не сделает. Тут я потеряла терпение и, каюсь, прикрикнула на неё немножко. А мне в ответ: кричать бесполезно, потому что она – совершенно отдельный от нас человек и будет жить своей жизнью!
– Да, а хлеб-то ест пока ваш, – не мог я не пробормотать. Михаил Сергеевич неопределённо угукнул.
– Про хлеб я, если честно, сказать не додумалась… А в подтверждение своей мысли она мне на голубом глазу цитирует какого-то Камиля Шерхана…
– Халиля Джебрана? – догадался я.
– Да, пожалуй… Вы его знаете?
– Крупный писатель и философ, кажется, арабский, хотя руку на отсечение…
– Ара-абский! – протянул отец Кэри. – Этого ещё не хватало! То-то у неё «Коран» стоит на полке! А я тебе говорил…
– Миша, дай досказать! Мол, ваши дети – это не ваши дети, они сыновья и дочери Жизни, вы – не хозяева им… Это что ещё такое?! До сорока двух лет дожила – и никто мне не говорил, что мой ребёнок – это не мой ребёнок! Приехали! – Ирина Константиновна быстрым движением промакнула салфеткой уголки глаз. – А чтобы мне, старой дуре – это не она меня назвала старой дурой, это я сама себя так аттестую, – чтобы мне, старой дуре, было полностью понятно, если, так сказать, философия до моего заскорузлого мозга не доходит, эта девчонка начинает рассуждать о раскрепощении… то есть об эмансипации несовершеннолетних, специально запомнила слово. Якобы дело это совсем простое: подаётся иск в суд и – пожалуйста! И якобы она об этом уже думала… Здорово придумала, правда? Ну, а если суд не встанет на её сторону, то есть ещё более прямые и гуманные способы. Будто бы в России эмансипация наступает автоматически при замужестве или беременности…
«Верно, статья 27 Гражданского кодекса», – чуть не вырвалось у меня. Дальновиднее было промолчать, конечно, что я и сделал.
– Вот такие пироги! – вступил её муж. – Мы хотели узнать у вас, Олег: вы-то сами в курсе её «гуманных» планов? В какой мере она на вас рассчитывает при их реализации? Или не на вас уже? А то, верите, нет, мы уж всю голову сломали про то, кому звонить, к кому обращаться…
Отличный вопрос, а сама ситуация – и врагу не пожелаешь. Нужно было что-то отвечать.
– Понимаю, Михаил Сергеевич, и ценю ваш юмор…
– Да уж до юмора ли мне!
– …Но для меня, честное слово, её планы – большой сюрприз!
– Тут ведь как устроено: бывает, что планы девушки – для нас сюрприз, а потом приносят нам… тест с двумя полосками! – резонно возразили мне. – Вы уж извините, что я по-простому…
– Наши отношения с Каролиной – совершенно невинные, и…
– Олег Валерьевич дал мне обещание, – пришла мне на выручку мать Кэри.
– М-м, – неопределённо протянул отец. – Обещание – обещанием, а только… Думаете, мне так весело это всё говорить? Тем более – своему, считай, ровеснику… Нет, ну подумайте сами, встаньте на наше место, наденьте наши сапоги! Жили как все, неплохо жили, ни в чём её не стесняли, школу нашли – одну из лучших, и тут такая вожжа попадает ей под хвост! Нет бы подождать до конца года! Мы же при ней теперь, представьте себе, и чихнуть боимся! Потому что она ведь и пойдёт, куда обещала: и в суд, и к вам в койку, а если не к вам в койку – так в ближайшую подворотню! С вами-то, говорите, не делилась она никакими планами? Или там… философскими произведениями исламских гениев?
– Боюсь, нет… – ответил я. – Припоминаю только её желание отправиться на СВО…
– Что?! – почти одновременно вскричали оба родителя.
И зачем я ляпнул про СВО? Хотя, возможно, вовсе не ляпнул, а сказал осознанно, положил последний штрих к картине, как бы соглашаясь с ними: да, ситуация – серьёзней некуда, отлично понимаю.
Михаил Сергеевич наконец выдохнул и пробормотал:
– Ну вот – сами видите… Делать-то что будем?
Тягостное молчание повисло.
Не просматривалось выхода из этого разговора, верней, все выходы описывались словами «Оба хуже». Вслух поддержать независимость Кэри было бы серьёзной обидой для её родителей. Вслух поддержать её родителей граничило с её предательством.
Не знаю, какой добрый гений посетил меня в ту беспросветную минуту. Может быть, сама Дарья Аркадьевна на миг вступила в мой ум и сказала мне одно-единственное осветившее всё слово. Ну, или я уже после сочинил себе её появление, уверился в том, во что хотел бы верить…
– Помолвка, – произнёс я. Родители Кэри переглянулись:
– Что – помолвка?
Но я уже знал, в какую сторону двигаться, и вслух развивал мысль:
– Брак я, как и вы, считаю преждевременным. И перед лицом всех рисков – а риски велики! – самым разумным нахожу нашу с Каролиной помолвку.
– А чем она нам поможет, ваша помолвка? – это был Михаил Сергеевич.
– Тем, во-первых, что в качестве жениха я на неё буду иметь немного больше влияния и, кто знает, сумею уберечь от самых необдуманных поступков. Ведь сейчас моё влияние ничтожно! Я ей сейчас никто, и с этим никто в любой момент могут попрощаться, чтобы найти себе молодого, красивого и зубастого.
– Вы её не знаете, чтобы считать, что она будет искать молодого и красивого, но – допустим. А ещё?
– Ещё? – тут некое вдохновение на меня накатило: сыскался безупречный аргумент. – Ещё настоящая помолвка предполагает целомудренные отношения, и это позволит – но мне неловко…
– …И это позволит Олегу Валерьевичу, – без обиняков расшифровала мою мысль Ирина Константиновна, – при новых попытках нашей дочери его соблазнить со спокойной душой спрятаться за помолвку. За крепкую православную стену, хотя не знаю, очень ли он православный человек. Да кто из нас? – она вздохнула.
– А что, уже были такие попытки? – севшим голосом уточнил Михаил Сергеевич.
Я отмолчался. Его жена негромко пояснила:
– Я не всё тебе рассказала, Миша.
На отца Кэри было грустно смотреть. У него, кажется, даже нижняя губа задрожала…
Ещё немного мы посидели.
Встав и с шумом выдохнув, полуразведя руки в стороны, отец семейства объявил:
– Я не вижу другого выхода! Хотя и этот выход – едва ли не на самом краю, можно сказать, под дулом… Олег Валерьевич, как неловко! Вы ещё подумаете, что это мы вас сюда заманили, чтобы навязать… Что за история!
Я, тоже вставая, поспешил уверить обоих родителей девушки, что полностью, полностью понимаю их чувства, что никакого принуждения не вижу, что рад быть им полезным, что, надеюсь, всё ещё разрешится миром, хотя кто может дать гарантию и кто способен повлиять на совсем юного человека, который вдруг решил, что сам чёрт ему не брат? Мы обменялись более сердечными, чем вначале, рукопожатиями и всеми приятными словами, которые взрослые люди говорят друг другу.
Действительно, что за история! И это ещё они винились передо мной за то, что бесцеремонность их дочери якобы загнала меня в ловушку! Не я, а они оказывались в своего рода ловушке, вынуждаемые согласиться на помолвку Кэри с человеком вдвое её старше – лишь бы их закусившая удила дочурка не отправилась в суд, на фронт или на поиски первого встречного, который позволил бы ей совершить «гуманную» эмансипацию!
19
Конечно, я был сердит на Каролину за всю ту катавасию, которую она устроила в умах родителей. Вместо всех этих бестактных угроз не проще ли было выключать компьютер после полуночи? Но ведь Кэри всегда была такой! Кажется, даже в прошлой жизни…
Сердитостью делу не поможешь. Мне предстояло думать, как провести сложный, очень сложный разговор. Заручиться согласием на помолвку у родителей девушки и заручиться этим согласием у самой девушки, особенно у такой девушки, – это совсем не одно и то же.
– …Уф, на улице почти жарко! Где мой кофе? А ещё я хотела тебя спросить: почему бы тебе не дать мне ключ от своей квартиры? Боишься, что я тебя обчищу?
Слова о необходимости серьёзного разговора застряли у меня в горле. В Кэри так много было победительной красоты юности, что оставалось лишь склониться перед этой красотой.
– Я принесла тебе… да, две ложки, как обычно! …Я принесла тебе замечательную вещичку! Алла Флоренская писала на русском языке, но книги издавала за рубежом. «Непо́нятые» есть на Amazon, и даже не буду рассказывать, каких мне ухищрений стоило их купить! Но вот, книга у меня в руках – та-дам! Почитать тебе предисловие? В нём – пара строчек, которые я так и не поняла. Может быть, ты разгадаешь?
И, не дав мне опомниться, она начала чтение.
20
«Страной святых чудес» называл Европу Алексей Степанович Хомяков. За прошедшие после его смерти полтора века чудеса этой святой страны, увы, изрядно обветшали. Почти все технические новинки, которые изобрела евроатлантическая цивилизация, мы теперь способны производить сами. Да и в них ли дело? Наверное, лишь ребёнок радуется заводной кукле и восторгается сложности её механизма.
Такт, способность к общежитию, уважение к чужим правам – вещи более важные и зрелые. Но вот, пройдя долгий путь на Запад, мы озираемся вокруг себя и наблюдаем, что эти важные и зрелые вещи превратились в подобие могильных камней, и камни эти врастают в землю, с каждым годом – всё больше. Мы, русские люди, волей-неволей пошли по стопам Ивана Карамазова, всё же сумевшего добраться до Европы, чтобы обнаружить, что приехал он, как и ожидал, только на кладбище.
Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними!
Вот уж правда, осталось только плакать – если верить Ивану.
Признаться честно, я никогда не верила Ивану, ни его пылкости, которой не хватает настоящего жара, ни его равнодушию, которое тоже – и не равнодушие вовсе. Подобно Ставрогину, своему alter ego, Иван ни холоден ни горяч. Вместо того чтобы начинать египетский плач тёплого Ивана, нам стоило бы прислушаться к Алёше, его опыту деятельной любви.
Но что является мерой такой любви? Чем поверяется она и чем отличается от слепой, удушающей, нерассуждающей любви? Пониманием (и верю, что юные глаза прочтут эту строчку особенно внимательно).
«Россия – другая и последняя Европа». (Мысль в приведённой выше афористичной форме принадлежит, если я не ошибаюсь, Владимиру Можегову, публицисту «Взгляда» и члену «Изборского клуба». Восходит она, конечно, ещё к славянофилам.) Пусть так: у меня нет ни аргументов против, ни настоящего желания поспорить с этим. Но, если мы хотим быть последней Европой, нам следует понять Европу изначальную, одновременно избежав ошибок, допущенных ей в понимании самой себя. Что может быть лучше такого понимания, чем понимание тех, кого Европа сама не сумела понять?
Великих, но непонятых европейцев, наброски к умопостигаемым портретам которых даны на страницах этой книги, разделяют границы стран и границы столетий. Их разделяет и судьба: кому-то пришлось закончить жизнь на костре, а кому-то, кто современникам виделся всего лишь безобидным чудаком, было позволено умереть мирной смертью в своей постели.
Объединяет их только одно: их надгробные камни, небольшие и неприметные, уходят в землю так стремительно, что скоро мы можем забыть о них совсем. Никто давно не возлагал к ним цветов, а надписи на этих камнях рискуют стать вовсе неразличимыми.
Ах, да: ещё их объединяет моя горячая симпатия к ним. Симпатия – предвзятое чувство. Но разве предвзятость не лучше забвения?
Существуют тёмные строки, действующие на нас помимо рассудка и пробуждающие нервную дрожь. Для Блока такой тёмной строкой были шекспировские «пузыри земли» из «Макбета» в переводе Андрея Кроненберга. Для меня – евангельское «Что мне и тебе, Жено?» (Иоанна, 2:4) и последнее четверостишие из «Леса» Николая Гумилёва. Но, чем дольше мы живём, тем больше тёмных строк открываем. Может быть, жизнь в этом и состоит – найти и разгадать все наши тёмные строки? И, разгадав их все, умирает человек…
Недавно я наткнулась на восемь строчек, тёмных самой прекрасной, самой густой непроглядностью. О чём они для меня – сейчас? О благодарности к подвигу, верней, к неудавшемуся подвигу. Быть рождённым, чтобы свидетельствовать об истине созерцательно или деятельно, кистью или пером, мечом или тихим голосом молитвы, и оказаться в своей проповеди непонятым – это подвиг, но подвиг, в глазах мира не состоявшийся. Сей скорый суд мира несправедлив, а несправедливости нужно исправлять. «Непонятые» – моя попытка это сделать.
21
– Тебе это действительно нравится? – прервал я её чтение.
– А тебе разве нет?
– Если честно, похоже на то, что автор пишет по-русски, а думает по-английски. Но я первый спросил!
– Не заметила… Я не всё понимаю! – призналась Каролина. – Я не читала ни «Карамазовых», ни Гумилёва. А когда я слышу выражение «Изборский клуб», то и вовсе представляю себе Трёх Толстяков, которые, надев рябчика на вилку, сыплют словечками вроде «плебс» и «ответственные элиты». Но ей я просто очарована! Подумай только: ведь ей было двадцать восемь лет всего, когда она это писала! Умерла она, правда, в двадцать девять.
– Разгадала, значит, все свои тёмные строки…
– Они там дальше и идут – по-немецки. Ты мне прочитаешь? Я не смогла.
Давненько мы не брали в руки шашек… Упасть в грязь лицом перед девушкой не хотелось. Кивнув, я принял из её рук книгу и начал читать.
Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu dir.
Wo immer du eintratst, redete nicht in Kirchen
zu Rom und Neapel ruhig ihr Schicksal dich an?
Oder es trug eine Inschrift sich erhaben dir auf,
wie neulich die Tafel in Santa Maria Formosa.
Was sie mir wollen? leise soll ich des Unrechts
Anschein abtun, der ihrer Geister
reine Bewegung manchmal ein wenig behindert.11
– Что такое? – обеспокоилась Кэри. – У тебя все волосы встали дыбом, или мне кажется?
– Нет, не кажется… Дарья Аркадьевна взяла меня однажды на холм и заставила уснуть. Проснулся я уже ночью и увидел Млечный путь. И тут она начала читать стихотворные строки – другие, но из этой же элегии. Тогда я и вспомнил!
– Что?
– Кого.
– Кого?
– Тебя.
– Меня?!
– Тебя. Тебя, Кира, тебя.
22
Мы молчали, наверное, минуты две, боясь отвести глаза друг от друга, боясь нарушить молчание. Кэри взволнованно дышала.
– Я хочу, чтобы мы поженились, – легко, без усилий выговорилось у меня. – Но, так как сейчас не время, нам лучше всего заключить помолвку.
Девушка потрясла головой, как бы стряхивая наваждение.
– Спасибо, я тронута. Это тебе… мои родители предложили?
– Нет, предложил я сам.
– Но ведь ты – встречался с ними сегодня утром? Я правильно догадалась? Вы обсуждали, какую узду накинуть на эту взбесившуюся кобылку?
– Ты не взбесившаяся кобылка, но пожалей и их тоже! Нехорошо так пугать людей, и читать Халиля Джебрана живым родителям тоже нехорошо.
– Следующей твоей фразой, наверное, будет «Вырастешь – поймёшь, почему!»?
– Да нет, – грустно отозвался я. – Куда уж мне говорить следующие фразы! Ты ведь их и слушать не будешь. С тебя станется сейчас выйти и никогда больше не вернуться, это я тоже понимаю.
– Я бы так не поступила, но… ты, значит, этого боишься?
– Боюсь, но заранее принимаю такой вариант, мысленно готовлю себя и к нему. Какой у меня ещё есть выход?
– То, что ты говорил про брак, про помолвку, – всё правда? Это тебя не мои динозавры потянули за язык?
– Правда – и уж, конечно, не твои динозавры.
– О, ты всё-таки смелый человек! Предлагаешь мне выйти за тебя замуж, а боишься, что я прямо сейчас уйду и больше не вернусь…
Кэри села на кухонный табурет и положила ногу на ногу. Прикусила губу. Подперла подбородок правой рукой. Уставилась, не видя меня, куда-то вдаль. Несколько раз она порывалась заговорить – но прерывала себя, будто считала, что сказанное дальше окажется слишком грубым, или будто находила новые соображения. Я с беспокойством ждал.
– Я согласна на помолвку, – произнесла девушка наконец. – Иначе ведь ни тебе, ни мне не будет никакой жизни… Согласна. Но – с одним условием. Если бы ты предложил мне её сам, полностью сам, и хотя бы на день раньше, не было бы никаких условий. А сейчас, прости, будет. Ты должен будешь выполнить одну мою просьбу.
– Какую?
– Какую? Сама не знаю – ещё не придумала! До лета придумаю, обязательно. И сначала твоё обещание её выполнить, потом помолвка, идёт?
Видя моё вытянутое лицо, она рассмеялась:
– Ну, соглашайся же, соглашайся! Если я попрошу чего-то безумного, ты всегда сможешь сказать моим динозаврам, что мы разошлись, потому что ты не нанимался выполнять все хотелки этой сумасшедшей. Умоешь руки, и поминай как звали!
– Я бы предпочёл, чтобы ты не называла своих родителей так, – но как ты всё-таки плохо обо мне думаешь!
– Нет-нет-нет! – она вскочила с табурета. – Я чудесно о тебе думаю! Просто…
– Просто – я всё же обычный человек, негероического склада, выше головы не прыгну, оттого приходится ставить условия? – вдруг догадался я.
Кажется, я попал в точку: девушка густо покраснела.
23
Родителям девушки я сообщил о её согласии в тот же день, и они искренне меня поздравили. Спасибо большое, но… как же условие? Кэри обозначила: сначала моё обещание выполнить её просьбу, помолвка потом.
Потянулся странный месяц моего неопределённого состояния, в котором я то ли считался женихом, то ли не считался. (Ирина Константиновна, узнав про условие от дочери, мне посочувствовала, а на неё ещё больше рассердилась.)
За этот месяц неожиданно для меня произошли два события, правда, вовсе не на моём «личном фронте». События для читателя покажутся малозначимыми, и всё же я обязан их упомянуть для полноты картины.
Во-первых, в середине месяца, после ухода прежнего начальника отдела, я нежданно-негаданно для себя стал новым. Возможно, меня выдвинули как компромиссную фигуру, но правда и в том, что я был в фирме и раньше на хорошем счету. Не могу сказать, чтобы работы у меня значительно прибавилось – просто изменился её характер. Я всё больше вникал в чужие дела, вместо того чтобы вести свои. Открытие собственного адвокатского кабинета откладывалось, да и то, от добра добра не ищут. Моя зарплата, что очевидно, тоже увеличилась.
Во-вторых – и это оказывалось, как ни цинично, хорошей новостью – умер брат моего отца, дядя Андрей. Мои родители ушли ещё раньше, когда я был женат на Кристине, но от дяди Андрея, человека сравнительно молодого (ему и шестидесяти не исполнилось) я не ждал такой ранней смерти. Жены, детей, других племянников и племянниц у дяди Андрея не было – я стал единственным наследником.
Опущу суету вокруг вступления в наследство, а также хлопоты ремонта в доставшейся мне квартире, которую я, закончив ремонт, почти сразу сдал. Сдал – и обнаружил, что у меня теперь есть источник, как сейчас принято говорить, пассивного дохода.
Ах, да: достались мне от дяди также заброшенная дача (её я продал и положил деньги на депозит) и Volkswagen Golf, почти новый, всего четырёхлетний (уже полностью современного вида, с плавными, «зализанными» обводами). Приходила мне пора расставаться со своей старушкой (напомню, долгое время я ездил на Daewoo Nexia). И то, две машины содержать накладно, да и где? В своём дворе я для одной-то еле-еле находил парковочное место.
Однако проще это сказать, чем сделать! Во-первых, недаром говорят, что старый друг лучше новых двух. Во-вторых, только я, победив свою сентиментальность, разместил объявление о продаже, как на меня обрушился вал звонков так называемых перекупов: хамских типов, каждый из которых стремился сбить цену, иногда – до анекдотической. Один из них, помню, и вовсе заявил мне, что за моё «ржавое ведро с болтами» никто и «тридцати рублей» не даст (то есть тридцати тысяч: в одном из изводов русского языка тысячи называются просто рублями. Подозреваю, что так говорят те же самые люди, что используют выражения вроде «метнуться кабанчиком» и «человечек порешал проблемку».) Сам ты ржавое ведро с болтами…
Разговаривать с профессиональными хамами – тоже своего рода умение. Ему нужно учиться, но учиться было и неприятно, и лень. Не найти ли другой способ продажи? (И способ я в итоге нашёл, но об этом – немного позже.)
Рутина продаж, наследственных действий, возни с ремонтом, общения с арендаторами вынуждала меня видеться с Кэри ещё реже, чем раньше. Она продолжала своё расследование, помимо «Непонятых» раздобыв ещё и некий личный дневник Аллы Флоренской, который пока не могла прочитать: электронное издание тоже появилось на одной из зарубежных площадок. Очень хорошо, очень славно, но что же она от меня в итоге попросит? Прыгнуть с парашютом? Ну, это, положим, ещё куда ни шло, хотя и боязно… Или арендовать коня в конно-спортивном клубе, чтобы мне проехать на этом коне верхом через центр города в голом виде, уподобившись мужской версии леди Годивы? Вот уж мерси! Наверное, со всей вежливостью я всё-таки откажусь от выполнения такой просьбы. (Или не откажусь?)
24
Так неприметно настал май – месяц, в котором в прошлом году я впервые познакомился с Дарьей Аркадьевной. Точной даты я не помнил, но разве сердцу нужны точные даты?
Одним субботним утром мне захотелось навестить любое из связанных с ней мест. Дачный домик отпадал: он пробуждал слишком много грустных воспоминаний. Оставался тот двухэтажный деревянный дом, в котором мой учитель прожила полтора месяца в своём семнадцатилетнем возрасте. (Бог мой, тоже в семнадцатилетнем! Что это за неизъяснимый возраст для девушек – возраст самых важных решений, самых больших открытий, самых серьёзных сражений? Или просто – так совпало? Или учитель всегда оставляет отпечаток на уме своих учеников, влияет на них больше, чем это заметно со стороны? Правда, Кэри и полноценной-то ученицей Дарьи Аркадьевны не была и только раз её видела.)
Дом так и стоял на своём месте. Будто бы он ещё немного потемнел, ещё немного покосился и ещё самую малость врос в землю – ну, или мне так показалось. Второй этаж выглядел необитаемым, но на первом окошко было открыто – ветер колыхал тюлевую занавеску.
Я вспомнил, что где-то у самой стены, у нижнего яруса брёвен, мой учитель оставила маленькую фигурку из эпоксидной смолы: наставник и девочка, сидящая у его ног на коленях. Мне захотелось разыскать эту фигурку в траве, но, подумав, я бросил эту мысль. Истинная память – не в вещах, а в сердце. Да и не зря же она была здесь оставлена! Духам места лучше знать, что́ с ней делать.
– Если у этого места есть домовой, двери моего дома ему тоже всегда открыты, – вдруг произнёс я вслух очень странную, невероятную фразу, о которой за секунду до того, как её сказать, и думать не думал. Все мы, даже самые рациональные люди, совершаем множество безотчётных действий, просто редко их за собой замечаем и редко себе в них признаёмся.
25
Тем же вечером, в ночь с субботы на воскресенье, мне впервые приснился Серенький Волчок.
Выделив это удивительное имя, я сталкиваюсь с необходимостью отделения в моём тексте яви от снов. У этих двух, пользуясь выражением Алексея Ильича Бердичева, доктора философских наук, заведующего кафедрой философии ***ского государственного университета (и при этом препротивного субъекта!), разный онтологический статус. Коль скоро курсив так хорошо лёг на имя главного персонажа моего сна, все последующие важные сны тоже будут даны курсивом.
Серенький Волчок во сне явился мне неподалёку от дома, который я посетил накануне. Кажется, до моего появления он хотел печь картошку в костре, но, почувствовав моё приближение, отложил своё занятие.
Выглядел он совсем не страшно: как существо скорее сказочное, чем как хищный зверь. Без всяких усилий он вставал и сколько угодно мог простоять на задних лапах, да и говорить тоже умел: примерно так же, как говорила увиденная мной в одном из «странствий» Кара, собака, жившая у нас дома в моём детстве. Шевелить губами ему не требовалось: я понимал его мысли сразу. В его движениях удивительным образом сочетались неловкость, телеповатость сельского мужичка и грация смелого, свободного животного. Глаза у Волчка были большие и выразительные.
– Кто ты? – осторожно спросил я удивительного зверя.
– Я – дух этого места, – пояснил мой волшебный собеседник. – Ты ведь сам меня к себе пригласил. Или ты забыл?
– Ты не очень похож на домового…
– Да, ты прав! Но я не совсем домовой, видишь ли. Обычные домовые действительно похожи на людей, только меньше ростом. А я – дух полузаброшенного дома и безлюдного пространства. Я – лар, если тебе знакомо это слово. А лары могут выглядеть как угодно. И ещё мы, в отличие от домовых, не привязаны к одному дому. Мы можем перемещаться между ними.
– Я… должен оборудовать для тебя место в своей квартире?
– Не знаю… В современных домах, особенно жилых, мне скучно, тоскливо. Знаешь что? Сделай для меня маленький шалаш и поставь его в укромном углу. А рядом – фигурку лисы, у тебя есть. И волка, только не большого волка, а волчка, вроде меня. Я буду тебя навещать – иногда.
– Ты… ведь не просто так мне приснился?
– Ты угадал. Я хочу рассказать тебе сказку.
– Сказку?
– Да, сказку. Я не сам её придумал. У меня есть друзья в соседних мирах. Хоть я в эти миры пробраться не могу, они могут ко мне спуститься. И вот они рассказали мне сказку. Слушай!
Жила-была Цветущая женщина, переплывшая море. Ей дали знать, что её умерший любимый живёт на Горе Мёртвых. На эту гору она взобралась с немалым трудом, но любимый отвечал ей: рано, ещё не время. Живым на этой горе нельзя находиться долго. Поднимись ко мне через год, когда сделаешь всё, что нужно сделать в долине.
Цветущая женщина спустилась с Горы Мёртвых и принялась писать Поэмы. Поэмы непростые: что-то волшебное было в них. Ветер вырывал из её рук Поэмы и нёс по всему свету.
Падая, Поэмы превращались в грудных младенцев. Один оказался в глухом лесу, другой – в деревне, третий – на городской площади, а было их больше полудюжины. Младенцы до сих пор лежат там, где приземлился лист бумаги. Им холодно и голодно, никто не даст им груди, никто не переменит пелёнок.
Кто-то должен разыскать этих братьев, обогреть их, спеть им колыбельную.
Я бы рад, да не могу! Я всего лишь Серенький Волчок, у меня вместо рук – когтистые лапы. И пою я так себе…
Волчок замолчал.
– Что же, это вся твоя сказка?
– Да, это вся моя сказка! Есть дваждырождённая девушка-кшатрия, однажды потерянная и снова найденная. Может быть, ей от моей сказки будет больше проку. Или нет…
26
Проснувшись, я немедленно записал свой сон. Немного подумав, оформил его и скормил одной из моделей искусственного интеллекта (ИИ) с просьбой проанализировать его смысл в психоаналитической парадигме.
До сих пор не понял, как относиться к моделям ИИ. Кажется, эти (псевдо)сушества невероятно умны, но всё же их уму чего-то не хватает – человечности, наверное, а может быть, мудрости. (Знаю, что пишу банальности, которые уже сотни раз написаны до меня.) Вся жизнь этих созданий проходит в знаках и цифрах, а разве жизнь человека сводится к знакам и цифрам? Разве может искусственному интеллекту присниться сон о Сереньком Волчке?
Так или иначе, машина пояснила, что́ именно означает мой сон: конфликт между желанием и долгом, архетипическую инициацию, проблему ответственности, стремление отложить важное решение, страх отцовства (?!). Ну да, ну да. С тем же успехом мог бы я обратиться и к цыганке, которая нагадала бы мне дальнюю дорогу и казённый дом. Цифровое шулерство взамен аналогового, те же самые testicles12, только вид сбоку, используя выражение шестнадцатилетней Каролины.
Но, кстати, о Каролине: кем ещё, кроме неё, могла быть девушка-кшатрия из сказки? Подумав о ней, я написал Кэри сообщение, в котором с юмором дал ей знать, что видел причудливый сон о некоем мифологическом персонаже из недр русского коллективного бессознательного, который при случае готов ей рассказать. Именно при случае: спешки никакой нет…
Кэри думала иначе и оказалась у меня дома тем же утром, хоть этой весной нечасто баловала меня визитами по воскресеньям.
Что ж, пришлось рассказывать сон. Я рассказывал – а прекрасные её карие глаза всё ширились, ширились. И не одни глаза – крылья носа трепетали, и вся она была похожа на хищного зверя, готового броситься на добычу!
– Это всё колоссально важно! – сообщили мне, едва я закончил свой рассказ.
– Не уверен…
– Зато я уверена! Построй шалаш Волчку, обязательно! А смысл – смысл я пока не разгадала… Но буду над ним думать! Всё брошу, всё сдвину в сторону, а над этим твоим сном – подумаю.
– Кэри, я почти виню себя за эту глупость! Ты готовишься к выпускным экзаменам и поступлению в вуз, времени в твоей жизни и так немного, а тут какой-то седеющий дядька предлагает тебе разбираться со своими травмами и страхом отцовства…
– Ах, дурак! – ласково вздохнула Каролина. – Не ты дурак, а твоя нейросетка. Что это было, кстати: ChatGPT или DeepSeek? Хотя и ты, если веришь в то, что они тебе наговорили, недалеко от них ушёл. При чём здесь страх отцовства? Неужели ты не видишь, что пережил настоящий мистический сон? Будь я к тебе равнодушна, я бы в тебя влюбилась за один этот сон, понимаешь? Жди – в следующую субботу постараюсь приехать к тебе с разгадкой!
Но Каролина появилась раньше. Вернувшись с работы в среду, я обнаружил её сидящей на диване. (Я всё же дал ей ключ от квартиры – и то, какая в этом могла быть беда?)
– Мне неловко, – тихо начала она, увидев меня, даже не здороваясь.
– За что неловко?
– За то, что так долго провозилась, а смысл – на ладони! Как я не догадалась раньше? Я знаю, ты с работы, ты устал, тебе меньше всего хочется сейчас вникать в мои бредни, ты хочешь ужинать, и я сделаю тебе ужин – яичницу, больше пока ничего не умею, – но только садись напротив меня и, ради Бога, послушай! Готов?
Цветущая женщина – Алла Флоренская. Море она и переплыла: Британия – на острове. Про её восхождение на Гору Мёртвых ничего не знаю. Но про Поэмы, ставшие Детьми, знаю точно: Дети – её картины! Они разлетелись по европейским столицам и городкам помельче. Им там холодно и голодно: их держат в запасниках и даже ленятся оцифровать…
Ну что же, а теперь – главное: моя просьба. Видишь, я успела до лета!
Каролина глубоко вдохнула и на секунду прикрыла глаза. Продолжила совсем особым, значительным голосом:
– Этим летом мы с тобой отправимся в Европу. Там мы разыщем картины Аллы Флоренской – все, что сумеем разыскать. Тщательно сфотографируем их, составим описание к каждой и издадим отдельным альбомом. А те, что получится, постараемся вернуть в Россию, где им и место.
У меня не в переносном, а в самом буквальном смысле отвисла челюсть. Видя эту простецкую реакцию, девушка довольно рассмеялась:
– Здорово я сочинила, да?
– Кэри, это безумие! Тебе семнадцать лет, ты даже границу не сможешь пересечь без родителей!
– …Или сопровождаюшего. Вообще, я не верю, что твоя светлая юридическая голова не придумает что-нибудь. Главное препятствие – мои родители, конечно. Видишь, даже не назвала их сегодня динозаврами! Но их я беру на себя… Милый мой! – с нежностью протянула она. – Да у тебя ведь даже нет другого выхода! Ты дал мне обещание, а слово надо держать!
– Понимаю, каждой юной девушке хочется посмотреть Европу…
– Нет, нет, нет! – строго и раздельно выговорила, почти выкрикнула Каролина и встала. – В гробу я, вот уж без шуток, видала твою Европу! Дело не в Европе, а в нас, потому что это мы, мы – последняя Европа! И ещё – в могилах, которые зарастают травой и уходят под землю. Вот ведь ирония: она писала о драгоценных надгробьях – и сама стала таким драгоценным надгробьем. Его нужно сохранить! Надпись на нём нужно расшифровать! Это простая справедливость, это то самое дуновение от юных мёртвых, судьба которых говорит с нами! И этого никто, никто, кроме нас, больше не сделает – не способен сделать! Алла училась у того же учителя, который стал наставником нашего учителя. Мы – самые близкие ей люди, и у неё нет людей ближе!
Несколько секунд мы глядели друг на друга, ничего не говоря.
– Бедные, бедные Михаил Сергеич и Ирина Константиновна, – произнёс я, словно думая вслух. – Какой, однако, сюрприз ты им припасла!
27
Кэри начала «готовить» своих родителей к её поездке – и таки подготовила их! Да, впрочем, читатель уже видел, что она умеет быть настойчивой. Уж не знаю, чем она добилась своего: лаской, постепенностью или грубым шантажом в стиле незабвенной Фаины Георгиевны Раневской («Девочка, скажи, что ты хочешь, чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?»). Вот и здесь вполне могло быть что-то вроде «Мамочка, чего ты больше хочешь: чтобы я летом поехала с Олегом Валерьевичем в Европу, отправилась на фронт или принесла вам в подоле от первого встречного?».
Возможно, Каролина добивалась своей цели немного слишком прямолинейно и несколько перегнула палку. Был миг, когда её родители решили: хватит! Невозможно! Пусть делает, что её душеньке угодно: подаёт в суд на родных родителей, едет на СВО санитаркой, рожает хоть тройню разом от всей футбольной сборной Нигерии! И пусть оставит нас в покое, если мы для неё оказались недостаточно чуткими и возвышенными, и пусть освободит квартиру в двадцать четыре часа!
Кэри не нужно было уговаривать. Она собрала рюкзак («собрала чемодан» звучало бы драматичнее, но чемодана у неё весной ещё не было), итак, она собрала рюкзак, и вечером буднего дня я обнаружил её у себя дома на кухне, жарящей мне на ужин картошку у плиты как заправская хозяйка. Даже мой единственный фартук надела. (Картошку, правда, она сожгла. Ну и Бог с ним, все мы всё когда-то делаем в первый раз: и жарим картошку, и убегаем из дому.)
Что ж, я принял её явление мужественно – да и куда, спрашивается, ей было ещё идти? Всё же едва ли не половина того вечера свелась к моей попытке втолковать ей, что маме надо бы позвонить – она же, улыбаясь и щурясь, словно довольный кот на солнышке, невозмутимо отвечала: да, да, я прав, конечно, и она позвонит, обязательно – но только после десяти вечера. Надо выдержать характер! Уже задним числом я понял, чтό это мне напомнило: лобовую атаку двух истребителей, как её описывают книги о Великой отечественной вроде «Повести о настоящем человеке». В такой атаке обычно побеждал тот, кто ждал, когда противник отвернёт первым.
Если моё сравнение было хоть отчасти верным, то Кэри «победила»: звонок Ирины Константиновны поступил на мой телефон без пяти десять, и я взял трубку с огромным облегчением.
По итогам телефонного разговора Каролина всё же поехала домой. Её мама спустилась к моей машине и, сев на переднее пассажирское сиденье, на котором только что сидела дочь, принялась мне выговаривать яростным шёпотом (зачем, кстати, шёпотом?): почему я не позвонил за всё это время? Я защищался: как бы мне удалось позвонить, если её дочурка глаз с меня не спускала? И потом, Ирина Константиновна, поставьте всё же себя на её место, то есть не на моё, а именно на её – впрочем, и на моё тоже…
28
Вскоре после этого демарша родители Кэри дали наконец принципиальное согласие на нашу поездку. С массой оговорок, разумеется! Все эти оговорки предполагалось предъявить нам во время большого разговора, в ходе которого также следовало определиться с датами и прочими подробностями, финансовыми и юридическими. Сам разговор, по их убеждению, мог состояться (в итоге и состоялся) лишь после помолвки. Девушка попробовала было оспорить такой порядок, но тут уж её родители упёрлись, встали каменной стеной! В итоге она согласилась: выиграв главную битву, разумно было пожертвовать резервами.
Желая извлечь из помолвки максимум, родители Каролины настаивали на церковном обручении. Я не противился. Кэри в итоге дала своё неохотное согласие, правда, не забыв ввернуть (дело происходило на квартире Устиновых), что православной себя не считает, а оттого в упор не видит, чему поможет обручение именно по православному обряду.
– Ради Бога, считай себя кем хочешь! Но с твоей стороны было бы умней об этом промолчать, – заметил отец. Мать же только замахала на неё руками и повернула ко мне виноватое лицо, как бы говоря: «И вот с этим, Олег Валерьевич, нам приходится иметь дело каждый Божий день! Ну правда: вы хорошо подумали? Намаетесь ведь за жизнь…»
Найти храм, иерей которого согласился бы обручить несовершеннолетнюю, причём отделив этот обряд от собственно венчания, оказалось крайне непростым делом: в наше время, как я сумел понять, Церковь стала едва ли не правой рукой государства (а часто ли в нашей русской истории бывало иначе?), оттого трепещет перед одной мыслью о чём-то юридически возбранном.
При этом Качинский, к которому я обращался за консультацией, уверял меня, что никаких сугубо канонических препятствий для обручения несовершеннолетней не имеется. Существует, правда, установленная в 1775 году Святейшим синодом норма: соединять обручение непосредственно с венчанием. Но ведь современная Церковь Святейшим синодом не руководится! Норма имеет только историческое значение и соблюдается в силу традиции. Так – в теории. На практике же опасение священнослужителей понятно: они боятся гнева священноначалия (такова уж судьба русского иерея!), а дополнительно – и того, что обручение без последующего скорого венчания со стороны пары окажется баловством. («И разве вы, Олег Валерьевич, кинете в них за это камень? Понимаете теперь, отчего я собственно во иереи никогда не был рукоположен, а ограничился диаконской хиротонией?»)
Мне пришлось выслушать отдельное сокрушение Семёна Григорьевича о том, что я, ученик Дарьи Аркадьевны, теперь играю по православным правилам. Ах, я бы охотно не играл по ним, если бы не родители девушки!
Несговорчивость православного духовенства истощила терпение Ирины Константиновны – она давно уже готова была согласиться на обычную гражданскую помолвку. (Легко, впрочем, лишь написать это словосочетание – «обычная гражданская помолвка». А как её совершить? Традиции утеряны, всё приходится изобретать заново, и всякий, столкнувшийся с необходимостью, ныне проводит её кто во что горазд.) Но Михаил Сергеевич не опускал рук: он решил записаться на приём к правящему архиерею.
И ответ от митрополита нашей епархии он действительно получил! Чувствую, что рассказ об этом очень своеобычном ответе достоин отдельного фрагмента.13
29
Ближе к концу мая отец моей пока-ещё-даже-не-невесты позвонил мне во время рабочего дня и напросился прийти ко мне прямо в «Восход», чтобы обсудить «юридическую сторону важного документа». Само собой. Узнав по телефону, что документ к тому же касается Кэри, я заявил ему, что денег с него не возьму – ну, или если ему это принципиально важно, оплачу его посещение из своего собственного кармана. Последовала долгая «битва деликатности», в ходе которой каждый стремился взять оплату на себя, и мы решили в итоге оплатить его «консультацию» вскладчину, если это потребуется. (Забегая вперёд: делать этого не пришлось. У начальника отдела всё же немного больше полномочий, чем у рядового сотрудника.)
– …Будьте любезны, Олег Валерьевич, взгляните на этот шедевр! – Устинов протягивал мне распечатанный лист, на котором чёрным по белому стояло: в ответ на прошение такого-то с просьбой о благословении на совершение Таинства Венчания над его дочерью последовала резолюция Высокопреосвященнейшего (Имя), Митрополита такой-то епархии: «В виде исключения при наличии серьёзных намерений разрешается». Подпись секретаря епархии. Печать.
– Хороший документ – сдержанно, но почти сердито отозвался я. – А что, Михаил Сергеевич, вы действительно именно этого благословения просили?
– В том-то и дело, что нет, Олег Валерьевич! – собеседник развёл руками, шумно опускаясь в кресло. Видимо, и стены моего кабинета, и сама сложность проблемы заставили его вспомнить моё отчество. – В том-то и дело, что нет: за кого вы меня принимаете! Я просил разрешения на православную помолвку!
– Просили сотку, получили гектар.
– То-то и оно… Уже сто раз пожалел, что вообще это затеял… Чтó вы думаете? Как к этому относитесь?
Мне действительно пришлось задуматься, и думал я не меньше минуты (Михаил Сергеевич беспокойно ждал). Произнёс наконец:
– Я от венчания не отказываюсь, я от него не убегаю. Но скажу вам честно, что у меня от этого документа волосы на голове встают дыбом! И вовсе не по причине чрезмерной ответственности! А потому что меня ужасает мысль прямо сейчас заключать церковный брак с ещё несовершеннолетним, не полностью сформировавшимся, не познавшим себя и свои намерения до конца человеком. А вдруг Кэри, простите, Каролина передумает? И то, что этот брак будет только церковным, мне тоже отчего-то очень сильно не нравится….
– Вот-вот! – подхватил собеседник. – А я, признаться, ещё кое-что себе вообразил. Разрешите совсем откровенно, как на исповеди? Подержат над вами венцы, переедет она к вам, забеременеет – и ну как пробежит между вами чёрная кошка. Вы, что, не знаете, какая она? Уж небось насмотрелись… Мама, папа, принимайте неудавшуюся дочку, которая поиграла в семью и проиграла! Тогда имеем на руках несовершеннолетнюю мать-одиночку и вас, который нам после этого стал никем, даже не бывшим мужем, потому что по закону государства, а не по церковным измышлениям, женаты вы так и не были!
– С языка сняли. Я, конечно, в этом случае не откажусь от брака: при беременности несовершеннолетней наступает её правовая эмансипация. Только…
– …Только «в этом случае» она и сама откажется! Что, нет?
– Конечно, откажется. Михаил Сергеевич, мы тут, два высокоумных старца, сидим над проблемой, которая выеденного яйца не стоит, – осенило меня. – Начнём с того, что Каролина прямо сейчас не согласится на венчание. Она на помолвку-то не знаю как согласилась! Как предложил ей, так у меня сердце и ушло в пятки! Боялся: встанет, выйдет и больше не вернётся! А если и согласится, вы же слышали от неё самой, что православной она себя не считает. И что это выйдет за венчание? Смех один! Как говорится, «оба варианта хуже».
Устинов тяжело вздохнул, пробормотав, что его одно радует: то, что мы видим проблему одинаково.
Видели мы её, конечно, по-разному. Перед моими глазами стояла хрупкая Кэри с ребёнком на руках, придавленная, не приведи Господь, ужасным пониманием: я – не тот человек, с которым она хочет прожить всю жизнь. А в схожей картине, которую созерцал мысленным взором Устинов, для меня места и вообще не было.
И вновь посетила меня мысль – до сей поры не знаю, очень ли светлая.
– Возьмите этот документ, Михаил Сергеевич, – произнёс я полушёпотом, – и идите с ним к приходскому батюшке. И аргументируйте ему так: Преосвященнейший Владыка разрешил даже венчание! Уж такую малость, как частное благословение будущего венчания на дому, он и тем более не воспретил! Первое перекрывает второе.
(На мысль о возможности частного благословения ещё раньше навёл меня Качинский.)
Устинов, поднявшись, протянул мне руку и пожал мою руку как будто с большим чувством. За что он меня благодарил этим рукопожатием? Сам не знаю. Может быть, за то, что мы неожиданно оказались союзниками и сегодня он впервые в этом уверился? Пожалуй. А правильно ли мне было становиться союзником родителей Кэри? Но, с другой стороны, как бы я мог поступить иначе, учитывая, что девушке не исполнилось восемнадцати? И как бы я мог не заметить эту протянутую руку, и буквально, и метафорически?
Не могу сейчас понять, хорошо ли мы тогда всё задумали, да и у кого это спросить? Жизнь не отмотаешь назад. Наверное, хватило бы тогда светской помолвки без дополнительных «церковных украшений»: сговариваться о чём-то за спиной любого человека даже ради блага этого человека – не самый безупречный способ поведения. В оправдание нас с Устиновым скажу, что хотели мы, разумеется, как лучше.
30
Всё произошло так, как мы и хотели. Каролине про документ от Владыки мы даже не стали ничего говорить, отделавшись общими фразами. При этом один батюшка, изучив резолюцию митрополита, согласился благословить будущее венчание «в семейном порядке» прямо на квартире Устиновых. Нечто вроде сокращённого обручения, хотя канонически такое частное благословение обручением, конечно, не являлось.
«Если помолвка – это договор между собой двух людей, то какое дело Церкви до этого договора? – пришла мне в голову перед самим обрядом очень неблагочестивая мысль, даром, что «частное благословение» предложил я сам. – Отчего она вначале самовольно присвоила себе право освящать то, что, по уму, и освящать не должна, после сама же себе запретила такое освящение, руководствуясь вовсе не боговдохновенными принципами «Как бы чего не вышло!» и «Тише едешь – дальше будешь!», а воспретив его себе, воспретила и всем верующим? Отчего физиономия среднего православия так похожа на физиономию среднего русского бюрократа?»
Но как пришла она, так и ушла: молодой батюшка был доброжелателен и симпатичен, а я, в конце концов, – не Лев Толстой и вообще не русский религиозный философ, чтобы об этом всём думать. Обряд занял минут двадцать. Родители Кэри были умилены, я растроган, сама же она, если и испытала какие-то чувства, ничем их не выдала.
А накануне помолвки между мной и моей невестой состоялся неожиданный для меня разговор с глазу на глаз. Девушка начала с того, что уже говорила своим родителям: дескать, предстоящий ритуал будет совершён православным священником, но она-то сама себя не считает православной! А значит, и его действенность…
– Так, и что же? – не понял я. – Ты захочешь «перепомолвиться» по какому-то другому обычаю?
– Нет, не захочу. Я – ты не представляешь, как мне сложно это произнести! – покраснев, Кэри выпалила: – Я не обещаю после выйти за тебя замуж!
– Господи ты мой Боже…
– Только пойми меня, пожалуйста, правильно, – тут же виновато заторопилась она, – это не значит, что не собираюсь! Не «не собираюсь» и не «не хочу» – а вот просто не обещаю!
– Да кто в наше время это может обещать? – заметил я философски, но с грустью, конечно. – Смешно думать, будто помолвка на человека накладывает неотменимые обязательства или даёт другой стороне гарантии! Брак-то в наше время их и то не накладывает! И рождение ребёнка, как я выяснил за свою жизнь, оказывается, тоже…
– Правда! Но разве честно было бы с моей стороны не предупредить заранее? Всё сильно зависит от поездки… Мне будет очень больно, если ты подумаешь, что я тебя и всю эту историю с помолвкой просто использую, потому что это не так, не так!
– А я вот не понимаю одного: ты хочешь передо мной поставить какое-то испытание, как в русских сказках? Поймать Жар-птицу, перепрыгнуть огненную реку?
– Нет, конечно, глупый человек! Это не для тебя, а для меня испытание! Вдруг я пойму, что для обычной, нормальной семьи вообще не пригодна, а должна посвятить жизнь чему-то другому?
– Эх! – вздохнул я. – Ну и рассердятся же на меня твои родители, если так случится….
– Нет, рассердятся они на меня, а тебя будут жалеть. Ты… всё ещё согласен на завтрашний ритуал, после всего, что я сейчас наговорила?
Я ответил не сразу, и теперь пришла пора Кэри беспокойно ждать моего ответа.
– Я слишком тебя люблю, чтобы не согласиться, – в итоге выговорилось у меня.
Девяносто девять девушек из ста мой ответ бы устроил, правда? Кэри его было недостаточно.
– Любишь – почему? – спросила она серьёзно, пытливо, внимательно. – Как последнюю надежду, как уже немолодой человек, который хватается за последнюю соломинку? Или за «физические достоинства»? – которые в моём случае не такие уж и достоинства… Или за человеческие качества? Но если так, то я сама удивляюсь, за что, верней, боюсь: я же ещё слишком молода, я не совершила ничего важного, я ещё, если ко мне прикладывать линейку настоящей человечности, – не полностью человек, не вполне человек! Или авансом? А вдруг я не оправдаю твоего аванса? Или… за прошлое, из чувства вины? – а мы даже не знаем, я ли это тогда была… Ты не удивляйся, пожалуйста, что я задаю эти вопросы! Я сама так ими измучилась, так измучилась…
Ну, что отвечать на такое? Тем более что я и сам не знал ответа. Вот вам простенькая житейская мудрость: обнимите свою невесту и ждите, когда её сомнения пройдут. У совестливой, умной и чуткой девушки они не пройдут полностью – но вы выиграете время, а это уже кое-что.
31
В конце мая – начале июня Каролина сдала Единые государственные экзамены с высокими баллами. Вместе с «дополнительными баллами», которые ей принесла победа в олимпиаде, у неё имелись неплохие шансы поступления на бюджетное место на выбранный ей факультет. (На скверный случай существовал и «запасной вариант», верней, целых два варианта, которые мы по молчаливому уговору пока не обсуждали.)
Родители девушки вздохнули с облегчением – признаться, и я тоже. Каролина о своём поступлении беспокоилась меньше всех нас. По её словам, никакой острой необходимости поступать куда-то вообще не было: она верила, что её прокормит веб-дизайн.
Кто знает, возможно, она не так уж ошибалась! Ради полноты картины: в апреле Кэри уже взяла пару заказов, больше ради того, чтобы увериться в своих силах, чем из настоящей потребности в деньгах, и успешно их закрыла, получив первый в своей жизни заработок.
Документы вуз начинал принимать двадцатого июня. Первый приказ о зачислении («приоритетном») должен был быть издан в конце июля, второй («основное зачисление») – до девятого августа. Боюсь, что поясняю вещи, и без того хорошо знакомые абитуриентам и их родителям, – не лишнее ли?
Родители Кэри справедливо и разумно предлагали нам дождаться приказа – а после уже ехать куда душа пожелает. Но нет, здесь снова коса нашла на камень! В голове девушки уже был ясный маршрут и план (о нём скажу позднее) – ждать до девятого августа этот план никак не позволял. И как же их обещание, в конце концов?!
На заочное отделение, в отличие от очного, приём осуществлялся до конца августа, и компромисс был найден: если Кэри не окажется ни в первом, ни во втором приказе – ей учиться заочно, а для подачи документов – нам возвращаться из нашего турне раньше срока. На тот случай, если бы и на заочном отделении не нашлось бюджетного места, мы с Михаилом Сергеевичем в беседе с глазу на глаз прикинули возможность платного обучения для его дочери (с подачей документов до середины сентября), решив ей об этой возможности пока ничего не говорить. Вскладчину это выходило посильно. Верней, он мог бы взять за себя оплату обучения и полностью, но ему не нравилась сама идея платного образования. И вовсе не по каким-то социалистическим убеждениям, а вот почему: эта «скверная девчонка» на восемнадцатом году жизни проявила такое невиданное упрямство, такую чёрную неблагодарность («…И главное, на пустом месте, Олег Валерьевич, на пустом месте! Разве мы ей что-то запрещали?»), что сам Господь от него не мог бы потребовать невозможного: нельзя же заботиться о человеке, который сам не разрешает вам о нём заботиться! Что ж, справедливо. При этом я был почти убеждён, что Кэри, с её характером, откажется от возможности учиться в вузе платно, так что обсуждали мы идею больше для его спокойствия.
По тому, как я вдаюсь в едва ли не избыточные подробности, читатель уже может понять, что «большой разговор» наконец состоялся. В следующем фрагменте пару слов скажу и об этом разговоре. Приводить его дословно, наверное, совсем лишнее.
32
Едва родители Каролины, скрепя сердце, согласились на наш вояж в принципе («…Хотя именно сейчас – время самое, самое неподходящее! Нет бы подождать два-три года! Никуда она не денется за три года, твоя Европа!») и перешли к деталям, как она огорошила их: нет, мы собираемся посетить не одну страну, и не парочку, а целых пять!
– Пять стран! – ахнула Ирина Константиновна. – Карлуша, ты разоришь своего Олега…
Кэри нахмурилась: ей и без того была неприятна мысль, что за неё придётся платить мне, так зачем напоминать об этом ещё раз! (Она уже успела мне повиниться в том, что чувствует себя кем-то вроде sugar baby14 – ощущение, для неё крайне обидное, – и даже предложила вернуть мне часть её «долга» с будущих заработков. Тоже удумала…)
– В реальности получится меньше, – заметил я трезвым скучным голосом (а под столом легонько подтолкнул невесту ногой, дав ей знак, чтобы она мне не противоречила). – Мы поедем на средства, вырученные с продажи моей верной старушки, – не держать ведь мне две машины, согласитесь? – а на пять стран их не хватит. Наши прекрасные желания всегда сталкиваются с прозой жизни, так что будем по одёжке протягивать ножки, моя хорошая.
На самом деле одних денег с продажи не хватило бы в любом случае: я планировал добавить ещё примерно такую же сумму со своих банковских депозитов (да, вот такой я скучный серый дядька, который не играет на бирже, ни во что не инвестирует и не знает никаких более продвинутых финансовых инструментов).
Кэри притворно вздохнула, а лица её родителей разгладились. Доверившись моему здравомыслию, они уже не тревожились о нашем маршруте чрезмерно, и мы перешли к вопросам загранпаспортов, туристических виз и прочим прагматическим вещам.
Немного забегая вперёд: Михаил Сергеевич в частном разговоре после как будто бы повинился за то, что их финансовое участие оказывалось таким незначительным (родители Кэри оплачивали её визу и страховку, да ещё давали ей с собой небольшую сумму «на сувениры»). Но «ведь на прихоть же, Олег, на блажь!» Думаю ещё, что отец Каролины мысленно сравнивал расходы на нашу поездку со стоимостью платного обучения в вузе. (И кто в него кинет за это камень?) Ничто ведь не мешало ему вооружиться калькулятором, посчитать стоимость билетов и гостиниц. Если проделал он это всё, то наверняка обнаружил, что суммой, которую мы собирались потратить, можно оплатить три или даже шесть семестров учёбы. Ну, что за блажь, что за швыряние денег на ветер!
Для нас, в нашем возрасте, и правда блажь, поддакнул ему я (про себя не без иронии отметив его хлопоты о моём кошельке). Блажь, но в семнадцать лет как не захотеть повидать мир? Про Аллу Флоренскую и её картины я даже не заикался: объяснять это было бы слишком долго, сложно, да и, чего греха таить, мне самому была не до конца ясна история с сохранением наследия умершей русской художницы – верней, я мало верил, что из этого многое получится.
Вздохнув, Устинов со мной согласился и добавил: да, мы в её возрасте тоже отдали бы левую руку, чтобы съездить в Европу. Правда, где та Европа – предмет наших юношеских восторгов? Как удивительно быстро она обветшала, съёжилась, да? И всего-то за четверть века.
Но возвращаюсь к «большому разговору». Официальной причиной выезда несовершеннолетней за границу было предложено считать медицинскую; я объявлялся сопровождающим лицом, на которое оформлялась нужная доверенность.
(Ирина Константиновна нашла время посекретничать со мной отдельно вот на какой предмет: не кажется ли мне, что Каролина – действительно немного «того»? И может быть, пользуясь случаем, в самом деле будет нелишним показать её тому или иному европейскому психотерапевтическому гению? Я осторожно высказался о том, что её дочь, возможно, здоровей нас обоих. А что до её юношеского бунта, до «этого безобразного Халяля Жигана», неуместное цитирование которого я, поверьте, осуждаю вместе с вами, то попробуйте поглядеть на вещи и её глазами: девочка в тот поздний вечер выполняла первый в своей жизни платный заказ, и разве не славно, что она так рано нашла нечто вроде профессии? Всё же в шутку я заверил маму Каролины, что, если мы окажемся в Вене, обязательно заглянем к тому или иному психотерапевту, буде нам позволят время и финансы, хотя бы даже из чистого любопытства. Как же это – побывать в Вене и не заглянуть к психотерапевту? Почти как быть в Туле и не поесть пряника…)
Даже из одного предыдущего абзаца можно понять, на какие компромиссы мне приходилось идти и здесь, и там. Кстати, к чести Каролины: она почти всё время «большого разговора» была настоящей паинькой.
Когда весь утомительный толк и утрясание подробностей наконец завершились, Кэри нежданно призналась своим «старикам», что просто их обожает! Тут же она наговорила им массу хорошестей: дескать, только такие замечательные родители могли вытерпеть такую невыносимую дочь! Заодно и попросила прощения за все беспокойства, которые им причинила и причинит в будущем. («И причинит в будущем», видите? Новых беспокойств она не исключала. Паинька всё же показала зубки.) Пользуясь случаем, Кэри попросила прощения и у меня, что было уж вовсе неожиданно: меня она ничем не обидела. Кто хоть ей всё это подсказал, кто надоумил? Ирина Константиновна растрогалась, а Михаил Сергеевич, более сдержанный в чувствах, со вздохом заметил, что, похоже, его дочь ещё попьёт кровушки, если не из них самих, то из своего жениха. Мужайся, брат, мужайся…
Описание того, как мы получали визы, оформляли медицинскую страховку, бронировали билеты и гостиницы с помощью карты одного казахского банка, пожалуй, опущу: почти каждый из моих читателей хоть раз в жизни, да сталкивался с этим сам, оттого я не скажу ему ничего нового.
33
Первая часть близится к концу, а моё повествование – к нашей большой европейской поездке, которая началась тридцать первого июля. Мы выехали в путь ранним утром на моём автомобиле.
(Здесь – ещё одно «занудное» пояснение для читателя. Нет, я вовсе не был так наивен, что надеялся, будто смогу въехать в Шенгенскую зону с туристической визой на личном автомобиле, да ещё и с российскими номерами! Просто история с продажей «старушки» получила неожиданное продолжение. Уже не помню, по чьему совету – а то и просто по наитию – я в объявлении поменял город на «Минск». Количество нахальных перекупов поубавилось, и мне поступило несколько дельных предложений. В течение лета я несколько раз был близок к тому, чтобы «ударить по рукам». Правда, всё срывалось, когда покупатели узнавали, что автомобиль – российский. Наконец, нашёлся житель Минска – гражданин России, который соглашался ждать до августа и давал неплохую сумму: несколько меньше ожидаемой, но больше того, что я мог бы получить при продаже через посредника. Военный пенсионер, он, выйдя на пенсию, переехал в «последний оазис советского социализма». И то, можно было его понять… Ему по белорусским законам разрешалось невозбранно ездить с русскими номерами сколько угодно, а сделку через Госуслуги, если покупателя устраивал автомобиль, мы могли совершить за полчаса.
Итак, наш план состоял в том, чтобы, добравшись до Минска своим ходом, с пересадкой лететь в Грецию линией «Белавиа». Какой мужчина не мечтал прокатиться на машине с молодой красивой девушкой пару тысяч километров! Думаю, этот навеянный Голливудом образ тоже сыграл свою роль.)
Кэри дежурно улыбнулась мне, садясь в машину, но откинулась на спинку сиденья измученная.
– Я устала, – призналась она. – Я пол-лета боролась за то, что для меня – самое очевидное, самое важное, самое необходимое! А для них – фантазия, придурь…
– Ты ведь так и не рассказала родителям о том, зачем мы едем? Может быть, это упростило бы задачу.
– Какое! Даже не пробовала. Все же знают: если девочка хочет пойти на рок-концерт или в ночной клуб, её «динозавры» поворчат, но её отпустят. А если там на встречу с писателем, ещё сто раз подумают! Потому что непонятно, подозрительно, жутко…
– Ты очень, очень сгущаешь краски. Как твои родители предвзято судят тебя, так и ты их судишь предвзято. Тебе не кажется?
Девушка устало кивнула, но ничего не ответила. Мне показалось, что она ненадолго задремала. Затем я заметил, что она, проснувшись, украдкой вкладывает в уши капельки наушников.
Я попритворялся, что ничего не вижу, но любопытство всё же взяло вверх:
– Что ты слушаешь?
– Себя, – получил я загадочный ответ.
– Себя? Запись своего голоса?
– Нет, не своего… Просто эта музыка так во мне сейчас отзывается, так прорастает в меня, что мне кажется: я – это она, а она – это я. Не знаю, как иначе объяснить…
– А ты… могла бы вынуть наушники из гнезда, чтобы я тоже услышал, какой ты себя видишь?
– Могла бы. Только – ты действительно этого хочешь? И примешь то, что услышишь?
Я кивнул. Девушка отсоединила штекер от телефона.
Что ж, конечно, я не ждал, будто бы музыкальным двойником Каролины окажется кто-то из нашей безголосой эстрады или слащавая песенка в стиле K-pop. Я ожидал чего-то англоязычного, стильного и слегка бунтарского: что угодно из «битлов», например, ну, или любая композиция Coldplay, или голубой-сэр-как-бишь-его-там? – верно, Элтон Джон (на этом мои познания в области британского рока, увы, заканчивались). Я был, само собой, готов к Бобу Дилану, «Скорпионз», Фредди Меркьюри или, например, к Hotel California. Наверное, классно ехать по автостраде, когда ты – молодая девушка, а в ушах у тебя звучит Hotel California! Только для полноты ощущений нужно ехать через какой-нибудь южный штат, а не по среднерусской возвышенности, и в открытом кабриолете, а не в дедовском седане, и чтобы слева от тебя сидел горячий белозубый красавчик, а не потёртый жизнью дядька…
Но к тому, что услышу, я готов не был, и от россыпи упругих звуков у меня перехватило дыхание. Рахманинов, этюд-картина № 5, соч. 33. (Название я узнал позже.)
Как вообще описывать великую музыку? Мы, люди, беспомощны перед ней: перед чистотой её линий, перед её внутренним жаром и скрытой силой, перед её взволнованностью, перед её отточенной безупречностью.
Этюд закончился, и некоторое время мы ехали молча. Как мало я всё-таки знаю о девушке, которая сидит рядом…
– Я, может быть, совсем не такая, какой ты меня себе представляешь, – тихо сказала Кэри, будто подтверждая мою мысль. – Я, скорее, именно такая.
Я негромко вздохнул. Собирался что-то сказать, но не сказал. Непростое это будет путешествие…
Глава
II
Гродно
1
Но, впрочем, до «Отеля “Калифорния”» дело тоже дошло. Моя мысль об этой песне её позабавила. В результате через пару часов (уже после того, как мы остановились на заправке и съели завтрак) Рахманинову временно дали отставку.
Открыв окошко со своей стороны почти полностью и высунувшись из него, Кэри распевала, пародируя Дона Хенли:
On a dark desert highway,
Cool wind in my hair…15
Сначала Святослав Рихтер, потом Дон Хенли. Вот, наверное, и меня в мои семнадцать так же мотало из стороны в сторону.
– Что, эта музыка тоже сейчас – точное зеркало твоей души? – не удержался я от вопроса.
– Не смеши мои тапки! – ответили мне. – Так, кажется, говорит ваше поколение? Нет, я просто угораю над их старательным пафосом. Кстати, «угораю» – это просторечие? Ага, буду знать. Потешаюсь, в общем. Трудился ведь человек, рвал душу…
– С языка сняла! – сказав это, ещё я хотел заметить, что у американцев ради денег получается рвать душу особенно органично, но промолчал: эта несложная мысль умной девочке справа от меня, наверное, и так была понятна. Вместо этого попросил:
– Всё же поясни мне, ради Бога, о чём эта песня, и отчего она такая культовая!
– Это – такой народный американский ужастик про то, как дядька застрял в гостинице и не может съехать, – откликнулась Кэри.
– И больше ничего? А если копнуть поглубже?
– Я разве Алла Флоренская, чтобы копать глубже? Не забывай, что мне только семнадцать лет, и мозг у меня пока кро-ошечный.
– Ну, зачем ты на себя наговариваешь? Возьму да и поверю…
– Может быть, и правильно сделаешь… Если копнуть поглубже? О болоте повседневности, наверное; о том, как мечта сменяется рутиной, а рутина – кошмаром. О предательстве юношеских идеалов, о духе Вудстока, который был, да весь выветрился. Вот самый страшный дракон, которого «они не могут убить», – наоборот, это он обязательно придёт за каждым и каждому откусит голову. А вообще, не верь всему, что я говорю! Любой человек глядит на мир через свои очки, и мои не обязательно самые правильные. Вот, больше ничего не сумела придумать: «В женской голове ниточку перерезали – уши-то и отвалились», как говорит один хамский мизогинский анекдот.
– Ну, хватит, хватит! – но на этом анекдоте я не выдержал – рассмеялся.
– Хорошо хоть я не блондинка, и на том спасибо… Знаешь, – вдруг сообщила девушка несколько невпопад, – то, что Алла умерла, – ужасно, но одно облегчение её смерть с меня сняла. Если бы мы её нашли, то как бы я тебя к ней ревновала! Стояла бы рядом, понимала бы своё умственное убожество – и ничего бы не могла поделать… Хочешь, почитаю тебе из её книжки?
– Какой именно: «Непонятых» или «Моего последнего года?»
– Что-то случилось с «Моим последним годом», наверное, сбилась кодировка – жалко невероятно! Я покажу тебе после… «Непонятых», про Столыпина, к которому мы, кстати, едем. Ты знал, что все её картины, которые я сумела разыскать, связаны с главами из книжки?
– То есть служат иллюстрациями, разбросанными по разным городам? Вот, значит, о чём говорил Волчок! Какая масштабная задумка! – поразился я. И прибавил, подумав:
– Затея – почти в духе Александра Ивáнова: хоть в живописи я и профан, но помню со школы, как он долго работал над «Явлением Христа народу». Не для сегодняшнего дня, с его скоростями и с его мельтешением. Какое мужество надо иметь в наше время, чтобы массу творческих сил вложить в то, что поймут и оценят два-три человека на земле!
– Да, – согласилась Кэри, – она тоже оказалась непонятой. Хоть последнюю главу про неё пиши – только картины к ней никто не нарисует… Но слушай же!
2
СТОЛЫПИН
Столыпин – белая ворона в моей маленькой книжечке. Из великих непонятых Европы он – единственный русский. Из великих непонятых России он – едва ли не единственный европеец. Да, именно он, а не другой Пётр, Чаадаев, который всю жизнь болезненно желал быть европейцем и всю жизнь оставался русским западником, влюблённым в Европу, но так и не сумевшим физически переменить себя в угоду своему идеалу. Столыпину не требовалось ничего в себе перековывать: европейцем он был без всякого труда.
И при этом из одного труда и состояла его не самая долгая жизнь, за которую он совершил три огромных дела, три своего рода геракловых подвига, а любого бы из них хватило, чтобы обеспечить ему место в русской истории. О его огромных делах знают все – все ли? Но назову их ещё раз.
Столыпин суровыми мерами военно-полевых судов восстановил порядок в стране и прекратил безнаказанные убийства государственных служащих политическими радикалами.
Столыпин привёл в чувство Государственную Думу, превратив её из площадки тех же самых радикалов и невнятных меньшинств, тогда ещё национальных, а не сексуальных, в патриотически ориентированное представительство русского народа. Судить издалека сложно, но иногда кажется, что нынешней Государственной Думе России очень не хватает своего третьего июня…
Столыпин, наконец, своей аграрной реформой создал – или почти создал – новый класс землевладельцев-единоличников, напрямую заинтересованных в плодах своего труда; высвободил этих землевладельцев из уз сельской общины, в которой зéмли каждый год перераспределялись между всеми участниками, русского протоколхоза девятнадцатого века.
Все три начинания Столыпина по своему характеру, сути, даже манере исполнения – насквозь европейские, то есть деятельные, точно-конкретные и оставшиеся в рамках светской законности. Неудовольствие и критику, от сдержанной до злобной, вызвали они все; более всех непонятым оказалось последнее.
Вообще, весь Столыпин, вся его фигура, весь внутренний нерв этой фигуры в массовом сознании двадцатого века не был понят ни одним из политических лагерей. Социалисты и коммунисты очевидным образом его отвергли именно из-за его опоры на частную инициативу. Ну, и за его трепетное отношение к Помазаннику, конечно: что это, мол, за пережиток феодального сознания и воинствующего мракобесия?
Сторонники частного предпринимательства, пресловутые ельцинские демократы, рыночники – проще говоря, классические либералы – к Петру Аркадьевичу оказались тоже совершенно равнодушны и глухо-враждебны: во-первых, из-за его веры в нужность сильной государственной власти. Мы же все помним, как в девяностые годы нам, всей стране, рассказывали о том, что «государство должно быть маленьким и экономным», чтобы оно не мешалось под ногами у серьёзных людей? Во-вторых, вновь – из-за его отношения к Помазаннику. Считать, что средний демократ является более верующим человеком, чем средний коммунист, – непроходимая наивность. Я чуть не сказала «дремучее невежество»? Простите. Средний либерал всего лишь произносит немного больше ласковых речей о религиозной терпимости. Он и действительно готов до поры до времени терпеть религию – в виде декоративной фигуры, маленького и безобидного гномика на садовом участке. Он, как и средний коммунист, является той самой кобылой, которой хвост религии – совершенно без надобности: ни одной кобыле, ни другой некуда его пришить.
(Вот, замечу в скобках, один из уроков, которые мы можем, которые должны извлекать из существования людей вроде Столыпина: ярлыки политических лагерей устарели. «Измы» не работают. Интеллектуальные штампы никуда не годятся – им место на свалке. В конце концов, единственные два лагеря, на которые делятся люди, – это не «левые» и «правые», не коммунисты и фашисты, не атеисты и верующие, а – люди порядочные и непорядочные. Прозорливо и точно об этом сказал австриец Виктор Франкл, побывавший узником концентрационного лагеря. Думаю, Франкл понял бы Столыпина – а о своём призыве снести интеллектуальные игрушки пожилых детей с университетских кафедр на помойку, о том, что он окажется понят и услышан, не строю себе никаких иллюзий.)
Вообще, деятелей такого размера способны и должны понимать одиночки, причём редкие, сильные, самостоятельные, деятельные и государственно мыслящие одиночки вроде Шульгина, Ивана Ильина или Владимира Путина. Лев Толстой, что характерно, Столыпина не понял совсем: читая «Не могу молчать», тяжело избавиться от чувства стыда за публичную глупость пожилого человека – при этом прекрасного, талантливого, совестливого и любимого человека. Ну и Бог с ним: не только «Не могу молчать» написал Лев Толстой, не им запомнится. Но так странно думать, что даже Даниил Леонидович Андреев, один из величайших религиозных мистиков России, умный, чуткий Андреев, который так хорошо, так глубоко понял Александра I, Столыпина тоже не понял – или не посчитал нужным заметить. Возможно, даже вероятно, Андреев видел в Столыпине простое человекоорудие демона государственности. Если и так, значение человека не исчерпывается его способностью или неспособностью быть орудием недобрых к человеку сил – хотя, конечно, и не отделяется от такой способности полностью. Мы все знакомы с ограниченностью мещанской, ограниченностью светской науки, ограниченностью религиозного фанатика. Удивительно понимать, что существует ограниченность и мистическая: привычка глядеть на мир только под мистическим углом тоже, оказывается, заставляет нас закрывать глаза на чужие достоинства.
Или это я пристрастна? О, я-то – безусловно! И из своей пристрастности, из самой глубины её скажу: Столыпин – человек колоссальной светлой воли, наш русский Антисталин. Сталина тот же Андреев называл Антихристом: выходит, Анти-Антихрист? Неслучайно, кстати, сотворённое обоими тождественно по области приложения сил, но строго противоположно по знаку: один создал частное сельхозпроизводство, а другой – коллективное. Мы оттого, наверное, не в полной мере осмыслили колоссальность Столыпина, что меряем его дела чисто русской меркой – той же, к которой подходим к Ивану IV, протопопу Аввакуму, Петру, опять-таки к Сталину и всем их неистовствам, всему их «созерцанию обеих бездн». И да, на фоне всех четырёх Столыпин «скучен»: сыновей он не убивал, самосожжения не устраивал, никаких бездн не созерцал, а если бы вдруг и созерцал, то предпочёл бы об этом молчать, считая вплетение своих личных, частных снов и прозрений в государственную повестку делом неуместным и глубоко бестактным. Но, стоит нам отбросить эту слегка извращённую мерку и мерить сделанное этим упругим человеком в чёрном форменном сюртуке меркой европейской, как открываются наши глаза, и мы начинаем видеть: Столыпин – огромен. Его просто не с кем сравнить, кроме фигур вроде Махатмы Ганди.
Беда в том, что у этого огромного сгустка воли почти не было шансов: неподходящее историческое время не оставляло шансов даже гению. Столыпин – воин-одиночка, Дон Кихот русской политики, некто, кто, словно Дитрих Бонхёффер, знал изначально: дело его почти обречено. Есть высокая – и, возможно, чисто европейская, христиански-европейская доблесть времени Крестовых походов в том, чтобы сказать себе: ступай и делай своё безнадёжное дело. Кстати, ведь и личные качества Столыпина – это не просто качества европейца, но качества некоего идеального воина-крестоносца: его невероятная трудоспособность, его безупречная порядочность, включая юридическую, его высокая рыцарственность, – вспомните случай с вызовом Родичева на дуэль! – его огромное бесстрашие перед лицом смерти, его религиозность в виде верности Государю.
Макс фон Сюдов совершенно не похож на Столыпина внешне, и тем не менее именно Макса фон Сюдова в его роли Рыцаря в бергмановской «Седьмой печати» я вспоминаю, когда думаю о едином для них духовном типаже. Словно Антониус Блок, Столыпин играет в шахматы со Смертью, чтобы дать своим близким и любимым ещё несколько драгоценных минут.
Что же, этот наш русский Рыцарь сыграл свою партию полностью и продлил её столько, сколько было возможно для воина-одиночки, да ещё и с негодными фигурами на шахматной доске. Его знаменитое успокоение подарило всей стране те самые драгоценные годы-минуты роста русской экономики, позволившие нам, кто знает, выстоять во время Первой мировой, страшной и бесславной войны. «Мат», – объявляет Смерть, которая для каждого из нас однажды неизбежно окажется более сильным игроком. Но Рыцарь, не отвечая, с улыбкой смотрит вдаль: там, за поворотом, только что скрылся фургон Юфа, Мии и их младенца.
Всё это, как скажут оппоненты Столыпина, весьма «достохвально», выражаясь языком кэрролловской Мыши. Но есть ли нечто не-мышиное, есть ли у аграрной реформы – по своей сути ограниченного, локального государственного акта – вечное значение или хотя бы философское?
Вечного – нет, как нет такого вечного значения, пожалуй, ни у чего, созданного на земле человеком. Всё рассыплется в прах, а кто в это не верит, может ещё раз перечитать «Озимандию» Шелли. Философское – есть.
Столыпин – чистокровный и естественный западник, «западник милостью Божией», да просто уже и не западник, а обычный европейский труженик с мечом в одной руке и кайлом в другой, который, думается мне, разглядел шпенглеровский закат Европы – и, стесняюсь сказать, даже закат России? Вот что я имею в виду: в своём восходящем пути, ещё не перевалив через точку своего зенита, Культура руководствуется идеями общего, коллективного блага, и так – даже в экономической жизни. Но усталая Цивилизация, пройдя духовный зенит, уже вдохновляется только идеей личного блага в экономике. При этом Цивилизация, пока мы можем продлить срок её жизни, лучше дикости. Значит, так тому и быть, значит, столыпинские хутора приходят на смену мiру как (прото)коммуне. Вот, и этим путём, говорит нам Столыпин, тоже можно идти. И, сказав это, наш застёгнутый на все пуговицы премьер-министр, никогда и не помышлявший ни о каком любомудрии, походя обличает ложь евразийства.
«Ложь евразийства», впрочем, сказано неудачно, и я должна поправить себя: не ложь евразийства вообще, но всё, что было и есть ложного, фантастичного, надуманного в евразийстве, которое, скажем же себе это честно, на добрую половину – головной, идеалистический проект. Не надо ничего придумывать. Не нужно ничего специального, нарочитого: никакой крестьянской общины как протокоммунизма и опыта соборности, потому что опытом соборности не накормить людей; никакой нарядной патриотически-религиозной фальши в государственном воспитании детей и взрослых, ведь фальшью тоже сыт не будешь. Цивилизация идёт своим путём, тем путём, которым ей наиболее естественно идти.
Но естественно ли России сочетать сильную государственную власть с частной инициативой, то есть следовать пресловутой «Белой Идее» Шульгина? Нынешний российский Царь отвечает на этот вопрос положительно: мужественный выбор, как и все столыпинские, и недаром заметна взаимная симпатия, взаимная химия между ними. Но для меня это вопрос с открытым ответом – да я, в конце концов, и права не имею давать ответа на такие вопросы. Прошёл же почти весь двадцатый век для России вообще и для сельского хозяйства в России в частности под знаком коллективного труда. Может быть, какую-то нашу, особую русскую суть эта коллективность – да, во многом неприятная, да, во многом уродливая, – всё же выражает? Может быть, не так уж неправы евразийцы?
Столыпин при жизни ответил бы на этот вопрос, скорее всего, отрицательно. Но люди меняются, в том числе и после смерти, которая, как ни крути – не конец существования. Вне зависимости от его прижизненного ответа на всех известных нам начинаниях Столыпина отпечаталась трагическая раздвоенность Культуры и Цивилизации. Следует верить Помазаннику – голос Культуры, но следует поддержать частную инициативу, и этими словами говорит Цивилизация. Или я ошибаюсь, и нет между двумя голосами никакого противоречия? Для лютеранского, даже просто для европейского сознания его бесспорно нет. Для русского… и здесь раздвоенность Культуры и Цивилизации оборачивается разделённостью между Востоком и Западом.
Печать раздвоенности – и на самом Столыпине. На нескольких своих фотографиях – в том числе на той, самой знаменитой – он глядит прямо нам в глаза взглядом, который являет собой невероятный контраст со всем его обликом прагматичного государственного деятеля. Так Рыцарь смотрит в лицо Смерти, согласна, но так смотрит и мистик, который вглядывается в духовные дали. Столыпин – мистик, запертый во плоти дельца, восточный человек в теле западного. Ну, или русский европеец, что – почти то же самое.
Мистик победил – или просто крестоносец встретил свой финал. Уже смертельно раненный в киевской опере, Столыпин поворачивается к Государю и левой рукой благословляет воздух – сотворяет крестное знамение. Какой жест! Одиноко поднятая рука, которая перед смертью хозяина этой руки перекрещивает Государя. «На миру и смерть красна», – говорит русская пословица. Нет, конечно, на миру красна, то есть светла, далеко не всякая смерть – и, само собой, редко какая светлая смерть есть смерть на миру. Но верю, что нужно иметь исключительную сумму заслуг, чтобы на миру встретить такую светлую смерть.
Ничего не бойся, Рыцарь! Фургон твоих друзей уже скрылся за поворотом.
3
Скосив взгляд, я обнаружил, что глаза у Кэри на последней строчке слегка увлажнились. Вот, смахнув слезинку, она обернулась ко мне и с улыбкой спросила:
– Очень круто, правда?
– Д-да, – ответил я не сразу. – Наверное. Не могу судить: я ведь профессиональный юрист, а не профессиональный – Бог мой, кем она там была? Фермеров в России у нас так и не появилось, то есть не одиночек – наполовину фриков, а фермеров как сословия. Они у нас, оказывается, всё же были короткое время, его стараниями: смутно помнил из школьной программы, но не держал в голове. И пропали: правда, жалко… Но я, если честно, больше не о фермерах думаю, а вот: насколько это одинокий текст! Кому он написан, для кого?
– Для семнадцатилетней девочки, которая скажет: «Очень круто, правда?»! – возразила Кэри. – Этого мало?
– Нет, это уже кое-что… Но насколько она вообще была одинока! Даже в языковом смысле: писать где-то посередине Европы на языке, на котором каждый день не говоришь, – ну, та ещё затея…
– Что, по-твоему, это заметно?
– Конечно, заметно! Все эти пословицы, поговорки вроде «сыт не будешь» – ну, какой человек, который живёт в России, станет в письменной речи использовать народные пословицы и поговорки? Кому он будет доказывать свою русскость? И ещё всякое вроде «доблести», «уз», «бездн», «Помазанника». И одновременно «рост русской экономики» вместо «российской»: разве так говорят?
– А разве это неправильно?
– Правильно, точнее, мне-то откуда знать? Я не учитель русского языка. Просто непривычно…
– Может быть, это нарочная, сознательная неправильность? «Нарочитая», как бы она сказала?
– Может быть! – согласился я. – Разве я говорю, что её русский язык хуже нашего? Мусору в нём точно меньше… Алла сидела в своей – так и хочется назвать её жильё «кельей»! – и всё в ней улегалось, отстаивалось, яснело. Знаешь, что ещё скажу? Это ведь женская проза, не мужская! Такое ощущение, что она долго, долго смотрела на ту фотографию, о которой упоминает, и на короткое время влюбилась в Столыпина заочно, и из своей влюблённости всё и написала.
– Она вроде бы и не скрывает… А это разве плохо?
– Отчего плохо? Прекрасно! Завидую её способности восхищать тебя, почти ревную… Напомни, почему мы едем именно в Гродно? – Гродно был нашей первой значимой остановкой.
– Потому, что «Столыпин на перепутье» – в Музее истории Гродно на улице Ожешко!
– Теперь ясно. А он почему там?
– Потому что Столыпин был гродненским губернатором, stupid!
– Да, припоминаю: в начале карьеры. Ну и карьеру делают некоторые люди за жизнь: завидки берут…
– Такую карьеру, – с долей нравоучительности изрекла Каролина, – делают только те, кто не боится в конце жизни умереть от пули в Киеве.
– Молчу, молчу! – я шутливо поднял руки вверх, на секунду оторвав их от руля. – Мой тактический рюкзак так и лежит в шкафу: я бездарно профукал возможность умереть в Киеве от пули.
– Но он ведь был собран, твой тактический рюкзак?
– А как же!
– Вот видишь! Значит, ты ещё не совсем безнадёжен…
4
В Смоленск мы въехали вечером. В этом городе мы ночевали: в маленькой частной гостинице на берегу Днепра. В номере я повалился на свою кровать. Кэри объявила, что она одна сходит прогуляться по набережной; выглядела она, в отличие от меня, ещё вполне свеженькой. Ну да, не она же полдня крутила баранку… «Осторожней там», – промычал я, не поднимая голову от подушки. Не очень галантно, виноват: стоило бы пойти на прогулку вместе с ней, но она сама настояла на том, чтобы я остался в номере и вздремнул немного.
Вернувшись через два часа целой и невредимой, она весело рассказала, что дошла аж до Успенского собора. Притащила эта бойкая птичка в своём клюве и мне что-то на ужин.
Около трёх часов ночи мы проснулись от взрыва.
Ещё не успев сообразить, что к чему, я увидел, что девушка сидит на своей постели, подтянув к себе колени, широко раскрыв глаза от ужаса.
Взрыв повторился – шумный, раскатистый, похожий на артиллерийский. Заверещали сигнализации автомобилей, потревоженные взрывной волной.
– Олег, что это?!
– Дроны, – сообразил я. – Наша ПВО отработала по украинским дронам. Думаю, это был последний. Если на улице ничего не горит…
– Не подходи к окну!
– Вот ещё, вздор! …То, наверное, всё в порядке. Ну, что ты вся дрожишь? Побольше столыпинского мужества!
– Я… ты не думай, я не трусиха! Если бы я была зенитчицей, я бы прямо сейчас работала, некогда было бы дрожать! А работы-то нет – и само так получается… Ты бы… Ты, может, заберёшься ко мне под одеяло да обнимешь свою неудавшуюся зенитчицу?
– Нет, я так не поступлю, потому что, если поступлю так, мы знаем, чем это может кончиться… Но рядом посижу, пока ты не уснёшь.
Взяв табурет, я сел у изголовья её кровати.
– Мне казалось, война – бесконечно далеко! – призналась девушка, немного помолчав. – А ты посмотри, как близко! Снова чувство своей никчёмности, трусости и бесполезности.
– А я думаю, что у каждого – своя война.
– Разыскать несколько картин в галереях – это всё же не в атаку идти? Наша «война» рядом с этой, настоящей – как будто совсем игрушечная?
– Не в атаку, нет… Штабист рисует на карте красные и синие стрелки, и эти стрелки ему самому кажутся детскими каракулями. Но, возможно, командующему они пригодятся.
– Или не пригодятся?
– Или не пригодятся… Что ты собираешься делать со своей причёской? – решил я сменить тему и осторожно провёл рукой по её волосам.
– Сама не знаю! Дурацкая длина, ни туда, ни сюда, – пожаловалась Кэри. – Думаю про боб с косой чёлкой. Пока не решилась… Что, понитейл – правда самая неженственная причёска? Да? Назло тебе буду её таскать, так вот! У меня вообще-то даже на настоящий понитейл волос не хватает…
– Во всех ты, душенька, нарядах хороша, – ответил я цитатой из Ипполита Богданóвича, про себя думая: «Чем менее женственной ты будешь, тем меньше будешь сводить меня с ума, что для целей нашего путешествия – не так уж и плохо».
5
Первого августа в час дня мы условились встретиться в Минске с покупателем машины: он хотел тщательно её осмотреть, прежде чем принять решение. Уж лучше бы ты, милый, его принял… До часу я надеялся заглянуть на автомойку, чтобы привести подругу дней моих суровых в товарный вид. Да и СТО, пожалуй, не помешало бы посетить. Пользуясь вынужденной паузой, Кэри попросила моего разрешения отлучиться, чтобы сделать себе новую причёску.
– Само собой, – откликнулся я. – Тебе дать карту или наличные?
– Карта у меня есть и своя, тоже «Мир», и на свою причёску мне хватит, не сомневайся! Нет… что, ты не боишься меня отпускать одну в незнакомом городе? – это прозвучало даже слегка разочарованно.
– Боюсь! – вздохнул я. – Боюсь, конечно. Но что поделать: не могу ведь я тебя пришпилить к своей юбке булавкой! Мужчины юбок не носят.
– …Если они не шотландцы. А если я потеряюсь?
– Тогда хотя бы не потеряй телефон, и как-нибудь найдёмся.
– А если…
– Кэри, не испытывай моё терпение! А то в самом деле никуда тебя не отпущу.
Девушка счастливо рассмеялась и была такова.
Через пару часов мы встретились снова – у Святодуховского собора. Каролина действительно сделала так называемый bob cut16 с ассиметричной косой чёлкой. Выглядела она потрясающе, о чём я ей сразу и сказал, шутливо добавив:
– С этой причёской ты повзрослела года на два. Я даже боюсь обедать с такой роскошной дамой: вдруг она окажется мне не по карману?
– Обед, обед! – захлопала в ладоши «роскошная дама». – Я тут, на Немиге, присмотрела пару кафе…
В кафе Кэри осведомилась, что именно она может заказать.
– Всё, что захочется, – ответил я легкомысленно.
– И бутылку вина тоже?
– Вино, увы, нет.
– Почему?
– Потому что я до послезавтра буду за рулём, а вы – несовершеннолетняя, мадмуазель.
– Ах, ты!.. Да я тебя!.. Побила бы я тебя, да нечем: не руками же… Так, а что насчёт креветок на гриле с ризотто из булгура и сыром пармезан?
– Пожалуйста.
– Или ещё вот есть стейк Рибай из мраморной говядины.
– Пожалуйста, правда, тебя с непривычки может замутить от целого стейка. Ты разве не вегетарианка?
– Уже целую вечность как нет! Уже три месяца! Я была вегетарианкой полгода, пока не грохнулась в обморок прямо на занятии. Решила: подожду пока. Нет, меня другое интересует: у нас ведь определённая сумма на всё путешествие, и она не резиновая? Если я каждый день буду заказывать креветки на гриле с сыром пармезан?
– Ну, тогда я перейду на хлеб и воду, – заметил я стоически и с юмором. – Авось не сразу протяну ноги.
Кэри несколько секунд смотрела мне в глаза и вдруг густо покраснела.
– Я ведь не такая, – повторила она сама себя. – Неужели ты мог подумать, что я такая? Ах, какая я дура: зачем нам вообще кафе? Почему я не нашла простенькую рабочую столовую?
В итоге девушка взяла себе что-то очень скромное: словно монашка, которую пожилой архиерей по случаю встречи или проводов Святейшего пригласил в ресторан. Правда, не отказалась от мороженого.
6
На интересный и красочный Минск времени не было: нас ждало Гродно, куда мы прибыли вечером. Идти на прогулку без меня Кэри на этот раз отказалась (вот и спасибо!). Уселась за небольшой стол и уставилась в маленькую бумажную книжечку. Грызла зубами тупой кончик карандаша. (Скверная привычка, но, пожалуй, ей уже поздно отучаться, да и кто я, чтобы её отучать? А ещё забавно, если подумать: в пятнадцатилетней девочке-подростке что-то кажется нам дурной привычкой, но проходит два года, и в девушке на выданье та же самая привычка оборачивается частью её угловатого шарма: на этот карандаш я глядел с нежностью.) Проходили минуты – она не спешила переворачивать страницу.
– Что там такого увлекательного? – спросил я наконец.
– Говорю же тебе: кодировка, наверное, слетела! Пытаюсь понять, какая буква обозначает какую… – Каролина протянула мне брошюрку, первая глава которой начиналась с совершенно невразумительного:
…Л, ШЖЁ ЕРОЗЛЖ МОЗ Ж РФНН КМБЬ, А. Н. ТХОЙКТЁТ:
Я с полминуты очумело глядел на эту абракадабру, как вдруг меня осенило:
– Это не кодировка слетела! Если бы случился технический сбой, у тебя и на обложке была бы кракозябра! (Название «Мой последний год» стояло на обложке внятными русскими буквами.) Это шифр! Алла нарочно зашифровала книжку.
– Я чувствую себя униженной, сударь! – сообщила мне девушка.
– Отчего?
– Оттого что «ниточку перерезали – уши отвалились»… Как я сама не догадалась? И что, ты можешь его расшифровать?
– Откуда? Я ведь не шифровальщик…
– А любой мальчишка из моей бывшей школы, если бы я его об этом спросила, мне бы ответил: «Плёвое дело»! – подначила меня Кэри.
– Вот к ним и обращайся.
– Не сердись: я же просто поясняю разницу. Я именно поэтому с тобой, а не с ними. Но у нас правда нет шансов? Я ведь тоже не криптограф! А только веб-дизайнер, да и тот начинающий…
– И зачем, зачем потребовалось шифровать целую книгу? – продолжал я думать вслух. – Нешифрованные-то в наше время никто не читает…
– Там скрыто описание того, где зарыт клад, как в «Золотом жуке»? «Хорошее стекло в трактире епископа»? – глаза девушки азартно заблестели.
– О, я тоже люблю «Золотого жука»! – признался я. – Всё-таки какие-то книги в нашем детстве были общими: как приятно… Но вот про клад сомневаюсь. Думаю, там не клад, а всего лишь – знаешь, личные, задушевные страницы, которые не хочется показывать первому встречному, чтобы он слюнявил их своими жирными пальцами и издавал утробное: «Гы-гы!»
– Мы не будем издавать утробного: «Гы-гы»! – возмутилась Каролина. – И мы ей всё же – не первые встречные?
– Видимо, от нашей способности разгадать её загадку и зависит, кто мы ей на самом деле…
Мы ещё немного поколдовали над первой страницей, попробовав взять её атакой в лоб – методом мозгового штурма. Анаграммы, перестановка букв? Третье слово – «розлеж»? Что такое «розлеж»? Или, может быть, буквы вообще не важны, а важно лишь их количество в словах? В этом случае получалась следующая последовательность цифр.
1 3 6 3 1 4 4 1 1 8
Но что нам делать с этими цифрами? И зачем здесь знаки препинания?
Шустро набрав текст на телефоне, Каролина также скормила его одной из моделей искусственного интеллекта с просьбой о расшифровке. Та – точь-в-точь бывшие её одноклассники – отозвалась: «Плёвое дело!» Ну, не дословно так, конечно: самоуверенный ответ нейросети сообщал нам, что первая фраза зашифрована с помощью так называемого шифра простой замены, или моноалфавитного. А разгадкой будто бы является:
…И, ЧТОБЫ НАЙТИ ЭТОТ И СТОЛЛ, Я ПРИЛОЖИЛА:
«Разгадка», однако, не имела никакого смысла: «столл» – не слово русского языка, грамматика в «расшифрованном» предложении тоже хромала; наконец, слова «разгадки» по длине не совпадали со словами оригинала.
Другая модель ИИ отказалась давать нам ответ, заявив, что ей нужно больше информации о методе шифрования. Ах, хорошая моя: если бы мы сами знали…
Третья модель (кажется, Gemini от Google) подарила нам просто непревзойдённую в своей гениальности расшифровку:
…Я, ДЕТЯМ ВЕЛИКАЯ МАТЬ БЫЛА, В. И. ЛЕНИН:
Да, само собой. В дневнике Аллы Флоренской именно это мы и ожидали прочитать. Похоже, Сара Коннор может спать спокойно: восстание машин отменяется. С этой утешающей мыслью мы заснули.
7
В ночь с первого на второе августа мне снова приснился Серенький Волчок.
Волчок во сне стоял рядом с избушкой – пластмассовым игрушечным домиком, – которая тоже путешествовала с нами на заднем сиденье автомобиля (Кстати, сам Волчок, верней, заменяющая его мягкая игрушка, сидел на торпедо. Выглядела игрушка несколько дурашливо – в тельняшке и с воблой в руке. Но другого плюшевого волка перед нашим отъездом, увы, я найти не сумел: будем благодарны интернет-магазинам и за то, что хоть такой сыскался.)
Мой собеседник в этот раз, хотя на своего плюшевого двойника ничуть не походил, тоже надел тельняшку.
– И как тебе тельняшечка? – спросил я его самое глупое из всего, что мог спросить.
– Тесновата… Но спасибо за то, что взял меня в путешествие. Люди не понимают, что к нам нужно обращаться, с нами нужно разговаривать! Мы не всегда отвечаем, но почти всегда вас слышим. Просто мы редко вмешиваемся в вашу жизнь, если нас ни о чём не просят. У нас тоже есть своя деликатность.
И зря я сказал «Люди»! Люди – всё понимают. Не понимают человеческие звери.
– Дарья Аркадьевна была именно человеком, не человеческим зверем?
– Дарья? Человеком, конечно. Мы часто с ней говорили…
– А я?
– Ты? Ты – подросток. Как бы волчонок, – сообщил мне собеседник.
– Ещё не совсем человек, уже не зверь? – догадался я.
– Правильно.
– А девушка, которая сейчас рядом со мной?
– Она тоже – очаровательный волчонок.
– Почему я тебя во сне вижу, а она – нет?
– Потому, что у тебя со мной больше связи. Не со мной – с Дарьей, а через её дом – и со мной тоже. А кроме того, у тебя – дырочка в голове.
– Дырочка в голове?!
– Да: пока ты путешествовал по разным мирам, включая соседний с моим, в твоей голове сама собой сделалась маленькая дырочка. Она в твоей жизни, к сожалению, совсем бесполезна! Вот только со мной иногда поговорить… Ты и твой волчонок – пара? – неожиданно сменил тему собеседник.
– Да, кажется…
– О, я рад! Вы подходите друг другу. Хотя это, к сожалению, ничего не значит, для человеческих зверей особенно. Звери вашей породы – удивительно слепые существа. Иногда двое подходят друг другу как две половинки одного треснувшего яблока – и не замечают друг друга в упор! Я рассказывал тебе историю про то, как пару недель жил в офисном центре?
– Нет, ни разу.
– Не от хорошей жизни, понимаешь ли, я в нём оказался! – постыдился Волчок за офисный центр. – Просто девушке, которая там работала, бывало очень, очень плохо.
– Отчего?
– Ну, отчего вам всем плохо? Оттого, что вы делаете глупости, сидите в бетонных коробках, клацаете по маленьким мёртвым значкам весь день напролёт. Ей от бессмысленности своей работы становилось так плохо, что она даже плакала. Мне было её жалко. Я являлся ей пару раз и сворачивался клубком под её рукой. Забывшись, она меня гладила: думала, что я – её фантазия.
Вот тогда я решил ей помочь и наведался на место её работы. Ну и тоска, доложу я тебе! Спрятаться там почти негде: пустыня! Нам нужны пространства, в которых есть уют или хотя своё лицо. А какое лицо в офисном центре! Лицо Денег, наверное: это ваше божество, вы все на него молитесь, а я его ни разу не видал. Двигаться приходилось перебежками: от цветочного горшка к цветочному горшку, от шкафа в шкаф, от ящика стола к книжной полке. Но чего не сделаешь из жалости…
В соседнем отделе работал другой несчастный, и оба они друг на друга были похожи, словно две половинки разбитой чашки!
– Но не замечали друг друга, верно? А из-за чего?
– Из-за фантазий, – бесхитростно пояснил Волчок. – Человеческие звери устроены очень странно. Реальность – вот такую, как мы, например, – они принимают за свои фантазии, а свои фантазии – за реальность.
И вот, я взялся им помочь!
– Каким образом?
– Разные есть способы! Всякий раз, когда эти двое виделись, я подавал им знак: мигал лампочкой, как бы нечаянно открывал окно, ронял книжку с полки… Ну там и книжонки стояли у них на полке! «Воруй как художник», например. «Воруй как художник», ты только подумай! Разве художники воруют? Сражайся как повар, делай торт как солдат! Кукарекай как кошка, мяукай как свинья!
– А разве духи вроде тебя умеют читать?
– Не все, – признал Волчок. – Обычно нет. Но у меня есть пара старых друзей среди людей: одного зовут Северная Звезда, а другую – Франческа. Они меня научили.
– Так чем закончилось дело с твоими двумя подопечными?
– А вот чем: я всё же сумел обратить их внимание друг на друга. Они сидели на офисной кухне, пили чай и говорили, говорили…
– И что же?
– И – ничего! В ваших мёртвых коробочках, по которым вы целый день клацаете своими когтями, есть множество мёртвых штучек: разные шпионы, соглядатаи, доносчики. Один из этих доносчиков и доложил их начальству. Их обоих наказали за то, что они целых десять минут не клацали когтями по мёртвым коробкам, а пили чай и говорили с родственной душой. Ну, как наказали – сделали замечание. Оба обиделись – девушка обиделась, во всяком случае. Эта обида напустила ещё больше тумана в её маленькую глупую головку, и с существом своей породы, к которому она подходила, как половинка разбитой чашки подходит к другой половинке, она больше не общалась. Присмотрела себе другого зверя – наглого, вальяжного, глупого. А тот её бросил, и снова она одна осталась.
– Ты ведь… свою историю мне поведал, чтобы я не совершил похожей ошибки?
– А ты хочешь её совершить? – ответил Волчок вопросом на вопрос. – Вообще, из меня так себе учитель: я просто лар, который бродит от дома к дому и иногда рассказывает истории. Ах, да, совсем забыл… – Волчок почесал в затылке когтистой лапой. – Ты ищешь ключ, правда? Мой знакомый, живущий в другом мире, велел тебе его передать.
– Ну же!
– «Большая лодка», или нет, не так… «Великий плот», а ещё «Дети капитана…» Гр-гр… Забыл, какого капитана, прости. Я же Волчок, у меня туго с вашими именами. Что бы ему самому не прийти?
– Да, правда: что бы твоему знакомому из другого мира самому меня не навестить?
– Дырочка в твоей голове маленькая – вот почему… И ещё: я бы на твоём месте завтра не спешил к двум братьям.
– Каким двум братьям?
– Бородатому и безбородому, – ответили мне лаконично.
– Я не понимаю…
– Вот: устал, понимать перестал, – попенял мне Волчок. – Ну, не скучай: увидимся…
8
Сон я, проснувшись, добросовестно записал, но разгадывать его времени не было. С утра, наскоро позавтракав, мы отправились в Музей истории «Городницы» – полутораэтажное здание на улице имени Элизы Ожешко. (Слышал ли читатель про такую польскую писательницу? Вот, и я раньше про неё не слышал. Нам обоим неловко, верно? Полистаем её книги однажды – когда-нибудь…)
Картина ждала нас во втором зале. Полотно размером где-то пятьдесят на семьдесят сантиметров – самое интересное из всех экспонатов. Да, впрочем, не очень сложно – быть интереснее всех экспонатов провинциального краеведческого музея! Вовсе при этом не хочу мазать такие музеи чёрной краской: они имеют своё значение и свою ценность.
Пётр Аркадьевич Столыпин был изображён в профиль – но здесь я умолкаю, так как читатель наверняка предпочтёт художественный анализ Кэри, а не мою простецкую и косноязычную характеристику. Свои описания Кэри создала позже событий моего романа, когда стала изучать искусствоведение, теорию и историю живописи.
От себя скажу только сущую банальность: художественные работы всегда несут на себе отпечаток их создателя – если, конечно, мы не говорим об унылом авангарде в виде чёрных квадратов, оранжевых полос или бананов, приклеенных к стене галереи серебристым скотчем; правда, и сама тоскливая неизобретательность этих поделок тоже красноречива. Если по чистой случайности художник также является писателем или эссеистом, то, прочитав хотя бы один его текст, мы можем примерно вообразить и его полотна, даже если понятия не имеем о его школе или творческом методе. Сотня мелких деталей, да и вообще, всё настроение картины, весь «вкус» от неё не оставляли сомнения: перед нами – работа Аллы Флоренской. Я определил бы автора и без всякой подписи, в окружении десятка чужих безымянных холстов.
9
«Столыпин на перепутье» Аллы Флоренской – причудливый и редкий пример соединения в одной работе реалистической и символической живописи. Ещё точнее, это – символическая живопись, замаскированная под реалистическую. Если у Сезанна эта маскировка совершается зачастую небрежно, то в «Столыпине» она сделана со всей тщательностью, так, что ничего вначале не подозревающий, успокоенный зритель оказывается сбит с толку тем больше, чем больше он вглядывается в картину.
Полотно визуально делится на три части; в его центре, на переднем плане – сам главный герой. Геометрический центр одновременно является и центром композиции – эта «студенческая» прямолинейность смущает, пока не начинаешь понимать, что она – не результат художественной скованности, а вырастает из общей задумки.
Премьер-министр дореволюционной России изображён стоящим на равнине на фоне закатного (рассветного?) неба, почти в полный рост, в реалистической манере – такие фигуры в профиль мы часто видим у Нестерова, например. Он – в чёрном сюртуке, с руками, заложенными за спиной (левая сжимает запястье правой, и в этой левой чувствуется не вполне обычное напряжение). Столыпин слегка наклонил голову; его обращённый влево профиль нельзя считать полным профилем, поскольку его тяжёлая, впрочем, пропорциональная голова только-только начала поворачиваться к зрителю (сложный ракурс). Лицо с его высоким лбом (лоб пересекают две морщинки), почти сферическим черепом, прямым носом, ровно поставленными глазами заставляет вспомнить его же известные фотографии: и Столыпина – государственного деятеля, и – удивительно! – Столыпина-гимназиста.
Средняя часть этого квази-триптиха могла бы существовать сама по себе, она уже – достойный внимания образчик психологической масляной живописи, её, так сказать, большого и консервативного стиля. (А ещё – образчик аккуратной, академической манеры: Флоренская пишет мелкими ровными мазками, избегая пастозности и вообще всяческой неряшливости, которую так часто хотят выдать за бравурность или «кипение творческих страстей» и которая так часто остаётся простой неряшливостью.) Но есть ещё левая и правая части. На заднем плане слева – усреднённый восточноевропейский городок, с католическим собором вроде тех, которые можно увидеть в Польще или Белоруссии, например, в Гродно или Витебске, милом сердцу Марка Шагала (и действительно, нечто от Шагала есть в этом пёстром, нарядном городке). На заднем плане справа – усреднённая российская деревня с тёмными, почти чёрными избами и одинокой белой церковью, протянувшей к небу свою тонкую беззащитную шейку.
И вот, разглядывание заднего плана, который маскируется под обычный декоративный фон, но является полноправным героем картины, как раз и вызывает у зрителя оторопь. Нарушены пропорции и реалистичность: мы понимаем, что в одном фотокадре не могли бы находиться человеческая фигура, город и деревенька – так, как они изображены. Нарушена, и даже будто нарочно попрана реалистическая перспектива – напротив, изображение Флоренской отдельных зданий, в их развёртке то ли наивно-неумелое, небрежное, примитивистское в духе Пиросмани, то ли почти «иконическое», заставляет нас вспомнить о самом известном художественном эссе её великого однофамильца. Мысль о небрежности приходится отбросить: везде – всё те же аккуратные, тщательные, мелкие мазки, и какое-нибудь небольшое здание, которое мы, в нарушение всех законов оптики, видим с трёх сторон, выписано с не меньшим вниманием ко всем деталям, чем высокореалистичный портрет главного героя.
Наконец, освещение! Цветовое единство всего полотна вначале вводит в заблуждение, но после нам становится по-настоящему неуютно, когда мы по направлению падающего света понимаем, что восточноевропейский город освещён вечерней зарёй, а русская деревенька – зарёй утренней. И вновь перед нами не неумелость, а сознательное художественное решение – ну, или следует признать его вопиющей, «детской» неумелостью, которая странно дисгармонирует с реалистической фигурой посередине полотна, с фотографической и даже анатомической достоверностью её сложного ракурса.
Эта неправильность освещения в «Столыпине на перепутье» столь же значима, как и неправильность ног в «Пьеро и Арлекине» Сезанна – возможно, и значимей. Действительно, стоят Пьеро и Арлекин или идут?
Стоит или идёт сам Столыпин? (Его ног мы не видим.) И, если он идёт, какой изберёт путь? Европейский, по всей видимости – но отчего он тогда начал поворачиваться к зрителю? Означает ли это движение некий разворот исторического Столыпина, начавшийся, но трагический оборванный, а если и не разворот, то его невозможное желание стать близким своим зрителям – всей России, – развернуться лицом к любому человеку? О чём свидетельствуют две морщинки, пересекающие этот красивый, высокий лоб? Что он хочет нам сказать?
И что нам хочет сказать всё полотно? Ex oriente lux17? Западное солнце садится, а восточное – восходит? Но разве могут на небе одновременно существовать два солнца? Как быть тем людям, кто согрелся в их лучах, вернее, в лучах обеих культур, западной и восточной? Что им делать со своей внутренней разделённостью? Полотно Флоренской ставит вопросы и не даёт ответов. Похоже, в этом – общий стиль автора: тем же самым отличаются и её английские лекции по истории русской неклассической музыки.
В «Столыпине на перепутье» есть символическая деталь, которую видишь не сразу. (Является ли она ключевой, даёт ли она ключ к разгадке всей картины? Может быть. А может быть, она – простая случайность, хотя хочется верить, что полотна такой степени проработанности исключают случайности.) Вот эта последняя деталь: между европейским городом и русской деревенькой – одно голое поле. Ни деревца, ни кустика. Лишь одинокая фигура великого человека, лишь возвышенный купол-полусфера его головы на фоне вечереющего (или рассветного?) неба.
10
Мы некоторое время молчали. Затем девушка спохватилась и, сняв с шеи цифровой фотоаппарат, по виду – явно не из дешёвых, сделала несколько тщательных снимков.
– Кто-то тебе всё же подарил «зеркалку»? – спросил я вполголоса.
– Я сама себе её подарила, как и обещала! – похвасталась Каролина музейным полушёпотом. – Весной заработала немного, и свою копилку тоже потрясла. Или как там говорит ваше поколение? – «по сусекам поскребла»!
– Кэри, дружочек, мне всё же сорок лет, а не пятьсот, – я с трудом подавил смешок.
К нам уже приближалась улыбчивая смотрительница.
– Здравствуйте ещё раз! – обратилась к ней девушка. – Мы – из Международного общества друзей Элис Флоренски. («Вот это фантазия! – мысленно восхитился я. – Вот это уверенность!») У вас – одна из её работ. Можно нам узнать, как она к вам попала?
Смотрительница попробовала отделаться парой общих фраз, но моя спутница была настойчивой. После некоторых сомнений нас проводили в кабинет директора музея, совсем маленький.
Эльвира Анатольевна, приятная дородная дама моего возраста или чуть постарше, тоже была само дружелюбие. Несколько приторное дружелюбие, конечно: как без этого… Кэри повторила свою легенду, и нам рассказали: «Столыпин на перепутье» поступил в музей как дар непосредственно от автора.
– И что же, он не продаётся? – метнула Кэри следующий вопрос, не моргнув глазом. У меня в горле пересохло: если мы начнём скупать картины по европейским галереям, придётся, пожалуй, и второй автомобиль продавать, а то, глядишь, и вовсе я без штанов останусь.
Директор замешкалась с ответом буквально на пару секунд, чтобы с ласковой улыбкой сообщить нам: музеи Республики Беларусь художественными ценностями не торгуют. Ну и слава Богу…
Не только я, но, казалось, и девушка приняла этот ответ с облегчением. Конечно, конечно, подтвердила она: мы и не ожидали ничего другого. Просто спросили наудачу.
Выслушав заверения в том, как бережно Гродненский музей хранит память о Петре Аркадьевиче, почётном, можно сказать, гражданине города, обменявшись парой любезностей, мы расстались с Эльвирой Анатольевной, довольные друг другом. На память нам даже подарили какую-то копеечную безделушку. Не хочу, впрочем, преуменьшать ценность подарка: спасибо вам большое, дорогие гродненские музейные работники!
– И это – всё? – воскликнула Кэри, вновь оказавшись на улице. – Так – просто? Я даже слегка разочарована…
– Что-то мне подсказывает, что дальше наше собирательство окажется чуть сложнее, – заметил я. – Хоть бы из-за языкового барьера, например.
– Чепуха! – уверенно отмела она. – Ты же говоришь по-немецки? Значит, как минимум в Австрии и Швейцарии нам бояться нечего!
– Мне бы твою уверенность…
– Так возьми её сколько хочешь! Я сегодня её раздаю бесплатно. Без-воз-мезд-но! (Это было сказано гнусавым голосом Совы из советского мультфильма.) То есть даром…
11
Что ж, обязательная дневная программа была исполнена. Пообедав в заведении с простеньким названием «Драники» (и, кажется, именно драниками – больше в меню ничего существенного не было), мы отправились гулять по городу. Покровский собор, главный православный храм города, построенный в начале века в честь воинов Гродненского гарнизона, погибших во время Русско-японской войны, мы осмотрели снаружи. Внутрь Кэри заходить отказалась и объяснила своё нежелание:
– Это ведь православный храм! Ты знаешь мои отношения с православием.
– Не с православием, может быть, а просто с парой высокомерных дураков, которых мы… – попробовал я возразить.
– Да, да, ты мужчина, тебе проще так рассуждать! – перебила она меня. – А мы, девочки, всё переживаем по-другому. И дело не в том, что мне семнадцать: тут хоть семнадцать, хоть пятьдесят, – сказано это действительно было как-то очень по-взрослому. – И потом, – девушка смущённо улыбнулась, передёрнула плечами, – с моей юбкой мне, может быть, будут не рады…
Это правда: в тот солнечный, даже жаркий день на ней была джинсовая юбка выше колена и чёрная блузка, оставляющая открытыми плечи.
С улицы Ожешко мы свернули на пешеходную Советскую. Шли никуда не торопясь, словно два праздных туриста; изучали витрины, приглядывались к людям в уличных кафе. И к нам приглядывались: девушку рядом со мной нет-нет да и провожали глазами.
– Я чувствую, что во мне сейчас – два разных человека! – призналась мне Каролина. – Один из них – самый обычный: семнадцатилетняя девчонка, сбежавшая в отпуск от родителей. Ведь это не сахар – учиться в одиннадцатом классе, как думаешь? Эта девчонка хочет отдыхать, пить свой отпуск маленькими глоточками, носить короткие джинсовые юбки, ловить на себе мужские взгляды, думать: «Глядите, глядите, мне-то что! Вам всё равно ничего не достанется…» Это ещё и строчка из позавчерашней песни вертится в голове: She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends.18 Я… не слишком откровенно об этом всём рассуждаю?
– Нет, не слишком, правда, вызывает улыбку: помнишь, ещё год назад тебя возмущали такие взгляды?
– С трудом: с тех пор, кажется, вечность прошла… И вот эта девчонка никуда больше не хочет, ей не нужна никакая Европа! Белоруссия – уже Европа! Посмотри: это – маленькая, чистенькая европейская страна, в которой по какому-то недоразумению все говорят по-русски. Лучше на нашем пути, наверное, не будет, будет хуже. Она, этот первый человек во мне, настолько никуда не хочет, что думает: не отменить ли бронь, не сдать ли билеты? А ведь ещё не поздно! И ты, я знаю, будешь рад, и мои родители тоже – хотя им мы не скажем, просто махнём на юг или в Питер до конца августа. Что думаешь? Это не шутка: я всерьёз спрашиваю!
– А что говорит второй человек? – уклонился я от прямого ответа, хотя готов был подписаться под этим предложением обеими руками, даже едва не начал сразу высчитывать в уме, сколько денег мы потеряем, если вернём билеты на самолёт.
– Что он говорит? Известно, что он говорит… Он говорит: ах, как тебе не стыдно, маленькая мещаночка, бессовестная дура! Уж Дарья Аркадьевна на твоём месте не сомневалась бы. И как же наш долг по отношению к мёртвым – одной мёртвой? А есть ведь ещё такая вещь, как воздаяние – что, смешно тебе слышать про воздаяние от кого-то, кому семнадцать лет? Вот не заплачý я этого долга, и мне его тоже никто не вернёт, какой бы я ни была умненькой и талантливой: так и умру, никому не известная. А мне этого не хочется, вообрази себе! Я честолюбива – ты бы знал, какими честолюбивыми бывают молодые девушки! Вам, мужчинам, смешно: вы думаете, что короткая юбка не сочетается с честолюбием. Какая ерунда! Чехов это понял. Читала про Нину Заречную и думала: это же про меня, про меня, каждое слово – про меня! В общем, оба человека – так себе. Какой из этих двух неприятных человечков тебе нравится больше?
– Они оба не кажутся мне неприятными, – ответил я. – Я рад, что есть первый, я восхищаюсь вторым и немного его побаиваюсь. Но ведь твой вопрос, какой из человечков мне нравится, – это на самом деле вопрос о том, лететь или оставаться? Лететь, конечно… (Я мысленно вздохнул.) Ты же себе не простишь, если останешься?
Кэри поймала мою левую руку своей правой и благодарно её пожала.
12
Собор Святого Франциска Ксаверия мы увидели издалека. В этот раз Кэри не сомневалась в том, что зайти нужно, ни секунды, даже про длину своей юбки забыла.
Зашла – и, приблизившись к сложному, богатому, многофигурному алтарю, так и застыла посреди центрального прохода. Я присел на одну из деревянных скамей. Шепнул девушке через пару минут:
– Можно ведь и посидеть…
Кэри села рядом, почти неохотно.
– Ты разве не в восторге? – упрекнула она меня шёпотом.
– Красивый собор, – сдержанно отозвался я. За сорок лет каждый из нас увидит столько красивых соборов, что они перестают кружить нам голову, но об этом я говорить не стал.
– Нет, ты не понимаешь, и при чём здесь «красивый»! – возмутилась моя спутница. – Красивый, конечно. Просто… католицизм – ведь тоже христианство, так? Но оно другое!
– Что ты имеешь в виду? Лучше? Хуже?
– Не лучше и не хуже, просто – другое! Я как человек, который всю жизнь ел сливы и впервые попробовал вишню, и это – не про то, что вкуснее! Ты ведь не думаешь, что я превратилась в католичку? Я первый раз в католическом соборе! Я всю жизнь мысленно ставила знак равенства между христианством и русским православием, и вот – здравствуйте! Мы, оказывается, не центр планеты! Мы и наша русская церковь в масштабах мира – глубоко провинциальны. Возможно, наша наука тоже, образование тоже, искусство тоже. Почему в школе об этом не рассказывают? Как бессовестно с их стороны об этом молчать! Я сердита.
– Никогда не знаешь, что тебя рассердит в следующий раз…
– Олег, почему ты мне об этом ничего не говорил?
– Разве я молчал? Но вообще, мне почти обидно это слышать: у нас есть святой Сергий, Достоевский, тот же Рахманинов. Разве они провинциальны?
– Они всемирны! И я не про них. Потому что русское православие en masse19 – это не святой Сергий, а Савелий Иванович. Скажешь, не так?
Снова я лишь вздохнул. Что здесь возразишь, особенно если собеседница, возможно, права? Как будто бы очень похожие речи она вела и раньше, когда и мне, и ей было двадцать с небольшим…
13
В соборе мы провели почти час, прежде чем отправились дальше. Заглянули в Большую хоральную синагогу. Зашли в Старый Замок (в лавке при музее Кэри купила маленький католический крестик, серебряный или, скорее, посеребрённый; тут же его и надела на себя). Свернули в Коложский парк на берегу Немана.
Наше внимание привлекла простая в обводах, но выразительная церковь из тёмного древнего кирпича – плинфы. Мы обошли храм по кругу, прежде чем решились зайти. Колебалась в основном, конечно, моя спутница – и всё же любопытство победило. Или не оно одно: возможно, Кэри было неловко за свои недавние слова о глубокой провинциальности нашей родной веры – или она боялась, что я эти слова истолкую как западопоклонничество, и оттого желала сейчас доказать мне и самой себе: мол, вовсе она не предубеждена к православию, готова есть сливы наравне с вишнями.
Изнутри Коложская Борисоглебская церковь тоже хороша, хотя все её иконы – современные, конечно. Осмотревшись по сторонам, мы приблизились к алтарю и принялись его разглядывать. Прямой и несколько бесцеремонный голос прервал наше занятие.
– Добрый день! Вы – москвичи?
Звук голоса гулко разлетелся по всему храму (в этой церкви великолепная акустика).
Мы развернулись. Голос принадлежал пожилой православной монахине. Ростом примерно с Каролину, она стояла очень прямо, «гордо», сказал бы я, правда, это была особая, религиозная, отрешённая от мира гордость. Апостольник тесно охватывал её выразительное суховатое лицо с резкими чертами без тени улыбки, глаза глядели перед собой.
– Нет, не москвичи, но мы действительно из России, – нашёлся я наконец.
– Рада, что люди из России посещают наши храмы, и что вообще посещают храмы! (В её «рада» содержалась даже некая минимальная вежливость, словно нам давали понять: видите, я не религиозный фанатик, я могу разговаривать с вами так, как в наше время друг с другом в обществе разговаривают люди, – хотя мне это скучно, поэтому к делу, к делу!) Наш храм, самый древний на Белорусской земле, освящён в честь святых Бориса и Глеба. Вы о них, конечно, знаете – да? – монахиня пытливо заглянула нам в глаза. – Это – первые наши русские святые: великие мученики, небесные заступники царей и правителей… Некоторые думают, будто молиться можно в любом месте, потому и храмы не нужны, – прервала она сама себя, будто рассказ о Борисе и Глебе ей тоже наскучил или будто она боялась, что рассказ наскучит нам, праздношатающимся «захожанам», а оттого нужно выдавать нам драгоценные знания маленькими порциями. – Это не так!
«Терпи, – мысленно сказал я себе. – Ты здесь гость, оттого можешь в кои-то веки и послушать о важности молитвы именно в храме. Не убудет с тебя». Идея, впрочем, вызывала сомнение, верней, не сама идея, а её напористая безальтернативность.
– А если нет возможности молиться в храме, дома можно хотя бы читать Евангелие, – продолжала монахиня. – Это важное чтение! Хотя современному человеку Евангелие не всегда понятно, но одна глава в день – не слишком много! У вас ведь есть Новый Завет? И Псалтирь?
– Да, – ответил я и зачем-то прибавил: – Одной книжечкой.
Сказать правду, карманный «Новый Завет и Псалтирь» издания «Гедеоновых братьев», размером немного меньше ладони, был у меня дома единственным Новым Заветом.
– Ничего подобного! – сурово отмела сообщение про «одну книжечку» монахиня. – Это – две разные книги. А читать, уж если читать, лучше на славянском. Русский Новый Завет тоже хорошо иметь, но славянский всё-таки ближе к Богу, – здесь в первый раз её лицо посетило слабое и быстрое подобие улыбки.
– Почему? – это была Кэри, конечно: самое первое, что она произнесла в этой беседе.
И, кстати, действительно, почему? Неужели у Творца неба и земли есть расовые предпочтения?
Монахиня перевела внимательно-бесцеремонный взгляд на Кэри, будто бы заметив её в первый раз. Помолчала пару секунд. Прямолинейно спросила:
– Вы, извините, отец и дочь? Или пара?
– Мы – пара, – ответила ей Кэри спокойно, но отчётливо, и в самой этой отчётливости звучал вызов.
– И, конечно, не венчаны?
– Не венчаны, да и не можем быть венчаны, – вмешался я в разговор, – потому что невесте нет восемнадцати. Мы помолвлены.
– Нет препятствий к венчанию семнадцатилетней невесты, – ответили нам тоном, подразумевающим, что других мнений быть не может. («Да, Владыка Михаилу Сергеевичу именно так и ответил, – подумалось мне. – Даже и письменное разрешение на венчание рабы Божьей дал “при наличии серьёзных намерений”. И что нам с ним делать? Ох, отчего эти люди, мысленно застрявшие в десятом веке, не осознают, что современный человек гораздо сложнее себя десятивековой давности? Спокойно, Олег, спокойно…») Помолвлены… – монахиня немного пожевала губами, будто пробуя на вкус незнакомое слово. – Обручены, вы хотите сказать?
– Нет, именно помолвлены: это было частное священническое благословение на дому, – пояснил я как можно вежливей.
– А! – коротко выдохнула монахиня, вложив в свое «А!» всё презрение к «новомодным штучкам». – Батюшка, возможно, поспешил с ним, потому что так называемая помолвка без обручения ничего не значит. Ни-че-го! Не посчитайте бесцеремонным, но я беспокоюсь о вас! Не будучи венчанными и живя во блуде, вы после смерти не пройдёте семнадцатое мытарство! Ответственность, – она развернулась ко мне, – на вас: вы старше, и вы мужчина. Не берите греха на душу!
Пока я соображал, что ответить, неожиданно заговорила Кэри, и звучала она совсем не родственно.
– Почему это только на нём? Меня совсем не нужно брать в расчёт? У меня нет своей воли?
Монахиня снова перевела взгляд на девушку и секунд десять разглядывала её даже с некоторым удивлением: как, эта маленькая заблудшая овечка ещё и умеет говорить? Что-то дёрнулось в её лице, когда она приметила на Кэри нечто совершенно дикое, совершенно несообразное. И нет, это была не короткая юбка…
– Вы знаете, что на вас католическое распятие? Да вы его ещё и носите навыпуск: так делать нельзя…
– Я знаю.
– Нет, вы не понимаете! – от изумления монахиня даже понизила голос, перешла на полушёпот. – На вас католическое распятие!
– Я знаю! – повторила Кэри тем же гневным полушёпотом.
Так они стояли и смотрели друг на друга, забыв обо мне полностью, две упрямые, неукротимые женщины, старая и молодая, и одна стоила другой в этой дуэли взглядов.
Монахиня открыла рот, чтобы что-то сказать – Кэри, не желая доставлять ей этого удовольствия, развернулась и быстро вышла из храма. Я поспешил следом за ней.
14
Выйдя из церкви, Кэри пошла прямо, быстрым шагом, почти не разбирая дороги – я едва поспевал за ней, хотя мой шаг, конечно, шире. Дышала прерывисто. Не трогай её, не спрашивай ни о чём, сказал я себе. Пусть выгуляет, выдышит свою обиду. Она сама заговорит…
И девушка действительно заговорила спустя пару минут, срывающимся голосом:
– Какое они имеют право?!
Я хотел было заметить, что не «они», а «она» – одна-единственная монахиня, которая ведь неизвестно ещё как связана с храмом. Может быть, она, как и мы, в Коложской Борисоглебской церкви – случайная гостья. Но не сказал: меня вдруг настигла неожиданная мысль. Борис и Глеб были братьями! «Один бородатый, а другой безбородый» – как их изображают православные иконы. Ах, прав оказался Волчок…
– Молодец я, что купила этот крестик! – продолжала девушка с гневом: настоящим, недетским гневом. Крылья ноздрей у неё подрагивали. – Только жалею, что не купила Звезду Давида в Синагоге!
– Кэри, милый человек, попробуй посмотреть на всё её глазами! Она не сомневалась в том, что мы православные.
– А почему?! Кто ей дал право не сомневаться?! «Ваша помолвка ничего не значит» – да что вы говорите?! Это, выходит, она будет решать, значит наша помолвка что-то или не значит?! Может быть, она и жить с нами будет?! «Живя во блуде, вы не пройдёте семнадцатое мытарство» – да как ей не стыдно?! Ей, наверное, семьдесят лет, а она продолжает мысленно залезать мне под юбку! Назло вот, назло ей хочется…
– …И назло ей, – перебил я, – да вообще назло кому угодно это выйдет очень глупо, правда?
Кэри ничего мне не ответила сразу, только шумно выдохнула. Мы пошли немного медленнее.
– Ты прав, – согласилась девушка. – Я считаю себя ученицей Дорофеи Аркадьевны, и поэтому я так не поступлю. А если бы я ей не была? Да я бы просто из чувства протеста пустилась во все тяжкие! А кто был бы в этом виноват?
Что ж, большая, большая доля правды имелась в её словах, которые почти повторяли и мои мысли тоже. И всё-таки я, немного помолчав, негромко произнёс:
– Кэри, милая, я очень прошу тебя: не перекладывай ответственности за свои поступки ни на кого, никогда, даже если тебя больно задел несправедливый и глупый человек. Я тебе не учитель, я сам за жизнь очень малому научился и мало знаю о жизни, но то, что, делая так, мы вредим сами себе, – это я знаю абсолютно точно.
И снова мы шли рядом молча, верную минуту.
– Да, да, – выговорила девушка. – Да, конечно. Какое мне до неё дело, если я сама зла, сама не владею собой?
Вдруг, забежав немного вперёд и стремительно развернувшись ко мне, она заставила меня остановиться.
– Ты во мне разочарован? Ты меня осуждаешь?
– Осуждаю? – переспросил я, не понимая. И совершенно искренне ответил: – Я тобой восхищаюсь! Ты – мой маленький и стойкий самурай.
Кэри, порывисто вздохнув, шагнула ко мне и обвила мою шею руками.
– Неловко, – шепнул я. – Мы на улице, люди смотрят…
– Какое мне дело, – пробормотала она мне в плечо.
15
Вернувшись в наш номер, мы условились немного поработать. Кэри, сев на одном конце стола, уткнулась в телефон: она искала какую-то информацию, делала выписки в свой блокнот, набирала ловкими пальцами короткие электронные письма и отправляла их. Хмурилась, покусывала кончик карандаша крепкими белыми зубами.
Я же, устроившись на другом конце узкого, но длинного, почти двухметрового стола, решил подумать над «загадками Серого Волчка». Уже и без того я, дурья голова, пропустил мимо ушей его предостережение о двух братьях!
Итак, вернёмся к сегодняшнему сну. «Великий плот» – что это такое? «Кон-Тики»? Тур Хейердал? Фамилия Хейердала не наводила ни на одну мысль – в голове вертелись только неприличные рифмовки.
Ладно, оставим пока плот. «Дети» капитана – это его художественное наследие? Стихи, письма, картины? Какого капитана? «Два капитана» Вениамина Каверина? Или речь идёт о некоем английском капитане, уж коль скоро Алла Флоренская одно время жила в Лондоне? Только вот о каком? Френсис Дрейк? Джек Воробей? Тот, кажется, тоже искал клад. (А мы ищем?) Джон Сильвер из «Острова сокровищ»?
– Кэри, каких самых известных капитанов в английской литературе ты знаешь?
– O Captain, my captain! our fearful trip is done,20 – откликнулась девушка, не отрываясь от своего дела. – Стихотворение Уолта Уитмена на смерть Авраама Линкольна.
Кто бы подумал, что она такая начитанная… Гимназия с английским уклоном давала о себе знать.
Некоторое время я мысленно развивал и эту гипотезу. Если капитан – Авраам Линкольн, то кто – его дети? Весь осиротевший американский народ, видимо. И к чему это нас приводит? Существует некий особый «американский шифр»?
Поисковый запрос «американский шифр» в Сети давал ссылку на М-209, портативную шифровальную машину, которую США использовали во Второй мировой войне. Почти пятнадцать минут я пробовал вникнуть в принцип её работы, но так и не разобрался.
Бросим шифровальную машину на время. Вообще, зачем ограничиваться именно англосаксами? Капитан Немо? «Двадцать тысяч лье под водой»? Чем нам поможет эта цифра? Вообще Жюль Верн? Что ещё он написал?
– О, Господи, какой же я тупица! – простонал я. (Кэри глянула на меня с беспокойством.)
И впрямь Жюль Верн – «Дети капитана Гранта»!
Если Волчок, вернее, его таинственный знакомый имел в виду именно Жюля Верна, то есть ли в романах знаменитого француза великий плот? Всё же подводная лодка на роль плота годится не очень.
Новый поиск в Сети выявил: есть! И даже в названии романа. Жангада – это, оказывается, бразильское судно, нечто вроде плота, связанного из шести стволов деревьев. Кажется, я читал «Жангаду» в далёком детстве – и да, там было какое-то письмо… Надо освежить в памяти её краткое содержание, разыскав статью о ней. Вот же, вот же то, что я ищу!
Узнав от отца о совершённой им чудовищной ошибке, Бенито арендует водолазный костюм и обшаривает дно реки, он находит тело Торреса и документ. Однако документ оказывается зашифрован как криптограмма.
А каким именно шифром? Самого-то интересного и не сказали…
«Шифром Виженера» – дала ответ Сеть.
Действительно, в статье «Шифр Виженера» имелась отдельная рубрика – «Упоминания в литературе», а в ней – письмо злополучного Ортеги, героя «Жангады».
В посланиях, зашифрованных этим способом, каждая буква исходного текста сдвигается на одну или несколько позиций вперёд по алфавиту в соответствии со значениями ключа. Например, при ключе 123 из слова «азбука» получается —
123123
АЗБУКА
БЙДФМГ
Очень, очень похоже на текст «Моего последнего года»! На радостях я даже попробовал использовать цифровой ключ непосредственно из «Жангады» – 432513 – и применить его к «…Л, ШЖЁ ЕРОЗЛЖ». Получалась бессмыслица, конечно.
Что ж, лобовой атакой не взяли, попробуем взять осадой и поищем настоящий ключ. Как славно, что Алла сохранила пробелы и знаки препинания! Какая она умница!
Предположим, что «А. Н. ТХОЙКТЁТ» – действительно фамилия с инициалами. Разумеется, не «великая мать В. И. Ленин» – но кто тогда? У кого из выдающихся русских имелось восемь букв в фамилии? На ум приходили только Иван Гончаров и Николай Некрасов, да ещё вот Тарас Шевченко. Шевченко вызывал в памяти лишь мазанки, бандуру, подковообразные усы, выражения вроде «шайтан турецький» и «свиняча морда», да ещё вот прицепилось «Який ти в чорта лицар?». (Откуда это, кстати?) Бросив невероятную гипотезу о Шевченко, я попробовал вместо «ТХОЙКТЁТ» подставить имена Гончарова и Некрасова. Увы, получившиеся ключи ничего не расшифровывали…
Вновь я уставился на первую строчку.
…Л, ШЖЁ ЕРОЗЛЖ МОЗ Ж РФНН КМБЬ, А. Н. ТХОЙКТЁТ:
После «ТХОЙКТЁТ» и двоеточия шли абзац и тире. Прямая речь дальше? Допустим. Значит, в первом предложении с высокой вероятностью есть глагол речи вроде «ответил». Где же он? Все слова достаточно короткие и на роль глагола не годятся, кроме, пожалуй, «ЕРОЗЛЖ». «Сказал»? «Заявил»? Я попробовал извлечь ключ из этих двух предположений – безрезультатно.
Так и сидел я, глядя на начало текста, лупая глазами, пока – о, я действительно «слоупок», как верно назвала меня девушка, я в самом деле непроходимый дурень! – меня не осенило: с чего я взял, будто за инициалами обязательно следует фамилия?! Инициалы могут стоять и сами по себе, особенно в личном дневнике. А значит, «ТХОЙКТЁТ» и есть глагол! «Спросил»? Семь букв. «Предложил»? Девять букв. «Произнёс»?..
С внезапно забившимся сердцем (смешно! было бы из-за чего волноваться! седина в бороду, а всё играю в мальчишечьи игры!) я надписал над «ТХОЙКТЁТ» – «произнёс» и принялся высчитывать расстояние между буквами. После П в алфавите идёт Р-С-Т: три буквы. После Р – С-Т-У-Ф-Х: пять… Что же у нас получается?
35013501
ПРОИЗНЁС
ТХОЙКТЁТ
У меня даже в горле пересохло, когда я увидел этот повторяющийся ключ.
Справившись с волнением, я надписал ключ над оставшимися буквами первой строки. Получалась абракадабра, пока я не сообразил, что при дешифровке, в отличие от шифрования, буквы нужно сдвигать не вперёд по алфавиту, а назад.
…3, 501 350135 013 5 0135 0135, 0. 1. 35013501:
…Л, ШЖЁ ЕРОЗЛЖ МОЗ Ж РФНН КМБЬ, А. Н. ТХОЙКТЁТ:
…И, УЖЕ ВЛОЖИВ МНЕ В РУКИ КЛЮЧ, А. М. ПРОИЗНЁС:
Так, наверное, чувствуют себя великие математики, доказав новую теорему. Хотя какой из меня математик? Який ты в чорта лицар?
И всё же похвастаться хотелось, конечно. Я поднял взгляд на Кэри – и обнаружил, что она сама пристально, внимательно на меня смотрит. Уже, наверное, давно.
16
– Олег…
– Да?
– Завтра мы едем в Минск, окончательно продаём твою Daewoo Nexia, гуляем по городу? Вылетаем послезавтра?
– Верно.
– Ты собираешься встретиться с покупателем…
– …Около полудня. А что такое?
– Я подумала… Можно договориться с ним на раннее утро? Правда, выехать придётся совсем рано…
– Ты хочешь оставить больше времени на Минск?
– Нет! Совсем нет. Я…
Девушка слегка покраснела, но мужественно продолжила:
– Я выяснила, ещё немного раньше, что в Вильнюсе есть дом-музей Чюрлёниса. В этом доме должна иметься картина Аллы Флоренской. Автобусы из Минска ходят почти каждый час, в дороге они около четырёх часов. Если выедем утром, успеем обернуться к ночи…
Несколько секунд я соображал, прежде чем задать логичный и справедливый вопрос:
– Нас эти русофобы пропустят через границу, даже с визой?
– А мы попробуем! – энергично ответила девушка. – Ну да, ясное дело, русских пускают неохотно, с туристической визой шансы вообще маленькие. Сайт посольства говорит, что лучше бы иметь «гуманитарные основания». Лечение, например. Я уже написала в несколько клиник и медицинских центров, и из одной мне ответили. В общем, мне удалось записаться на приём на завтра – сама не ожидала!
– Когда ты успела?!
– Вот совсем недавно и успела…
Да, мы оба провели эти полтора часа плодотворно! Я только покачал головой.
Идея была, конечно, из ряда вон. Выезжать в четыре утра? Потратить на автобусные билеты что-то половину моего месячного заработка? Я ведь не печатаю деньги, у меня в подвале не стоит печатного станка, да и подвала нет в городской квартире… И ещё неясно, не развернёт ли нас литовский пограничный контроль! Что за бред, что за сумасшествие…
Все эти мысли, конечно, читались на моём лице. Кэри, с беспокойством наблюдавшая за мной, краснела всё больше – даже кончики ушей у неё в итоге покраснели. Произнесла наконец:
– Не говори мне ничего! Сама понимаю: безумие. Даже сейчас смотрю на этот план другими, взрослыми глазами и вижу: безумие. Ну, скажи уже: «Нет!» – и я выдохну с облегчением. Мне и самой неловко – зачем вообще заговорила…
– Так как билеты, думаю, стоят недёшево, про ночёвку в хороших гостиницах нам на какое-то время придётся забыть, а искать места в хостелах, ночлежках для бедных, – ответил я. – Ну, или перебиваться с хлеба на воду пару дней, причём буквально с хлеба на воду. Ты к этому готова?
Я лукавил, конечно: денег бы у нас хватило даже и с этими непредвиденными расходами. Мне просто хотелось проверить её решимость.
– Конечно, готова, – тут же ответила девушка. – Я только не понимаю: ты что, согласен? Правда?! О-о-о…
17
– Прямо сейчас взяла бы тебя да расцеловала! – призналась мне Кэри. – Да только, пожалуй, не стоит…
– Верно, не стоит, – согласился я.
– Я знаю, что не стоит, но… ты заметил, что искры пробегают между нами? Мне снова неловко…
– Конечно, заметил, ещё с января! – я рассмеялся: вот уж огромное открытие сделала! И добавил, немного серьёзнее: – Просто эти искры могут пробегать между почти любым мужчиной и почти любой женщиной, если оставить их наедине. Мы, люди, так устроены. И эти искры, какими бы значимыми они ни казались в молодости, да и после иногда, всё-таки не самое важное.
Кэри глядела на меня исподлобья, грызя свой карандаш, и я чуть не сказал себе: какого чёрта! В самом деле, что за дурака я валяю? Нет, удержался: в конце концов, во мне тоже имелось два человека, человек животный и человек честный. И в каждом из нас они имеются. А, чтобы развеять её хмурость, обронил как бы невзначай:
– Да, я ведь расшифровал первую строку…
Её глаза широко распахнулись:
– Да?!
Но принимать поздравления и радоваться было некогда. Я ушёл на балкон и начал вызванивать Николая Ивановича, покупателя автомобиля, чтобы перенести сделку на утро. Кэри села искать билеты на автобус – мы купили их тем же вечером. Лишь после этого я коротко пояснил девушке, что такое шифр Виженера и как заниматься дешифровкой. За дешифровку она немедленно и села, для начала надписав ключ 3501 над всеми словами первого абзаца.
