УНГКУ
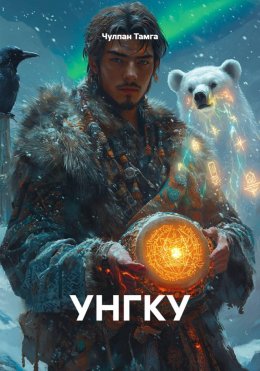
ПРОЛОГ: ПЕСНЬ, КОТОРОЙ НЕТ
В тот год осень не пришла. Её согнал с тундры чужой ветер: не несущий запахов полыни и спелой морошки, а безжизненный, острый, как ледяная стружка. Он выедал краски мира, оставляя лишь свинцовую воду в озерах, да черные, голые лиственницы, застывшие в немом ужасе. Стойбище у Серого Озера вымерло, притихло, затаившись в чумах, где дыхание людей тут же замерзало на шкурах инеем. Скот метались в загоне, выкатывая безумные белки глаз, чуя то, что не дано было чуять людям. Воздух густел, становясь стеклянным и колким, и каждый вдох обжигал горло, словно осколками.
И тогда шаманка Айта, мать Айана, поняла, что время просьб прошло. Она знала – это не просто стужа. Это было дыхание великой обиды, ярость, копившаяся в жилах земли долгие годы, и теперь она поднималась на поверхность, чтобы потребовать ответа.
Она вышла из своего чума, скинув с плеч теплую малицу. Осталась в тонкой ровдужной рубахе. Холод обжег ее кожу, как раскаленное железо. Но она не дрогнула. Ее босые ступни утонули в хрустящем снегу, сливаясь с землей, становясь ее частью. Она взяла в руки унгку – не инструмент, а живое существо, спутника и коня. Обод, вырезанный из семивековой лиственницы, что росла на горле мира. Шкуру белого оленя, добровольно отдавшего свой облик. Металлические подвески, каждая из которых хранила голос предка, их шепот отзывался в ее пальцах холодной вибрацией.
Она закрыла глаза, отрешаясь от дрожи плоти, от страха, что клубком засел в груди. И ударила.
Звук родился не в бубне, а где-то глубоко под землей. Это был не грохот, а первый удар сердца мира – низкий, сокрушительный, заставляющий вибрировать кости. Тум-тум. Пауза, наполненная нарастающим гулом. Тум-тум.
И тогда из ее горла полилась песня. Это не было пение в привычном смысле. Это было дыхание тундры, обретшее голос. Глубокий, вибрирующий кайгор, рождавшийся не в связках, а в самой глубине души, был основой – мерзлотой, на которой держалось все. Поверх него взлетали свистящие, режущие воздух обертоны-хосуны – души ветров, застрявшие меж скал. Она не произносила слов. Она произносила имена. Имя Ветра. Имя Озера. Имя Холода. Она напоминала им о Великом Разделении, о времени, когда они были единым целым, и язык зверя был понятен человеку, а дух реки мог принять облик друга.
Вернитесь! Вспомните!»«Разлучились миры, раскололись, Разорвалась песня на части… Но в сердце шамана живет память, Живет та, первая, песня…
Пространство вокруг нее заплакало. Стойбище поплыло, стало призрачным, как мираж. Чумы растворились, и вместо них возникла бескрайняя равнина из черного, зеркального льда. Нижний мир. Мир духов-предков, мир обид, хранимых тысячелетиями. Лед был не просто водой – он был временем, остановившимся от обиды, и каждый шаг по нему отдавался эхом в прошлом и будущем.
Она шла по этому льду, и ее шаги отдавались гулким эхом в абсолютной тишине. Ее унгку гремел, и от каждого удара по льду расходились трещины, из которых сочился не свет, а тьма, еще более густая и древняя. Из этой тьмы на нее смотрели. Не глазами, а самой пустотой. Духи. Они были холодом, что сжимал ее горло, они были страхом, что студил кровь. Она чувствовала их взгляды – тяжелые, безразличные, полные укоризны.
Зачем? – прошелестело в ее сознании, не звуком, а ощущением осколка льда в сердце. Твой род забыл Договор. Берет рыбу, не благодарит Эдье. Срубает дерево, не попросив прощения у Тайги. Охотится, не благодаря Духа Зверя. Вы забыли язык, на котором с нами говорили. Вы только берете. Ваши сердца стали глухи, а руки – лишь для захвата. Вы разучились благодарить.
– Я не забыла! – ее голос прорвался сквозь ледяную мглу, чистый и острый, как крик чайки, – Я – память своего рода! Я – голос, что связывает миры! Я пришла вернуть вам ваш голос и напомнить нам о нашем долге!
Она пела. Она вплетала в свою песню шелест кедровой хвои, плеск рыбы в воде, стук копыт оленя по твердой земле. Она напоминала духам о красоте Среднего мира, который они когда-то вместе населяли. Она отдавала им свои воспоминания: тепло первого солнца после полярной ночи, вкус дымного чая, смех сына – все самое дорогое, что у нее было. С каждым отданным образом она чувствовала, как что-то стирается внутри, как пустота подступает к самому краю души.
И это работало. Слепая ярость Холода начала таять, сменяясь усталой печалью. Ледяная хватка ослабла. Она чувствовала, как стужа отступает, сворачиваясь, уходя обратно в свои пределы. Но победа была горькой. Она знала, что это лишь отсрочка. Рана мира была слишком глубока, чтобы затянуться одним камланием.
Но плата была чудовищной. С каждым тактом, с каждой отданной памятью, она чувствовала, как пустеет. Ее жизнь уходила в бубен, становясь звуком, становясь мостом. Она была лишь проводником, и сила, что текла через нее, выжигала всё на своем пути.
Она сделала последний удар. И оборвала песню на самой высокой ноте, оставив ее вибрировать в надтреснутом воздухе.
Возвращение было подобно удару. Она снова стояла в центре стойбища. Ноги не держали. Она рухнула на колени, обеими руками прижимая к груди унгку. Он был горячим, как живое сердце, и пульсировал в ее ладонях, словно пытаясь продолжить песню, которой больше не было.
И тогда он лопнул.
Звук был тихим, стыдливым, словно лопнула натянутая струна жизни. Кожа порвалась от края до края. Дерево обода с хрустом расщепилось. Песня, которую она вернула мирам, умерла, не успев родиться по-настоящему.
В наступившей тишине был слышен только вой ветра – но теперь это был просто ветер, а не голос вселенской обиды.
К ней подбежал маленький Айан. Его глаза, широко раскрытые, были полны не детского любопытства, а животного ужаса. Он не видел духов, не слышал песни. Он видел, как его могучая мать, всегда такая несокрушимая, лежит на снегу, а ее священный бубен – разорван.
Она из последних сил схватила его за руку. Ее пальцы были холоднее льда.
– Сынок… – ее шепот был похож на предсмертный хрип зверя. – Слушай… Они не злые… Они… обижены. Мы… нарушили… Договор. Все… только начинается… Ищи… тех, кто под землей… Сихиртя… Слушай… мир… он всегда… поет… Его песня… тише… нашего шума…
Она замолкла. Ее рука разжалась.
Айан не понял ни слова. Детский ум отринул сложность и оставил только суть: ужас, леденящий душу. Лицо матери, уходящее в небытие. И этот сухой, щелкающий звук – звук разорвавшейся кожи бубна. Звук конца.
Стужа отступила. На следующее утро солнце осветило оттаявшую тундру. Но настоящий холод, холод утраты и страха, навсегда поселился в сердце мальчика. И где-то далеко, в каменном чреве земли, проснулась та, кому суждено было стать его учителем и спартанцем. Эльга. И она почувствовала, как в мире оборвалась еще одна нить, и тихо вздохнула, готовясь к буре, что должна была вот-вот начаться.
Глава 1. Охотник
Ветер был его первым и главным собеседником. Он знал его лучше, чем кого бы то ни было в стойбище. Лучше, чем Хому, с которым когда-то делил мальчишечьи тайны. Лучше, чем стариков, чьи голоса сливались в однородный гул на вечевых сборах.
Он не просто дул – он говорил. Шелестел сухой осокой, прибитой к промерзшей земле, и это значило: здесь пусто. Глухо гудел в кронах лиственниц на гряде холмов, выстуживая стволы, – и это был рассказ о долгом одиночестве, о зиянии меж деревьев, где не ступала ничья нога. Свистел тонко и зло, разрезая воздух над голыми скалами, – и этот свист был вестью издалека: я приношу с севера ледяное дыхание, готовься.
Айан слушал. Его уши, отточенные годами жизни в тундре, улавливали каждую перемену в голосе стихии, каждый перешепот. Но он слышал только факты. Язык выживания. Он был глух к тому, что стояло за этими фактами – к тоске ветра, к его гневу или печали, к тем древним сказаниям, что, как верили старики, он несет из-за края земли. Для него ветер был картой, компасом и барометром, а не собеседником. Он читал его, как читал следы на снегу – бесстрастно и точно.
Он стоял на краю старого снежника, уже подернутого сверху серой коркой наста. Ноги сами собой заняли устойчивое положение, чуть расставившись, смягчившись в коленях. Поза охотника. Поза ожидания. Его тело, длинное и жилистое, было лишено лишних движений, словно вырублено из того же дерева, что и лиственницы вокруг. Лицо, обветренное и скуластое, с темными, глубоко посаженными глазами, ничего не выражало. Лишь легкая тень напряжения у рта, скрытого воротником малицы, выдавала сосредоточенность. В этой неподвижности была своя медитация, свой диалог с миром, пусть и односторонний. Он отдавал холоду свое тепло, а взамен получал право быть здесь, право на этот след, на эту добычу.
Он медленно провел ладонью по снегу, счищая верхний слой. Под ним лежал след. Свежий, не более часа назад. Олень. Не матерый самец, чьи копыта врезаются в землю с грубой силой, и не пугливый молодняк, чьи отпечатки метались и путались. Это была самка, осторожная, но уверенная в своем пути. Айан прочитал это по форме копыта, по глубине вдавливания, по расстоянию между шагами. Его пальцы, несмотря на холод, оставались чуткими. Он водил ими по краю следа, как по строке знакомой песни, ощущая под кожей историю зверя: вот она замедлилась, принюхиваясь, вот отклонилась к карликовой березке, ободрала несколько почек. Он мог бы рассказать всю ее жизнь по этому следу – где она пила воду, где спала, где услышала вдалеке вой волка. Но ему не нужна была ее жизнь. Ему нужно было ее мясо. Ее шкура.
Он поднял голову, его взгляд, цепкий и острый, как когти кречета, скользнул по линии горизонта, по серому, низкому небу, по темным пятнам леса вдали. Он не просто смотрел – он вычислял. Он знал, что олень сейчас где-то там, в распадке между двумя поросшими кедровым стлаником холмами. Знало его тело, знали мышцы, помнившие бесчисленные погони. Но его душа оставалась немой. Он не чувствовал присутствия зверя как живого духа, не слышал тихого зова его крови, который, как говорила бабка Аанчал, настоящий охотник ощущает кожей. Для него олень был лишь целью. Точкой в пространстве, которую нужно достичь и поразить.
«Бредни», – мысленно отрезал он, поднимаясь во весь рост. Потрескавшаяся от мороза кожа его верхней одежды скрипела на сгибах. Он резко встряхнулся, сбрасывая с себя оцепенение, и снова стал тем, кем был – машиной для добычи пропитания.
Он двинулся по следу, и его шаги были бесшумными, вкрадчивыми, будто он не человек, а еще одна тень, скользящая по белой земле. Он не думал. Он действовал. Тело было идеально настроенным инструментом, а сознание – холодным и ясным, как вода в горном ручье. В нем не было места для шепота духов, для песен, которые, по словам матери, могли усмирить зверя лучше любой стрелы. Его мать… Он резко дернул головой, отгоняя наваждение. Мысли о ней были единственной слабостью, которую он себе позволял, и то лишь изредка, в самые темные ночи.
«Почему олень даёт себя убить»
Так звучало предание, которое в детстве ему рассказывал старик Тумат, еще до того, как стал вождем и врагом.
«Слушай, мальчик, и запоминай на всю жизнь. Олень – не просто добыча. Он – дар. Посланник от самого Духа Тайги, Хозяина Зверей. Когда настоящий охотник, с чистым сердцем и легкой душой, выходит на промысел, Дух Тайги смотрит на него. И если видит, что человек честен, что он не для жадности идет, а для пропитания рода, для жизни, тогда Дух шепчет одному из своих детей: «Ступай. Отдай ему свое тело. Твой дух вернется ко мне, и я рожу тебя снова в новом теле, еще более сильном и прекрасном».
И олень слушается. Он сам выходит на охотника. Он подставляет под стрелу свой бок, точно зная, где бьется сердце. Он дарит себя. И в глазах его в последний миг нет страха – есть лишь тихое согласие и обещание вернуться.
Но если охотник жадный, жестокий, если он убивает для забавы или чтобы похвастаться шкурой, если в сердце его чернота – гнев Духа Тайги будет страшен. Он наслает на такого «проклятие пустоты». И пойдет тогда охотник по тайге, и не будет видеть ни одного зверя. Ни следа, ни пера. Только ветер да голые камни. И так до седьмого колена его род будет ходить с пустыми нартами, пока не искупит вину предков. Запомни это, Айан. Охота – это не убийство. Охота – это договор».
Айан помнил. Но для него это была всего лишь сказка. Красивая и жестокая выдумка, призванная оправдать необходимость смерти. Договор? Какой может быть договор с тем, чье горло ты перерезаешь? Нет, в мире есть только сила, голод и холод. И выживает тот, кто быстрее, хитрее и безжалостнее. Он видел, как умирают те, кто верил в договоры. Его мать была живым – или мертвым – тому примером. Она ушла в мир духов договариваться и не вернулась. А он остался. Остался с пустым чумом, с насмешками в спину и с единственной правдой: выживает сильнейший.
Он замер, затаив дыхание. Ветер донес до него едва уловимый запах – теплый, терпкий, запах оленьего волоса и дыхания, смешанного с ароматом пережеванной хвои. Он был совсем близко. Сердце его не забилось чаще. Напротив, оно словно замедлилось, превратившись в холодный, тяжелый камень в груди. Весь мир сузился до точки впереди, до пространства за пригорком.
Айан медленно, плавно, как поднимается луна над сопками, снял с плеча лук. Тетива, туго натянутая на роговые упоры, издала едва слышный шелест. Он вложил стрелу. Древко из прямой, как стрела, ветки лиственницы, оперение из маховых перьев белой куропатки, наконечник – отточенный до бритвенной остроты черный камень, выменянный у кузнеца Дархана на шкуру песца. Оружие было продолжением его руки, его воли. Оно не знало сомнений. Оно не ведало жалости.
Он сделал последний шаг, обойдя пригорок, заросший карликовой березой.
И увидел ее.
Она стояла в двадцати шагах от него, в небольшой ложбинке, прикрытой от ветра. Молодая важенка. Шерсть ее, серая с проседью, была взъерошена, большие темные глаза, влажные и бездонные, смотрели куда-то вдаль, словно она слушала ту самую песню мира, что была недоступна Айану. Она была прекрасна в своей дикой, спокойной силе. И она была абсолютно беззащитна перед ним. Она не убегала. Она стояла и смотрела. И в этой тишине, в этом ожидании, вдруг с мучительной ясностью вспомнились ему слова Тумата. «Он сам выходит на охотника… Он подставляет под стрелу свой бок…»
Сердце Айана не дрогнуло. Не было в нем ни восторга, ни жалости, ни того священного трепета, о котором говорило предание. Был лишь холодный расчет. Дистанция. Угол. Сила ветра. Он видел не дух, не дар Тайги, а мясо. Килограммы. Шкуру. Запас еды на неделю для всего стойбища. Он мысленно прикидывал вес туши, вспоминал, сколько сухожилий можно вынуть для ниток, как выделать шкуру.
Он поднял лук. Мышцы спины и плеча напряглись, стали как камень. Он прицелился. В глазу рябило от напряжения, но рука была недвижна.
И в этот миг олень повернул голову. Ее взгляд встретился с его взглядом. Не было в нем ни вызова, ни мольбы. Было… ожидание. Такое же, как в рассказе Тумата. Она стояла боком, подставляя ему свой шерстистый бок, точно зная, где под ним бьется горячее сердце.
«…добровольно подставляет стреле своё сердце…»
Мысль, острая и нежеланная, как заноза, вонзилась в сознание Айана. Он отогнал ее. Вздор. Зверь просто замер, испугавшись внезапного появления человека. Это инстинкт. Глупость. Не более того.
Его палец уже начал разжиматься, отпуская тетиву, но что-то заставило его замедлить дыхание. Рутина. Обряд. То, что делали все охотники перед решающим выстрелом, даже такие скептики, как он. Ритуал, лишенный для него всякого смысла, но соблюдаемый по привычке, из уважения к порядку, который он сам же и презирал.
Он мысленно, беззвучно, движением губ, прошептал древнюю формулу благодарности, выученную еще в детстве. Слова были пустыми, высохшими, как прошлогодние стебли полыни. Он не вкладывал в них веры, не чувствовал связи с тем, к кому они были обращены. Это был жест, привычка, пережиток. Как стук по дереву, чтобы не сглазить.
«Дух Тайги, прими мой дар. Дух Оленя, вернись к своему отцу. Я беру твое тело с благодарностью, чтобы жизнь моего рода продолжалась».
Пустые слова. Шепот в пустоте. Он произносил их в никуда, зная, что никто не услышит.
Тетива сорвалась с пальцев с коротким, упругим хлопком. Стрела, свистнув, рассекла воздух и с глухим, влажным стуком вонзилась точно туда, куда он целился. В сердце.
Олень не издал ни звука. Только вздрогнул всем телом, ноги подкосились, и он тяжело рухнул на бок. Глаза его потемнели, уставившись в свинцовое небо. В них не было ни обещания вернуться, ни согласия. Была лишь уходящая жизнь. Алая кровь растеклась по снегу, ярким, почти кощунственным пятном на белизне.
Айан опустил лук. Обычное дело. Удачный выстрел. Он подошел к тушке, все еще дергающейся в последних судорогах. Он воткнул рядом с ней древко с привязанной полоской белой кожи – знак для тех, кто поедет за добычей на нартах, что охотник здесь, и добыча есть. Руки его действовали автоматически, привычно перевязывая тушу крепкими ремнями.
Он стоял над убитым зверем, и странное, неприятное чувство шевельнулось в его груди. Не раскаяние. Нет. Он не позволял себе такой роскоши. Скорее… несоответствие. Между тем, что он только что сделал, и той древней, мощной историей о даре и договоре. Он ощущал себя не участником сакрального обмена, а просто убийцей. Эффективным, хладнокровным, но всего лишь убийцей. Он взял жизнь, но не получил дара. Он нарушил невидимые правила игры, в которую даже не верил, и от этого ему стало… не по себе.
«Чепуха, – резко оборвал он свои мысли. – Мясо есть мясо». Он наклонился, чтобы перекинуть тушу через плечо, и его взгляд упал на стрелу, торчащую из тела. И тут он заметил то, чего не видел раньше. Прямо перед тем местом, где упал олень, на голой земле, оттаявшей под его телом, лежал круглый, плоский камень с идеальным отверстием посередине. Камушек-оберег. Детские безделушки. Такие вещи собирали дети, веря, что они приносят удачу.
Айан фыркнул. Совпадение. Просто камень. Подковы и четырехлистный клевер для глупцов. Он резко выдернул стрелу, протер наконечник о снег и сунул в колчан. Но прежде чем развернуться, он на секунду задержал взгляд на камне. А потом, почти неосознанно, быстрым движением поднял его и сунул в мешочек у пояса. На всякий случай. Просто так.
Пора возвращаться. Стойбище ждало.
Обратный путь всегда казался короче. Сознание, отпущенное с поводка охотничьего азарта, начинало блуждать. И сегодня оно упорно возвращалось к матери.
К Айте.
Он помнил ее не шаманкой, не могучей жрицей, вводящей себя в транс. Он помнил ее теплые руки, которыми она поправляла ему волосы. Помнил ее тихую колыбельную, совсем не похожую на те дикие песни, что она выла во время камланий. Он помнил запах дыма от очага, который смешивался с запахом ее кожи, и это был запах дома. Запах безопасности. А потом этот страшный вечер. Вой ветра, который был не просто ветром. Разорванный бубен. Ее ледяные пальцы, впившиеся в его руку. И шепот, который он не мог забыть, даже если бы очень захотел: «Нарушен Договор…»
Что за договор? С кем? С духами, которые являются лишь плодом больного воображения? С оленями, которые добровольно подставляют сердце? Он видел, к чему привела ее вера в этот «договор». К смерти. К тому, что он остался один. Сначала ушла она, растворившись в своих видениях. Потом отвернулись люди, испугавшиеся ее наследия в нем. И он остался с ветром. С холодом. С луком. С простыми и честными вещами, которые не предадут.
Он ненавидел все это. Ненавидел песни, ненавидел бубны, ненавидел этот шепотливый, полный невидимых сил мир, который отнял у него мать. Его мир был простым и честным: лук, стрела, след на снегу. Все остальное – слабость.
Вот и стойбище. Чума, похожие на гигантские темные шишки, высыпавшие на берег Серого Озера. Дымок, вьющийся в неподвижном воздухе. Лай собак. Крики детей. Знакомый быт, который он одновременно любил и от которого отгораживался. Это было его место, его род, но он всегда чувствовал себя здесь чужим. Призраком за стеклом, который наблюдает за жизнью, но не может к ней прикоснуться.
Он вошел в круг стойбища, и на него сразу упали взгляды. Старики, сидевшие у входа в общее жилище, перестали говорить. Женщины, выделывающие шкуры, замедлили движение скребков. Дети замолчали, уставившись. Он прошел мимо, неся на плечах тушу оленя, как живое доказательство своей правоты. Он – кормилец. Он – сила. А они… они лишь шепчутся о духах и нарушенных договорах. Они боятся его. Боятся тени его матери, что лежит на нем темным пятном.
Он бросил тушу у входа в свой чум и, не глядя ни на кого, стал расседлывать свою упряжку. Он чувствовал их молчание. Оно было тяжелым, густым, как смола. В нем не было благодарности за добычу. В нем было осуждение. Отчуждение. Он был своим по крови, но чужим по духу. Сын великой шаманки, отрицающий ее наследие. Охотник, который слышит ветер, но глух к песне, что в нем заключена.
Он вошел в чум. Полумрак. Запах дыма, старых шкур, вяленого мяса. Одиночество. Здесь не было никого, кто бы ждал его. Ни теплых рук, ни тихой колыбельной. Только холодные стены и еще более холодные мысли.
Снаружи ветер снова зашелестел осокой. Но Айан уже не слушал. Он достал точильный брусок и принялся методично, с яростью, точить лезвие своего ножа. Скрип камня по стали был единственным звуком, который он хотел слышать. Единственной песней, в которую он верил. Это был простой, честный звук. Звук стали. Звук факта. В нем не было тайны. Не было духов. Не было нарушенных договоров. Была только острота. Только ясность. И пока он точил нож, все остальное переставало существовать.
Глава 2. Стойбище у Серого Озера
Вечер в стойбище растекался по земле медленно и неотвратимо, как густая оленья кровь. Длинные, косые тени от чумов тянулись к воде Серого Озера, сливаясь в единую липкую синеву. Небо на западе тлело тусклым жаром, словно раскаленный докрасна металл, брошенный в ледяную воду, и этот блеклый свет окрашивал дымок от очагов в цвет пепла. Воздух, еще недавно звонкий и колкий от мороза, становился вязким, наполняясь запахами жизни: едким дымом жженой полыни, сладковатым духом вареной оленины, кисловатым дыханием дымокуров, где вялились шкуры, и вездесущим, неподвижным запахом самого озера – запахом мокрого камня, тины и какой-то древней, водяной тоски. Этот запах был фоном всего существования стойбища, его вдыхали с первым криком новорожденные и выдыхали умирающие. Он был памятью этого места.
Айан вышел из своего чума, спасаясь от давящего одиночества, которое сгущалось в нем с каждым часом, проведенным в четырех стенах. Он стоял, прислонившись к упругой стенке из оленьих шкур, и наблюдал. Его возвращение с добычей не изменило ровным счетом ничего. Тушу важенки забрали женщины, не проронив ни слова благодарности, лишь кивнув с холодной, деловой вежливостью, какой удостаивают ремесленника, выполнившего свою работу. Он был нужен им как руки, как сила, как поставщик мяса. Но не как свой. Он чувствовал себя инструментом, который терпят за его полезность, но держат на расстоянии, как держат зазубренный нож – осторожно, чтобы не порезаться.
Стойбище жило своей размеренной, отточенной веками жизнью, и Айан изучал его как карту чужой страны. У общего балока, большого, покрытого двойным слоем шкур жилища, старики, сгорбленные, как высохшие коряги, неспешно чинили сети. Их пальцы, кривые от возраста и труда, двигались с ленивой уверенностью, будто вплетали в веревки не леску, а само время, минуту за минутой, день за днем. Они были хранителями не только снастей, но и порядка, того незыблемого уклада, против которого восставал сам Айан своим существованием.
Женщины у своих чумов возились с котлами, подвешенными на треногах над невысокими, но жаркими кострами. Золотистые блики огня плясали на их смуглых, без улыбок, лицах. Их руки, красные от работы и холода, месили тесто, перебирали ягоды, скоблили шкуры. Их жизнь была бесконечным циклом приготовления, шитья, чистки – борьбой за тепло и сытость в этом холодном мире. Они редко смотрели на него, а если их взгляды и скользили по нему, то быстро отводились, словно от чего-то непристойного.
Дети, еще полные дневной энергии, носились между нартами, их визгливый смех резал воздух, как стекло. Они были единственными, кто не ведал о тяжести взглядов и силе отчуждения. Но и их беззаботность имела свои границы. Стоило им приблизиться к кромке воды, как из группы стариков раздавался негромкий, но властный окрик:
– Отойди от воды! Не тревожь Хозяина Озера!
И дети, словно вспомнив что-то важное, сразу смолкали и пятились прочь, бросая на озеро робкие, испуганные взгляды. Их внезапная серьезность была красноречивее любых слов. Страх перед незримым хозяином вод впитывался ими с молоком матери.
Айан скептически усмехнулся уголком губ. Страх. Вечный спутник и орудие суеверий. Они боялись озера, как он в детстве боялся темноты. Но он вырос и перестал верить в чудовищ, прячущихся в тенях. А они – нет. Они остались в плену у своих страхов, передавая их из поколения в поколение, как самое ценное наследство.
Его взгляд упал на знакомую коренастую фигуру у кузницы – приземистой постройки из плах и земли, откуда валил густой, черный дым, пахнущий гарью и раскаленным металлом. Хома. Его друг детства. Бывший друг. В памяти всплыли картины их мальчишечьих игр – погони за ящерицами, строительство шалашей в лесу, первые, неумелые попытки стрельбы из лука. Тогда между ними не было ни страхов, ни предубеждений. Тогда они были просто двумя мальчишками, объединенными жаждой приключений. Теперь между ними лежала пропасть, вырытая смертью Айты и неверием Айана.
Хома, не замечая Айана или делая вид, что не замечает, с силой опускал тяжелый молот на заготовку, зажатую в клещах. Каждый удар отдавался глухим, чистым звоном, разносимым по всему стойбищу. Рыжие волосы Хомы, вечно растрепанные, слиплись от пота на лбу. Мускулы на его плечах и спине играли под кожей, демонстрируя грубую, животную силу. Он был рожден для этого – для силы, для простого, понятного дела. Охота, кузня, борьба. Никаких духов, никаких бубнов, никаких сложных вопросов, на которые нет ответа. В его мире все было ясно: друг – это друг, враг – это враг, а металл нужно ковать, пока он горяч. Простота Хомы когда-то притягивала Айана, а теперь раздражала. Она казалась ему формой духовной слепоты.
Айан хотел было подойти, найти повод заговорить, вернуть хотя бы подобие того, что было, как вдруг из-за угла кузницы появилась Ина, младшая сестра Хомы. Она несла в руках берестяной туес с водой, и ее походка была такой же легкой и упругой, как бег молодой ланки. Увидев Айана, она замедлила шаг, и на ее смуглых скулах выступил легкий, чуть заметный румянец. Ее глаза, большие и темные, как спелые морошки, встретились с его взглядом на мгновение – и тут же опустились. Но в этом мгновенном контакте было столько тепла, столько немого вопроса и непрошеной надежды, что Айан почувствовал неловкость, смешанную с какой-то щемящей нежностью, которую он тут же подавил.
Он знал о ее симпатии. Знать-то знал, но что он мог ей предложить? Себя – отщепенца, сына проклятой шаманки, человека с «порченной» кровью? Ее брат, Хома, и без того смотрел на него как на прокаженного, и Айан не мог его винить. Отдать сестру в род, на котором лежит тень? Это было бы безумием с точки зрения любого здравомыслящего человека.
– Ина! – грубо окликнул ее Хома, отложив молот. – Не зевай! Вода в котле выкипает.
Его тон был не просто братским, он был оберегающим, почти властным. Хома бросил быстрый, колючий взгляд на Айана, словно предупреждая: держись от моей сестры подальше. В этом взгляде не было ненависти – была твердая, непоколебимая уверенность в том, что он поступает правильно, защищая свою сестру от дурного влияния.
Ина, смущенно кивнув, поспешила к своему чуму, не оглядываясь, но Айан видел, как напряглась ее спина, почувствовал ее смущение и досаду.
Хома вытер лицо засаленной тряпицей и, наконец, прямо посмотрел на Айана. В его глазах не было прежней товарищеской теплоты, того огня, что зажигался в них, когда они вдвоем преследовали раненого лося или соревновались в метании топора. Была настороженность, смешанная с неловкостью и разочарованием, как будто Айан предал не только память его матери, но и их дружбу.
– Слышал, добыча есть, – произнес Хома, его голос прозвучал глухо, как удар молота по остывшему металлу. – Молодец.
– Такая же, как всегда, – отозвался Айан, стараясь, чтобы его голос звучал ровно и бесстрастно. – Мясо есть мясо. Шкура есть шкура.
– Не всегда, – многозначительно бросил Хома и повернулся спиной, принимаясь снова за работу, всем своим видом показывая, что разговор исчерпан.
Фраза повисла в воздухе, тяжелая и недобрая, как предгрозовая туча. «Не всегда». Что это значило? Что олень был не простой? Что выстрел был не таким, как надо? Что сама охота была чем-то оскверненной? Айан сжал кулаки, чувствуя, как знакомое, едкое чувство гнева поднимается из глубины. Эти постоянные полунамеки, эти взгляды исподтишка, это молчаливое осуждение – они изматывали хуже, чем долгая погоня по глубокому снегу. Он предпочел бы открытый конфликт, удар, даже нож в грудь – все, что угодно, кроме этой тягучей, ядовитой паутины недомолвок.
В это время из кузницы вышел сам Дархан. Кузнец был похож на медведя, вышедшего из берлоги, – огромный, широкоплечий, с руками, покрытыми старыми ожогами и следами от искр, которые сливались в причудливый узор, рассказывающий историю его труда. Его лицо, обезображенное оспой, было неподвижным, как каменная глыба, и так же бесстрастным. Он редко говорил, предпочитая язык огня и металла – язык, который был ему понятен и не допускал двусмысленностей. Его темные, глубоко сидящие глаза, похожие на два уголька, медленно обвели стойбище и на мгновение остановились на Айане. В них не было ни осуждения, ни одобрения, ни страха. Был лишь холодный, отстраненный интерес, словно он рассматривал не человека, а кусок руды, в котором еще предстоит разглядеть будущий клинок, или, наоборот, брак, который стоит выбросить. Дархан кивнул Айану – коротко, почти незаметно. Это был высший знак внимания от молчаливого великана. Возможно, единственный в стойбище, кто видел в Айане не «порченного» шаманским даром, а просто человека. Или материал, чьи свойства еще предстояло проверить.
Айан кивнул в ответ, чувствуя странное облегчение от этого безмолвного обмена. Он отвернулся и отошел прочь, к краю стойбища, чувствуя, как на него снова смотрят. Со стороны женщин, чьи скребки на мгновение замерли. Со стороны стариков, чьи старческие голоса понизились до неразборчивого шепота. Шепотков не было слышно, но он чувствовал их кожей – они витали в воздухе, как мошкара в летний вечер, проникая повсюду и не давая забыть о своем месте.
Он подошел к тому месту, где начинался короткий спуск к воде. Серое Озеро лежало перед ним, огромное и неподвижное, как гигантская туша спящего зверя. Его вода и впрямь была серой – не цвета грозовой тучи, а матовой, глухой, словно поверхность была покрыта тончайшей, непроницаемой пленкой пепла. Оно не отражало ни угасающий закат, ни первые робкие звезды, проступающие на востоке. Оно поглощало свет, вбирая его в свою бездонную, холодную толщу, не оставляя ничего взамен. От него веяло тишиной, но не мирной, а зловещей, выжидающей, как тишина в засаде. Казалось, само озеро дышало, и его дыхание было ледяным и медленным.
У самого берега, на большом плоском камне, отполированном бесчисленными прибоями и ступнями, сидела группа детей, подобрав под себя ноги и обхватив колени руками. Перед ними, жестикулируя высохшей, как прошлогодний стебель, рукой, стоял самый древний из стариков – Эльвек. Его спина сгорбилась почти под прямым углом, а кожа на лице была похожа на высохшую бересту, испещренную глубокими трещинами-морщинами. Его голос, хриплый и прерывистый, долетал до Айана обрывками, но каждое слово было отчеканено, выверено временем.
– …а вы слушайте, детки, и не забывайте! – бормотал старик, и его мутные, почти слепые глаза, казалось, видели не собравшихся перед ним детей, а что-то далекое, скрытое в глубине времен. – Не шумите у воды, не плюйте в нее, камнями не кидайтесь. Не смейтесь над тишиной озера. А то Хозяин Вод, рассердится. Он мудрый, он все тайны знает, все помнит, но и мстительный. Гордецов не любит. Вот как ту сопку…
И Эльвек начал рассказывать. И Айан, сам того не желая, заслушался. Не потому, что верил в эту сказку, а потому, что сам ритм рассказа, сама манера старика говорить, низким, скрипучим голосом, завораживали. Этот миф был частью пейзажа, частью самого озера, что лежало перед ним, частью Договора, который он так яро отрицал.
«Как появилось Серое Озеро»
«Давным-давно, на заре времен, когда духи ходили по земле видимыми, а люди понимали их язык и говорили с ними, стояла на этом месте высокая-высокая сопка. Не простая сопка, а гордая, надменная. Так она вознеслась к самому небу, что затмила собой солнце, и свет его не достигал земли, и наступила на равнине холодная тень. Никто не мог взглянуть на ее вершину, не ослепнув от горделивого блеска ее камней. Она смеялась над ветрами, что пытались ее обтесать, и над дождями, что стекали по ее склонам, не оставляя и следа. Она говорила скалам вокруг: «Я – царица мира! Никто не выше меня! Я вечна!»
Духи Ветра и Воды долго терпели ее надменность. Они шептали ей предостережения, посылали ей вещие сны, но она была глуха. Но всему есть предел. Разгневались они, собрали всю свою мощь, всю свою ярость. И обрушили ее на гордую сопку.
Тридцать дней и тридцать ночей Дух Ветра выл и кружил над ней, вырывая с корнем целые пласты камня и швыряя их в небо, пока небо не почернело от пыли. Тридцать дней и тридцать ночей Дух Воды лил на нее нескончаемые потоки, подтачивая ее основание, размывая устои, пока земля вокруг не превратилась в болото. Не было слышно ничего, кроме рева стихий и треска ломающихся скал, грома обвалов и шипения воды, испаряющейся от раскаленного камня.
На тридцать первую ночь стихии смолкли. Словно по команде. И наступила тишина, страшнее любого грома. На месте высокой сопки лежала груда щебня, сравненная с землей. Не осталось ни вершины, ни склонов – лишь плоская, развороченная равнина. И из-под этих камней, из самых недр, проступили слёзы самой Земли. Она плакала о своей дочери-сопке, сраженной не врагом, а собственной гордыней. Слёзы эти были горькими и холодными, как сама вечная мерзлота. Они заполнили впадину, и образовалось озеро. А пепел от той великой битвы, пепел сожженной молниями и стертой в пыль гордыни, покрыл его воды серой, непроницаемой пеленой, потому и назвали его Серым.
С тех пор вода в озерезнает все тайны мира. Она помнит и гордыню, и падение. Она мудра. Но и мстительна. Она не терпит тех, кто возносится, кто считает себя выше других, кто забывает, что он – лишь часть мира, а не его владыка. Она тянет их на дно, в свою холодную, безмолвную память, где нет ни света, ни времени. Так что берегитесь, детки. У воды долгая память и холодное сердце. И она всегда ждет».
Старик замолк, и дети, завороженные, смотрели на озеро с новым, суеверным страхом, смешанным с благоговением. Они сидели неподвижно, впитывая в себя урок, который, возможно, сохранит им жизнь когда-нибудь в будущем.
Айан, стоявший в тени чума, не удержался и громко, с вызовом хмыкнул. Звук был грубым, как удар камня о лед, и прозвучал кощунственно громко в наступившей после рассказа тишине.
Старик Эльвек медленно, с трудом повернул свою древнюю голову. Его мутные, почти слепые глаза, казалось, увидели Айана сквозь сумрак, сквозь время, сквозь стену его неверия.
– Ты что, парень, не веришь? – проскрипел он, и в его голосе не было гнева, лишь усталая печаль. – Думаешь, старый Эльвек детям страшилки на ночь рассказывает? Вода все слышит. И все помнит. Особенно тех, кто смеется над памятью предков, над мудростью, что прошла через сотни зим. Она записывает их имена на своем дне, и когда-нибудь прочтет этот свиток.
– Я верю в то, что вижу, дед, – холодно, отчеканивая каждое слово, ответил Айан. – Вижу воду. Вижу рыбу в ней. Вижу камни на берегу. Больше ничего. Никаких хозяев, никаких духов. Сказки – для детей.
– Слепой больше ничего и не видит, – покачал головой Эльвек, и его высохшие губы скривились в подобие улыбки. – Он тычет палкой в мир и думает, что нащупал его границы. Жаль. – Он снова повернулся к детям, всем своим видом показывая, что разговор с глухим окончен.
Айан почувствовал, как десятки глаз снова впились в него. Взгляд Хомы из-за кузницы был особенно тяжелым, напитанным немым упреком. Взгляд Ины, выглянувшей из чума, – полным тревоги и какого-то мольбы. И еще чей-то взгляд – пристальный, изучающий, тяжелый, как свинец. Он обернулся. Из своего большого, богато украшенного резьбой и орнаментом чума вышел старейшина Тумат. Он не смотрел на Айана. Он стоял у входа в свое жилище, опираясь на посох с набалдашником из медвежьего клыка, и смотрел на озеро. Его могучее тело, еще не согнутое годами, но уже отяжелевшее, было неподвижно. Но Айан знал – Тумат все слышал. Каждое слово. И все запомнил. Он был живым воплощением тех традиций, против которых восставал Айан, и его молчаливое присутствие было весомее любых слов.
Вечер окончательно победил день. Небо почернело, как смоль, и в его бархатной, холодной толще зажглись редкие, ледяные звезды, не дававшие ни света, ни тепла, лишь подчеркивающие безжалостную бесконечность ночи. В стойбище зажглись первые жировые лампы – жирники, отбрасывающие трепетные, пугливые тени на стены чумов. Эти крошечные островки света лишь усиливали ощущение непроглядной тьмы, сгущавшейся за пределами стойбища, тьмы, в которой таилось озеро.
Издали, с озера, донесся странный звук – тихий, протяжный, будто чей-то вздох, полный тоски и упрека. Все в стойбище замерли на мгновение. Даже дети притихли, инстинктивно прижимаясь друг к другу. Даже старик Эльвек замолк и насторожился, повернув голову к воде.
«Ветер в камышах», – автоматически, с привычным упрямством, подумал Айан, отворачиваясь и направляясь к своему одинокому чуму, где его ждали лишь холодные шкуры и тягостные мысли.
Но в глубине души, куда он сам боялся заглядывать, в том самом месте, где жила память о теплых руках матери и звуке ее голоса, что-то шевельнулось. Крошечная, холодная капля сомнения, упавшая в тихую воду его уверенности и пошедшая кругами. А что, если старик прав? Что если у воды и впрямь есть память? Что если все эти сказки – не выдумки, а другая правда, правда, которую он отказывается видеть? И что, если озеро уже записало его имя в свой свиток – в список гордецов, которым суждено пасть? Его имя и имя его матери.
Он отогнал эту мысль, как назойливого комара, с силой, граничащей с яростью. Чушь. Все это чушь и бредни стариков. Его мир был построен на фактах. Факт – он добыл мясо. Факт – его не принимают. Факт – он одинок. Все остальное – слабость.
Но тихий, мстительный шепот Серого Озера, казалось, преследовал его, просачиваясь сквозь стены чума, смешиваясь с треском огня в очаге и стуком его собственного сердца, пока он пытался заснуть. И этой ночью сон не шел к нему очень долго.
Глава 3. Вечевой совет
Воздух в общем балке был густым, тяжелым
