Наука души. Избранные заметки страстного рационалиста
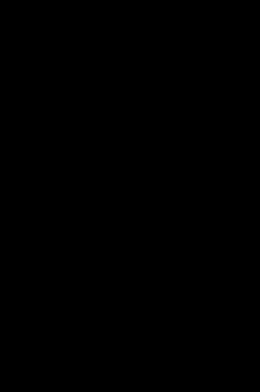
Science In The Soul. Selected Writings of a Passionate Rationalist
© Richard Dawkins, 2017
© Gillian Somerscales, introductory material, 2017
© А. Гопко, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Издательство CORPUS®
Памяти Кристофера Хитченса
Предисловие автора
Я пишу эти строки через два дня после ошеломительного путешествия к аризонскому Большому каньону (слово «ошеломительный» еще не девальвировалось так же сильно, как «потрясающий», хотя, боюсь, и его может ждать та же судьба). Великий каньон – священное место для многих коренных американских племен: здесь происходит действие многих мифов о возникновении мира, придуманных различными народностями, от хавасупаев до зуни, здесь находят последнее пристанище умершие индейцы хопи. Если бы меня принудили выбирать себе религию, я, пожалуй, согласился бы на что-нибудь подобное. Большой каньон сообщает религии размах, оставляющий далеко позади мелочную ограниченность авраамических религий – трех вечно грызущихся между собой культов, которые в силу исторической случайности все еще досаждают человечеству.
В ночной темноте я отправился на прогулку вдоль южной кромки каньона, прилег на невысокую скалу и стал смотреть вверх, на Млечный Путь. Я заглядывал в прошлое, наблюдая зрелище, происходившее сто тысяч лет назад, когда увиденный мною свет начинал свое долгое путешествие, конечной целью которого было пройти сквозь мои зрачки и вызвать электрические разряды в сетчатке. На рассвете я вернулся к тому же самому месту, испытал дрожь и головокружение, когда понял, где именно мне довелось прилечь во мраке, и посмотрел вниз, на дно каньона. И вновь я заглянул в прошлое – теперь уже на два миллиарда лет назад, в те времена, когда одни лишь микробы невидимо копошились под Млечным Путем. Если души индейцев хопи действительно спят посреди этого величественного покоя, то им должны составлять компанию замурованные в скалах духи трилобитов и морских лилий, плеченогих и белемнитов, аммонитов и даже динозавров.
Изучая эволюционное развитие по напластованиям каньона в милю высотой, можно ли указать точку, в которой вдруг, как неожиданно включенный свет, возникло то, что мы могли бы назвать «душой»? Или же «душа» проникала в мир украдкой: едва теплящаяся тысячная часть души у мерно колышущегося трубчатого червя, десятая доля души у латимерии, половинка души у долгопята, затем типичная человеческая душа и, наконец, душа масштаба Бетховена или Манделы? А может, говорить о душах вообще глупо?
Не глупо, если под этим понятием вы подразумеваете нечто вроде поразительного ощущения субъективной, персональной индивидуальности. Каждый знает, что такая душа у нас есть, даже если, по мнению многих современных мыслителей, она иллюзия, сформировавшаяся, как мог бы предположить дарвинист, потому что непротиворечивая, движимая единой целью субъектность способствует нашему выживанию.
Зрительные иллюзии – такие как куб Неккера, невозможный треугольник Пенроуза или фокус с оборотной стороной маски – доказывают, что видимая нами «реальность» образуется из несовершенных моделей, формирующихся в головном мозге. В случае с кубом Неккера двумерный рисунок из начерченных на бумаге линий совместим с двумя альтернативными конфигурациями трехмерного куба, и мозг поочередно выбирает то одну, то другую из них. Это чередование явственно ощутимо – можно даже измерить его частоту. А линии, образующие на бумаге треугольник Пенроуза, не совместимы ни с каким предметом реального мира. Подобные иллюзии дразнят программное обеспечение головного мозга, занимающееся построением моделей, и показывают тем самым, что оно существует.
Программное обеспечение мозга создает аналогичным образом и полезную иллюзию индивидуальности: некоего «я», находящегося, по ощущениям, непосредственно позади наших глаз; «субъекта», принимающего решения в соответствии со своей свободной волей; целостной личности, которая стремится к достижению целей и испытывает эмоции. Формирование личности происходит постепенно в раннем детстве – возможно, путем объединения изначально разрозненных фрагментов. Некоторые расстройства психики трактуются как «раздвоение личности», то есть как несоединимость частей. Небезосновательно будет предполагать, что постепенный рост самосознания у ребенка отражает сходные преобразования на более долговременной – эволюционной – шкале. Не обладает ли, скажем, рыба зачатками индивидуального самоощущения на уровне, в каком-то смысле эквивалентном уровню новорожденного младенца?
Мы вправе рассуждать об эволюции души – но только обозначая этим словом нечто вроде внутренней конструкции, модели «себя». Если же под «душой» подразумевать привидение, остающееся жить после смерти тела, то это совсем другой разговор. Персональная идентичность возникает в результате материальной деятельности головного мозга, и ей суждено претерпевать распад, возвращаясь к пренатальному небытию, по мере того как мозг приходит в упадок. Однако у «души» и тому подобных слов имеются и поэтические значения, которые я употребляю не краснея. В эссе из моего сборника «Капеллан дьявола» я прибегал к этим словам для восхваления великого педагога Ф. У. Сэндерсона, который еще до моего рождения возглавлял школу, где я учился. Рискуя быть понятым неверно, я писал о «духе» и о «призраке» покойного Сэндерсона:
Его дух продолжал жить в Аундле. Его непосредственный преемник Кеннет Фишер вел педагогический совет, когда в дверь робко постучали и вошел маленький мальчик: «Простите, сэр, там у реки черные крачки». «Это может подождать», – решительно сказал Фишер собравшимся. Он встал с председательского места, схватил свой висевший на двери бинокль и уехал на велосипеде в компании юного орнитолога. Невольно представляешь себе, как добродушный, краснощекий призрак Сэндерсона с улыбкой глядел им вслед.
Я продолжил вести речь о «тени» Сэндерсона, описывая и другую сцену, уже из собственного ученического опыта, когда преподаватель естественных наук Йоан Томас, умевший пробуждать интерес к предмету (он пришел в нашу школу, потому что восхищался Сэндерсоном, хотя и был слишком молод, чтобы знать его лично), эффектно продемонстрировал нам, как важно признавать свое неведение. Он задавал нам по очереди один и тот же вопрос, и мы высказывали свои предположения. В конце концов наше любопытство разожглось, и мы завопили («Сэр! Сэр!»), требуя правильного ответа. Мистер Томас многозначительно дождался наступления тишины, а затем четко и ясно проговорил, для пущего эффекта делая паузы между словами: «Я не знаю! Я… не… знаю!»
И вновь отеческая тень Сэндерсона довольно посмеивалась в углу, и никому из нас не забыть этого урока. Важны не сами знания, а как ты открываешь их для себя и как о них думаешь – вот образование в подлинном смысле слова, столь отличное от нынешней помешанной на оценках культуры.
Был ли риск, что читатели того моего эссе неправильно поймут меня и решат, будто «дух» Сэндерсона все еще жив, его добродушный, краснощекий «призрак» глядит с улыбкой, а его «тень» довольно посмеивается в углу? Не думаю, хотя бог его знает (ну вот, опять) – страстного рвения понимать неправильно в таких делах хватает с лихвой.
Должен признать, что подобная опасность, обусловленная все тем же рвением, подстерегает нас и с заглавием данной книги. «Наука души». Что это означает?
Прежде чем я отвечу, позвольте сделать отступление. Я полагаю, что Нобелевскую премию по литературе давно пора присудить ученому. Должен с огорчением сказать, что имевший место прецедент крайне неудачен: Анри Бергсон – скорее мистик, нежели подлинный человек науки, а предложенный им виталистический термин е́lan vital был едко высмеян Джулианом Хаксли в сатирическом образе поезда, передвигающегося по железной дороге при помощи е́lan locomotif. Но если серьезно, почему не дать литературную Нобелевку настоящему ученому? Хотя Карл Саган, увы, покинул этот мир и уже не может получить ее, кто станет спорить с тем, что литературным качеством своих работ он соответствует нобелевским стандартам, не уступая великим романистам, историкам и поэтам? А Лорен Айзли? Льюис Томас? Питер Медавар? Стивен Джей Гулд? Джейкоб Броновски? Дарси Томпсон?
Каковы бы ни были заслуги отдельных авторов, которых мы могли бы перечислить, разве сама по себе наука – не достойная тема для наилучших писателей, более чем способная вдохновлять великую литературу? И каковы бы ни были конкретные особенности науки, делающие ее таковой (это те же самые качества, что порождают великую поэзию и приводят к появлению романов, удостаиваемых Нобелевской премии), разве мы здесь не приближаемся к тому, чтобы постичь значение слова «душа»?
«Духовный» – вот еще одно слово, применимое к научной литературе уровня Сагана. Принято считать, что физики чаще биологов называют себя верующими. Тому имеются даже статистические подтверждения, справедливые для членов как Лондонского королевского общества, так и Национальной академии наук США. Но опыт показывает, что если копнуть глубже, то даже у тех 10 % из отборных ученых, что сознаются в некоторой религиозности, нет, как правило, веры ни в сверхъестественное, ни в Бога, ни в Творца, нет и стремления к загробной жизни. А есть у них – они и сами так вам скажут, если начать допытываться, – лишь некое «духовное» ощущение. Им может нравиться затасканное словосочетание «благоговейное изумление», и кто их в том упрекнет? Они, как и я на этих страницах, могут цитировать индийского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара с его «трепетом перед прекрасным» или американского физика Джона Арчибальда Уилера:
За всем этим наверняка стоит идея столь простая и столь красивая, что, когда мы постигнем ее – через десять, сто, тысячу лет, – мы все скажем друг другу: «Как же могло быть иначе? Как мы могли быть так слепы?»
Сам Эйнштейн, не будучи чужд духовности, совершенно недвусмысленно говорил, что не верит ни в какое персонифицированное божество:
То, что вы читали о моих религиозных убеждениях, – разумеется, ложь, причем ложь систематически повторяемая. Я не верю в персонифицированного Бога, чего никогда и не отрицал, а, напротив, ясно высказывал. Если во мне и есть что-то, что можно назвать религиозностью, то это безмерное восхищение устройством мира, насколько наша наука позволяет его постичь.
И по другому случаю:
Я глубоко религиозный безбожник, что в некотором роде новая религия.
Хоть я и предпочел бы иную формулировку, я ощущаю себя «духовной» личностью именно в таком смысле «глубоко религиозного безбожника» – и именно в данном смысле безо всякого смущения использую слово «душа» в заглавии этой книги.
Наука восхитительна и необходима. Восхитительна она для души – например, при созерцании глубин пространства и времени на краю Большого каньона. Но она и необходима: для общества, для нашего благополучия, для нашего близкого и далекого будущего. Оба эти аспекта науки представлены в данной антологии.
Всю свою взрослую жизнь я отдавал силы научному просвещению, и большинство собранных здесь эссе возникло в те годы, когда я занимал должность профессора по осознанию обществом достижений науки, тогда только что учрежденную Чарльзом Симони. Популяризируя науку, я долгое время отстаивал направление, которое называл школой Карла Сагана, то есть провидческую, поэтическую, будоражащую воображение сторону науки, противопоставляя ее «школе сковородок с антипригарным покрытием». Под последней я имею в виду стремление оправдывать стоимость, скажем, космических исследований наличием у них побочных результатов вроде непригорающей сковородки: такое стремление можно сравнить с попыткой обосновать необходимость музыки тем, что она хорошее упражнение для правой руки скрипача. Это обесценивающе и унизительно. Полагаю, и мое сатирическое сравнение могут упрекнуть в чрезмерном обесценивании, но я все же продолжаю его использовать, тем самым отдавая предпочтение научной романтике. Чтобы обосновать важность исследований космоса, я скорее заговорю о том чувстве, которое превозносил Артур Кларк, а Джон Уиндем окрестил «зовом пространства», – о современной версии зова, что вел Магеллана, Колумба и Васко да Гаму на поиски неизведанного. Однако ярлык «школа сковородок с антипригарным покрытием» и вправду несправедливо принижает соответствующее направление мысли, так что сейчас я собираюсь обратиться к серьезному, практическому значению науки, ведь ему посвящены многие эссе данной книги. Наука действительно важна для жизни, и под наукой я подразумеваю не только научные факты, но и научное мышление.
Я пишу это в ноябре 2016-го: унылый месяц унылого года, когда выражение «варвары у ворот» тянет произносить безо всякой иронии. Впрочем, они не у ворот, а скорее внутри крепости, ведь несчастья, постигшие две самые населенные из англоязычных стран, вызваны внутренними причинами: эти раны нанесены не землетрясением и не военным переворотом, а демократическим процессом как таковым. Разум как никогда нуждается в том, чтобы на него обратили внимание.
Я вовсе не склонен недооценивать эмоции: я люблю музыку, литературу, поэзию, а также тепло человеческих привязанностей – как физическое, так и душевное, – но эмоции должны знать свое место. Принимаемые на государственном уровне политические решения, которые влияют на будущее, должны вытекать из хладнокровного, рационального рассмотрения всех возможностей, аргументов за и против, вероятных последствий. Интуиция, даже если она не берет свое начало в мутных и темных водах ксенофобии, мизогинии и прочих слепых предрассудков, должна держаться в стороне от кабины для голосования. Какое-то время эти неясные эмоции почти не поднимались на поверхность. Но в 2016 году политические кампании по обе стороны Атлантики вытащили их на всеобщее обозрение, сделав если не респектабельными, то по крайней мере выражаемыми открыто. Демагоги подали пример всем остальным и торжественно открыли сезон таких предубеждений, о которых в течение полувека считалось постыдным шептаться по углам.
Каковы бы ни были сокровенные чувства отдельно взятых ученых, сама наука зиждется на строгой приверженности к объективным показателям. Существует объективная истина, и наше дело – искать ее. Естественным наукам присущи тщательно соблюдаемые меры предосторожности, направленные против личной предубежденности, против невольного человеческого стремления подтверждать собственные взгляды, против предвзятых выводов, делаемых до ознакомления с фактами. Опыты проводятся неоднократно, двойные слепые исследования страхуют как от извинительного желания ученых доказать свою правоту, так и от более похвального чрезмерного старания максимизировать возможность ее опровержения. Эксперимент, поставленный в Нью-Йорке, может быть воспроизведен в Нью-Дели, и выводы из него будут ожидаться одни и те же, невзирая ни на географию, ни на культурно и исторически обусловленные личные пристрастия ученых. Вот бы и о других академических дисциплинах, таких как богословие, можно было сказать то же самое! Философы охотно рассуждают о «континентальной» философии, противопоставляя ее «аналитической». Кафедра философии американского или британского университета вполне может искать специалиста, чтобы «закрыть вакансию по континентальной традиции». В силах ли вы представить себе кафедру естественных наук, дающую объявление о свободной должности преподавателя «континентальной химии»? Или о «восточной традиции в биологии»? Сама идея кажется неудачной шуткой. Это кое-что да говорит о научных ценностях и выглядит не слишком лестно по отношению к ценностям философским.
Начав с научной романтики и «зова пространства», я перешел к научным ценностям и научному мышлению. Решение поставить практическую пользу науки в самый конец может кому-то показаться странным, но такая последовательность отражает мои личные приоритеты. Разумеется, медицинские блага вроде вакцин, антибиотиков и обезболивающих чрезвычайно важны и слишком хорошо известны, чтобы говорить тут о них в очередной раз. То же самое относится и к изменениям климата (зловещие и, пожалуй, уже запоздалые предостережения), и к дарвиновской эволюции устойчивости к антибиотикам. Здесь я собираюсь рассмотреть другое предостережение, менее срочное и менее известное. В нем удачно переплетаются все три заявленные темы: зов пространства, практическая польза науки и научное мышление. Речь идет о неизбежной, хотя и не обязательно неотвратимой, опасности катастрофического столкновения с крупным объектом внеземного происхождения – вероятнее всего, вышедшим из астероидного пояса под воздействием гравитации Юпитера.
Динозавры, за важным исключением птиц, были сметены с лица земли грандиозным космическим катаклизмом, который рано или поздно грянет снова. На сегодняшний день имеется немало убедительных косвенных свидетельств в пользу того, что около шестидесяти шести миллионов лет назад в полуостров Юкатан ударил гигантский метеорит или комета. Согласно правдоподобным оценкам, масса этого объекта (размером с приличную гору) и его скорость (по-видимому, 40 000 миль в час) должны были высвободить при ударе энергию, эквивалентную одновременному взрыву нескольких миллиардов бомб, сброшенных на Хиросиму. Вызванные непосредственным столкновением палящая температура и ударная волна могли послужить причиной долгой ядерной зимы, длившейся, вероятно, лет десять. Совокупность этих событий уничтожила всех нептичьих динозавров, а также птерозавров, ихтиозавров, плезиозавров, аммонитов, большинство видов рыб и множество других существ. К счастью для нас, кое-какие млекопитающие сумели выжить – возможно, благодаря тому, что находились в спячке в своих подземных «бункерах».
Катастрофы подобного масштаба будут грозить нам снова. Когда именно – никто не знает, ведь эти столкновения случайны. Никоим образом нельзя сказать, что их вероятность возрастает по мере того, как промежуток между ними увеличивается. Такое может произойти и при нашей жизни, но вряд ли, поскольку столь громадные метеориты падают в среднем раз в сотни миллионов лет. Более мелкие, но все же опасные астероиды, достаточно крупные, чтобы разрушить город величиной с Хиросиму, врезаются в Землю каждый век или два. А не беспокоит это нас потому, что бо́льшая часть поверхности нашей планеты необитаема. Да и они, разумеется, не падают регулярно. Нельзя посмотреть на календарь и сказать: «Скоро следующий».
За советы и информацию по этой теме я благодарю знаменитого астронавта Расти Швайкарта, ставшего самым известным борцом за то, чтобы принимать данный риск всерьез и пытаться как-то его предотвратить. Но что мы можем сделать? Что могли бы сделать динозавры, будь у них телескопы, инженеры и математики?
Первым делом необходимо обнаружить приближающийся объект. Слово «приближающийся» может создать неверное впечатление о природе проблемы. Это не несущиеся прямо на нас пули, видимые все четче и четче по мере своего приближения. И Земля, и угрожающий ей объект движутся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. При обнаружении астероида нам следует вычислить его орбиту – а это можно сделать тем точнее, чем больше мы проведем наблюдений, – и рассчитать, не пересечется ли она когда-нибудь в будущем (быть может, через много десятилетий) с орбитой нашей планеты. Когда астероид обнаружен и его орбита точно определена, все остальное – просто математика.
Рябой лик Луны – тревожная иллюстрация тех бедствий, которых мы избегаем благодаря защите земной атмосферы. Статистическое распределение лунных кратеров различного диаметра позволяет нам понять истинное положение вещей, задает некий базовый уровень для оценки наших скромных успехов в заблаговременном обнаружении опасных космических объектов.
Чем крупнее астероид, тем проще его выявить. Мелкие – в том числе и такие «мелкие», что способны разрушить целый город, – вообще трудно детектируемы и потому запросто могут явиться почти, или даже совсем, без предупреждения. Нам необходимо совершенствовать свое умение обнаруживать астероиды. А это значит наращивать количество широкоугольных телескопов для мониторинга, в том числе инфракрасных на орбите, расположенных вне искажающего влияния атмосферы Земли.
Вот мы распознали опасный астероид, чей путь грозит однажды пересечься с нашим, но что делать дальше? Теперь нам нужно изменить траекторию объекта – либо ускорив его и выведя на более широкую орбиту, чтобы он подошел к месту встречи слишком поздно для столкновения, либо же, наоборот, замедлив, чтобы его орбита сократилась и он явился слишком рано. Как ни удивительно, хватит очень малого изменения скорости в любом направлении – всего 0,025 мили в час. Это осуществимо даже без использования взрывчатки – при помощи уже наличествующих, хотя и затратных, технологий, имеющих отношение к грандиозному успеху миссии «Розетта», которая была организована Европейским космическим агентством с целью посадить космический аппарат на комету, что и произошло через двенадцать лет после запуска, состоявшегося в 2004 году. Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря о соединении фантазерского «зова пространства» с трезвой практичностью прикладных исследований и строгостью научного мышления? Данный подробный пример иллюстрирует еще одно свойство научного подхода, еще одно преимущество того, что можно было бы назвать душой науки. Кто, кроме ученого, сумеет предсказать точный момент мировой катастрофы за сотню тысяч лет и разработать скрупулезный план по ее предотвращению?
Несмотря на то, что эти эссе писались на протяжении значительного срока, сегодня я в них мало что изменил бы. Можно было бы удалить из них все отсылки ко времени их написания, но я не стал. Кое-какие из представленных здесь текстов – это речи, подготовленные для конкретных случаев вроде открытия выставки или почтения памяти усопшего. Я оставил их в неприкосновенности – такими, какими некогда произнес. Они сохраняют присущую им непосредственность, которая исчезла бы, задумай я вычистить из них все упоминания, касавшиеся текущего момента. Я ограничился сносками и послесловиями: добавил краткие дополнения и размышления, пригодные, пожалуй, для того, чтобы читать их параллельно с основными текстами – как своеобразный диалог между мной сегодняшним и автором исходной статьи.
Вместе с Джиллиан Сомерскейлс мы отобрали из моих эссе, речей и журналистских статей сорок один текст и распределили между восемью разделами. Помимо науки как таковой, я размышляю там о научных ценностях, об истории науки и о роли науки в обществе: немного полемики, сатиры и юмора, аккуратное заглядывание в будущее, а также щепотка личных сожалений (надеюсь, не переходящих в брюзжание). Каждый раздел начинается со вдумчивого вступительного слова самой Джиллиан. Добавлять что-либо к сказанному ею было излишне, но, как вы уже знаете, я все-таки не удержался и от собственных сносок и послесловий.
Когда мы обсуждали различные варианты заглавия книги, «Наука души» (или «для души») лидировала в гонке: и Джиллиан, и я отдавали этому названию легкое предпочтение перед многочисленными конкурентами. И хотя за мной прежде не замечалось веры в приметы, должен сознаться, что окончательное решение я принял, когда, составляя в августе 2016 года каталог своей библиотеки, наткнулся на восхитительную брошюру Майкла Шермера. Она была посвящена «Ричарду Докинзу, отдавшему науке свою душу» и называлась «Душа для науки». Это было почти столь же неожиданно, сколь и приятно, так что ни Джиллиан, ни я более не сомневались в том, как назвать книгу.
Я безгранично благодарен Джиллиан. Кроме того, мне бы хотелось выразить свою признательность Сюзанне Уэйдсон из издательства Transworld и Хилари Редмон из Penguin Random House USA за их горячую веру в наш проект и за ценные советы. Миранда Хэйл, будучи искусным пользователем интернета, помогла Джиллиан разыскать утерянные статьи. Сам жанр антологии, включающей в себя тексты, которые писались на протяжении многих лет, подразумевает и благодарности за тот же период. Они приведены в оригинальных публикациях. Я не могу воспроизвести их все здесь и надеюсь на понимание. То же касается и библиографических ссылок. Интересующийся ими читатель найдет их в оригинальных публикациях, полные выходные данные которых приведены в конце книги.
Предисловие редактора
Ричард Докинз никогда не поддавался классификации. Один выдающийся биолог с математическим складом ума, рецензируя «Эгоистичный ген» и «Расширенный фенотип», был поражен, обнаружив научный труд, явно лишенный логических ошибок и однако же не содержавший ни единой строчки математических выкладок. Ему ничего не оставалось, кроме как прийти к непостижимому, с его точки зрения, выводу: «По-видимому, Докинз… думает прозой».
К счастью, так оно и есть. Ведь если бы Докинз не думал прозой – не учил прозой, не рассуждал прозой, не изумлялся прозой, не спорил прозой, – у нас не было бы головокружительной вереницы работ, созданных самым разносторонним из просветителей. Не только тринадцать его книг, о достоинствах которых мне нет нужды распространяться, но и громадный – глаза разбегаются! – выбор более коротких текстов: статьи для ежедневных газет и научных журналов, лекционных аудиторий и онлайн-форумов, колонки, полемические статьи, рецензии, обзоры. Из этого изобилия, разрабатывая богатые месторождения, сформировавшиеся как до, так и после публикации первой антологии Докинза «Капеллан дьявола», мы и составили вместе с ним данный сборник, включающий в себя наравне со многими недавними и несколько более ранних, проверенных временем сочинений.
Учитывая его репутацию спорщика, мне казалось особенно важным уделить должное внимание той работе по объединению людей, которую совершает Ричард Докинз, неустанно протягивая мостики через пропасть между научными рассуждениями и широчайшим спектром общественных дискуссий. Мне он видится этаким эгалитаристским элитистом, посвятившим себя тому, чтобы делать сложную науку не просто доступной, но постижимой (причем без какой-либо профанации «для чайников»), постоянно добивающимся ясности и четкости мысли, использующим слово как точный прибор, как хирургический инструмент.
Если он также пользуется словом как рапирой, а иногда и как дубинкой, то только чтобы пробить брешь в обскурантизме и претенциозности, убрать с дороги отвлечение внимания и путаницу в головах. Он не выносит фальши ни в чем, будь то убеждения, наука, политика или чувства. Читая и перечитывая его статьи при отборе их для этой книги, я мысленно выделила группу работ, которые назвала «дротиками»: краткие колкие заметки, порой забавные, порой пышущие гневом, порой душераздирающе трогательные или ошеломляюще невежливые. У меня было искушение сгруппировать часть из них в особый раздел, но, поразмыслив, я предпочла расположить несколько таких «дротиков» вперемежку с более вдумчивыми и развернутыми эссе, что и яснее показывает диапазон творчества автора в целом, и позволяет читателю лучше прочувствовать смены ритма и тональности, доставляющие такое наслаждение при чтении Докинза.
Здесь вам встретятся восторг и насмешка, доведенные до предела. Попадется и ярость, но никогда она не будет направлена на сведение личных счетов – только на вред, причиняемый другим, в особенности детям, животным и тем людям, что подвергаются гонениям за противостояние диктату властей. Эта ярость и сопутствующая ей грусть по всему, что испорчено или утрачено, напоминают мне – и я подчеркиваю, что говорю только за себя, а не за Ричарда, – о трагическом аспекте его писательской и ораторской деятельности после «Эгоистичного гена». Если слово «трагический» кажется вам чересчур сильным, подумайте вот о чем. В той книге, что произвела эффект разорвавшейся бомбы, он объяснил механизм действия эволюции путем естественного отбора, используя логику, основывающуюся на неумолимо своекорыстном поведении крошечных репликаторов, создающих живые организмы. Затем он подчеркнул, что люди – единственные, кому под силу сбросить тиранию эгоистичных реплицирующихся молекул, взять себя и весь мир в собственные руки, планировать будущее и, следовательно, влиять на него. Мы первый вид существ, способных быть неэгоистичными. Это был своего рода боевой клич. А трагизм вот в чем: вместо того чтобы затем посвятить свои разнообразные таланты убеждению человечества в необходимости использовать такое ценное свойство, как сознание (а также непрестанно множащиеся достижения науки и разума), дабы подняться над эгоистичными импульсами, запрограммированными в нас эволюцией, он был вынужден растрачивать свою энергию и способности на то, чтобы убеждать людей в существовании эволюции как таковой. Работенка, возможно, неприятная, но кто-то должен ее делать, ведь, по его собственным словам, природа не может сама подать иск за клевету. И как замечает он в одной из приведенных здесь работ: «…Я уяснил, что строгое следование здравому смыслу никоим образом не является очевидным для большинства людей. Здравый смысл и впрямь нуждается в непрестанной бдительности для своей защиты». Ричард Докинз – не только пророк разума, но и наш неусыпный часовой.
Досадно, что с понятиями точности и ясности ассоциируется так много суровых эпитетов: «безжалостная», «беспощадная», «убийственная», – ведь убеждения Ричарда так и лучатся состраданием, великодушием, добротой. Даже его критика, вооруженная строгостью, обезоруживающе остроумна, как, например, в его обращении к премьер-министру, где говорится о «баронессе Варси, вашем министре без портфеля (и без избрания)», или когда он пародирует одного из приспешников Блэра, поддерживавшего своего начальника в поощрении религиозного многообразия: «Мы поспособствуем открытию шариатских судов, но на строго добровольной основе – только для тех, чьи мужья и отцы сами этого захотят».
Говоря о ясности изложения, я выберу другие образы: проницательность, следовательское внимание к логике и деталям, ослепительное озарение. А манеру, в какой пишет Докинз, я бы предпочла называть не грубой, а атлетической: она воздействует не только силой, но и гибкостью, легко приноравливаясь практически к любым слушателям, читателям и темам. Весьма немногие авторы способны сочетать выразительность и утонченность, эмоциональное воздействие и точность вместе с таким изяществом и юмором.
Я работаю с Ричардом Докинзом около десяти лет, начиная с его книги «Бог как иллюзия». И если, читая следующие страницы, вы сможете хотя бы отчасти оценить не только точность мыслей автора и легкость их изложения, не только бесстрашие, с каким он пускается лавировать по самым скользким темам, не только энергию, с какой он отдает себя разъяснению сложности и красоты науки, но также благородство, доброжелательность и любезность, какими были пронизаны все наши с Ричардом взаимоотношения за годы, прошедшие с того первого сотрудничества, – значит, одна из целей настоящего издания будет достигнута.
Еще одна цель окажется достигнутой, если книга будет соответствовать удачному описанию, приведенному в одном из вошедших в нее эссе: «…Взаимно соответствующие части процветают в присутствии друг друга – и таким образом проступает иллюзия всеобщей гармонии». На самом же деле я уверена, что гармония, которой дышит этот сборник, – вовсе не иллюзия, а эхо одного из самых звонких и полнозвучных голосов нашего времени.
Дж. С.
Часть I. Ценность (и ценности) науки
Мы начинаем с самого основного, с науки: что она из себя представляет, чем занимается, как (в идеале) делается. Лекция Ричарда «Научные ценности и наука о ценностях», прочитанная в 1997 году в пользу Amnesty International, – это чудесное многогранное произведение, которое охватывает широчайший круг вопросов и прокладывает путь для некоторых тем, рассматриваемых более подробно далее в настоящем сборнике. К числу таких тем относятся: непререкаемый авторитет объективной истины для науки; необходимость учитывать при этических рассуждениях такой фактор, как способность испытывать страдания; опасности «видизма»; выразительное подчеркивание ключевых различий – например, между «использованием риторики с целью продемонстрировать то, что считаешь правдой, и использованием риторики с целью намеренно правду сокрыть». Здесь мы слышим голос ученого-просветителя, убежденного, что слова следует выстраивать так, чтобы доносить истину, а не создавать «истины» искусственно. В первом же абзаце проводится важное разграничение: ценности, на которых базируется наука, – набор благородных и важных принципов, нуждающихся в защите, поскольку от них зависит сохранение нашей цивилизации, – это одно, а попытка сформулировать ценности на основе научного знания – дело совершенно другое и куда более сомнительное. Мы должны иметь храбрость признать, что начинать нам приходится в этическом вакууме, что свои ценности мы придумываем сами.
Автор лекции – отнюдь не одержимый голыми фактами мистер Грэдграйнд, не ученый сухарь, не книжный (и не могильный) червь. Фрагменты, где говорится об эстетической ценности науки, о поэтических видениях Карла Сагана, о «трепете перед прекрасным» Субраманьяна Чандрасекара, служат страстному прославлению триумфов и красот науки – ее способности приносить радость в нашу жизнь и давать надежду на будущее.
Затем происходит смена ритма и трибуны, а стиль из пространного и вдумчивого становится резким и язвительным – перед нами один из докинзовских «дротиков», как я их называю. Ричард с ледяной вежливостью продолжает некоторые рассуждения, начатые в лекции для Amnesty International, и предостерегает будущего британского монарха о том, как опасно руководствоваться «внутренним голосом», а не наукой, основанной на доказательствах. И хотя в принципе Докинз не отказывает людям в праве выносить собственные суждения о тех возможностях, что предоставляют наука и технологии, «один из тревожных аспектов истеричного противодействия возможным рискам, связанным с генно-модифицированными культурами, состоит в том, что оно отвлекает внимание от реальных опасностей, уже хорошо понятных, но во многом игнорируемых».
Следующее сочинение, вошедшее в данный раздел, – «Наука и страсти нежные», еще одна объемная лекция, прочитанная с типичной для Докинза смесью серьезности и остроумия. И здесь мы тоже встретим его мессианский восторг перед наукой, смягченный трезвым осознанием того, как далеко мы могли бы продвинуться к началу нового тысячелетия и какие дороги остались не пройдены. Что характерно, это воспринимается как призыв удвоить усилия, а вовсе не опускать руки.
Откуда же взялись это неиссякаемое любопытство, эта жажда знаний, это предупредительное сопереживание? Раздел завершают «Дулиттл и Дарвин» – одновременно и исполненный нежности взгляд в прошлое, на детские впечатления, внесшие свой вклад в прививание ребенку научных ценностей, и вместе с тем урок, объясняющий, как отделить собственно ценности от их преходящей исторической и культурной оболочки.
Сквозь все эти несхожие тексты ясно просвечивают следующие ключевые идеи. Не стоит убивать гонца за дурные вести, не стоит обращаться к иллюзорным утешениям, не стоит путать «так есть» с «так должно быть» и с «хотелось бы, чтобы так было». Вывод отсюда следует в конечном счете оптимистичный: осознанная, непрестанная сосредоточенность на том, как устроен мир, помноженная на живое воображение неисправимо любознательного человека, приводит к озарениям, способным просвещать, бросать вызов и вдохновлять. Таким образом, наука продолжает свое развитие, понимание совершенствуется, знания множатся. Будучи собраны вместе, эти тексты слагают манифест, прославляющий науку и призывающий сражаться за ее дело.
Дж. С.
Научные ценности и наука о ценностях[1]
Научные ценности – что это означает? В поверхностном и широком смысле я собираюсь так называть (и описывать с симпатией) те ценности, которых должен придерживаться ученый – в той мере, в какой ему внушает их его профессия. В более же узком и строгом смысле речь идет о том, чтобы черпать ценности непосредственно из научного знания, как из некой священной книги. Ценности такого рода я буду решительно[2] отвергать. В качестве источника жизненных ценностей книга природы, быть может, и не хуже обычных священных книг, но это еще мало что дает.
Словосочетание «наука о ценностях» – вторая часть заголовка – обозначает научное исследование того, откуда берутся наши ценности. Сам по себе этот вопрос должен быть чисто академическим, лишенным оценочных суждений – с виду он не острее вопроса о том, откуда появился наш скелет. Вполне могло бы выясниться, что своими ценностями мы ничуть не обязаны нашей эволюционной истории, но это не тот вывод, к которому я приду.
Научные ценности в широком смысле
Не думаю, что в повседневной жизни ученые обманывают супруг, супругов и налоговых инспекторов реже (или чаще), чем кто угодно еще. Однако в профессиональной жизни у ученых есть особые причины ценить неприкрытую правду. Их деятельность основывается на убеждении, что существует такая штука, как объективная истина, что она не скована рамками культурных различий и что, если двое ученых зададутся одним и тем же вопросом, они непременно придут к одному и тому же верному ответу, каковы бы ни были их изначальные взгляды, культурная принадлежность и даже (в определенных пределах) личные способности. Это не противоречит часто повторяемому философскому утверждению, что, дескать, ученые не доказывают истин, а лишь поддерживают те гипотезы, которые не могут опровергнуть. Такой философ волен убеждать нас, что все известные нам факты – не более чем неопровергнутые теории, но существуют теории, на чью неопровержимость мы поставим все, что имеем. Они-то в просторечии и называются правдой[3]. Разные ученые, какие бы географические расстояния и культурные пропасти их ни разделяли, имеют обыкновение приходить к одним и тем же неопровергнутым теориям.
Такое мировоззрение полярно модному пустословию вроде следующего:
Объективной истины не существует. Мы сами создаем свою истину. Объективной реальности не существует. Мы сами создаем свою реальность. Духовные, мистические, внутренние способы познания превосходят наши обычные способы[4]. Если переживание кажется реальным, значит, оно реально. Если вы чувствуете, что идея правильна для вас, она правильна. Мы не можем приобрести знание об истинной природе реальности. Наука тоже иррациональна и мистична. Это еще одна вера, система воззрений, миф, имеющий не больше прав на существование, чем любой другой. Истинны убеждения или нет, не имеет значения – лишь бы они были вам дороги[5].
От этого легко сойти с ума![6] Чтобы наилучшим образом проиллюстрировать ценности одного из ученых, скажу, что, если наступит время, когда все будут так думать, я предпочту уйти из жизни. Ведь тогда мы снова погрузимся в Темные века, пусть даже они и не станут «более мрачными и более продолжительными под влиянием извращенной науки»[7], поскольку не будет никакой науки, чтобы ее извращать.
Да, действительно, ньютоновский закон всемирного тяготения лишь приблизителен. В свое время, возможно, и на смену эйнштейновской общей теории относительности придет что-нибудь другое. Но это не принижает их до уровня средневекового колдовства или предрассудков первобытных племен. На приблизительные законы Ньютона можно поставить свою жизнь, что мы регулярно и делаем. Когда придется лететь, чему наш культурный релятивист доверит себя: левитации или физике, ковру-самолету или авиастроительной компании «Макдоннелл-Дуглас»? В какой бы культурной среде вы ни были воспитаны, закон Бернулли не перестает действовать, как только вы покидаете пределы «западного» воздушного пространства. А на что вы поставите свои деньги, когда речь зайдет о прогнозах? Как заметил Карл Саган, сегодня вы можете, подобно герою Райдера Хаггарда, ошеломить дикарей релятивизма и нью-эйджа, с точностью до секунды предсказав полное солнечное затмение, которое будет через тысячу лет.
Саган умер месяц назад. Мы виделись с ним всего однажды, но я обожаю его книги и мне будет не хватать его как «свечи во тьме»[8]. Я посвящаю эту лекцию его памяти и буду использовать в ней выдержки из его сочинений. Замечание о предсказании затмений взято из последней прижизненно опубликованной книги Карла «Мир, полный демонов», где далее он пишет:
Если вы страдаете от анемии, можете сбегать к знахарю, но стоило бы попринимать витамин В12. И вашего ребенка от полиомиелита убережет не молитва, а прививка. Интересует пол еще не рожденного младенца? Качайте свинцовый грузик на веревочке (…с вероятностью 50 % угадаете). По-настоящему точно… пол ребенка предскажет ультразвук. Так воспользуйтесь же научным методом![9]
Конечно, ученые зачастую бывают не согласны друг с другом. Но, к их чести, они сходятся в том, какие новые доказательства смогли бы изменить их точку зрения. Путь, ведущий к любому открытию, будет опубликован, и каждый, кто его проделает, должен будет прийти к тем же выводам. Если вы лжете – подделываете картинки, публикуете только ту часть результатов, которая подтверждает нужные вам выводы, – вас, вероятно, разоблачат. В любом случае от занятий наукой не разбогатеешь, так стоит ли вообще ею заниматься, если своей ложью ты компрометируешь единственный смысл этой деятельности? Ученый скорее соврет жене или налоговому инспектору, но не научному журналу.
Само собой, в науке бывают случаи мошенничества и, вероятно, не все они раскрываются. Я лишь утверждаю, что в научном сообществе подделывание данных – смертный грех, непростительность которого немыслима по меркам любой другой профессии. Прискорбное следствие подобного отношения заключается в том, что ученые крайне неохотно доносят на своих коллег, даже если имеют причины подозревать тех в подтасовке результатов. Это примерно как обвинить кого-нибудь в каннибализме или педофилии. Столь тяжкие подозрения будут подавляться до тех пор, пока доказательства не станут совсем уж вопиющими, а вред к тому времени может быть причинен немалый. Если вы подделаете финансовый отчет, то не исключено, что коллеги отнесутся к вам со снисхождением. Если вы платите своему садовнику наличными, поддерживая таким образом уход от налогов и черный рынок, вы не становитесь изгоем. А ученый, пойманный за фальсификацией результатов исследований, – становится. Коллеги будут его чураться, и он безжалостно и навсегда окажется выдворен из профессии.
Адвокат, использующий красноречие, чтобы наилучшим образом защитить свое дело в суде, – даже если сам не верит тому, что говорит, даже если отбирает подходящие факты и искажает доказательства, – будет почитаем и вознагражден за свой успех[10]. К ученому, ведущему себя подобным образом – разливающемуся соловьем и всячески изворачивающемуся, лишь бы добыть подтверждение своей излюбленной теории, – отнесутся по меньшей мере с легким подозрением.
Ценности ученых обычно таковы, что обвинения в пропаганде – особенно если она искусная – это такие обвинения, которые нельзя оставить без ответа[11]. Однако существует большая разница между использованием риторики с целью продемонстрировать то, что считаешь правдой, и использованием риторики с целью намеренно правду сокрыть. Однажды я участвовал в университетских дебатах об эволюции. Наиболее убедительная речь в защиту креационизма была произнесена молодой дамой, рядом с которой мне довелось сидеть во время заключительного ужина. Когда я похвалил ее выступление, она сразу же сообщила, что не верит ни единому слову из него. Страстно отстаивая убеждения, диаметрально противоположные ее собственным, она просто тренировала свое умение дискутировать. Несомненно, из нее выйдет хороший адвокат. Но тот факт, что после этого я с трудом оставался вежливым в разговоре со своей сотрапезницей, кое-что да говорит о тех ценностях, которые я приобрел как ученый.
Полагаю, из сказанного мною следует, что на ценностной шкале ученых истине о природе отводится почти что священный статус. Быть может, именно поэтому некоторых из нас так выводит из себя деятельность астрологов, сгибателей ложек и прочих шарлатанов, воспринимаемая остальными людьми снисходительно, как безобидное развлечение. Закон о клевете наказывает тех, кто умышленно распространяет ложь о другом человеке. Но если вы зарабатываете деньги на ложной информации о природе, вам это сойдет с рук – никто ведь не подаст иска за клевету. Считайте мои ценности извращенными, если угодно, но мне бы хотелось, чтобы природу можно было представлять в суде, как представляют там интересы детей, терпящих жестокое обращение[12].
У любви к истине есть и оборотная сторона: порой ученые стремятся к правде, не думая о нежелательных последствиях[13]. Предупреждать общество о таких последствиях – громадная ответственность, возложенная на ученых. Эйнштейн осознавал эту опасность, когда говорил: «Если бы я только знал, стал бы слесарем». Но на самом деле он бы слесарем, конечно же, не стал. И когда пришло время, он подписал знаменитое письмо, предостерегавшее Рузвельта о том, на что способна и чем грозит атомная бомба. Иногда недоброжелательность, которой вознаграждают ученых, равносильна убийству гонца, принесшего плохую весть. Если астрономы укажут нам на приближающийся к Земле крупный астероид, последней мыслью многих людей перед столкновением будет хула «этих ученых». В нашей реакции на ГЭКРС[14] тоже есть что-то от убийства гонца. Только в отличие от примера с астероидом здесь действительно часть вины лежит на человечестве – в том числе и на ученых, а также на сельском хозяйстве и пищевой промышленности с их алчной погоней за прибылью.
Как пишет Карл Саган, его часто спрашивали, существует ли, по его мнению, внеземная разумная жизнь. Он осторожно склонялся в сторону утвердительного ответа, но говорил об этом сдержанно и неуверенно.
И тогда меня переспрашивают:
– Но что же вы думаете на самом деле?
– Я только что вам ответил, – повторяю я.
– Да, но в глубине души?
Душу я стараюсь не подключать к процессу. Если уж взялся постигать мир, то думать надо исключительно мозгом. Все остальные способы, как бы ни были соблазнительны, доведут до беды. И пока нет данных, воздержимся-ка мы лучше от окончательного суждения[15].
Недоверие к внутренним, личным прозрениям – это, как мне кажется, еще одна ценность, приобретаемая через занятия наукой. Персональные ощущения плохо сочетаются с классическими стандартами научного метода: проверяемостью, доказательностью, измеримостью, точностью, непротиворечивостью, беспристрастностью, воспроизводимостью, универсальностью и независимостью от культурной среды.
Есть у науки и такие ценности, которые, пожалуй, уместнее всего рассматривать как сходные с эстетическими. Высказывания Эйнштейна на эту тему приводятся достаточно часто, поэтому лучше я процитирую великого индийского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара – лекцию, прочитанную им в 1975 году, когда ему было шестьдесят пять:
За всю свою научную жизнь… наибольшее потрясение я испытал, осознав, что точное решение эйнштейновских уравнений общей теории относительности, найденное новозеландским математиком Роем Керром, дает нам четкое представление о невообразимом множестве массивных черных дыр, рассыпанных по Вселенной. Этот «трепет перед прекрасным», этот невероятный факт, что открытие, к которому нас побуждает поиск красоты в математике, непременно находит свое точное отражение в Природе, вынуждает меня заявить, что красота – вот то, на что человеческий разум откликается с наибольшей глубиной и силой.
Его слова я нахожу в некотором отношении более волнующими по сравнению с легкомысленным дилетантизмом знаменитых строк Китса:
- «Краса есть правда, правда – красота»,
- Земным одно лишь это надо знать[16].
Если же отойти чуть в сторону от эстетики, то ученые склонны ставить на своей шкале ценностей долгосрочное выше краткосрочного. Вдохновение они черпают из широких космических пространств и тягучей медлительности геологического времени, а не из местечковых человеческих забот. Им более чем кому-либо свойственно видеть предметы sub specie aeternitatis[17] – пусть даже рискуя навлечь на себя обвинения в суровом, холодном, черством отношении к роду людскому.
В предпоследней книге Карла Сагана «Голубая точка» повествование строится вокруг поэтического описания того, как выглядит наша планета из далекого космоса:
Посмотрите на это пятнышко. Вот здесь. Это наш дом. <…>
Земля – очень маленькая площадка на бескрайней космической арене. Вдумайтесь, какие реки крови пролили все эти генералы и императоры, чтобы (в триумфе и славе) на миг стать властелинами какой-то доли этого пятнышка. Подумайте о бесконечной жестокости, с которой обитатели одного уголка этой точки обрушивались на едва отличимых от них жителей другого уголка, как часто между ними возникало непонимание, с каким упоением они убивали друг друга, какой неистовой была их ненависть.
Эта голубая точка – вызов нашему позерству, нашей мнимой собственной важности, иллюзии, что мы занимаем некое привилегированное положение во Вселенной. Наша планета – одинокое пятнышко в великой всеобъемлющей космической тьме. Мы затеряны в этой огромной пустоте, и нет даже намека на то, что откуда-нибудь придет помощь и кто-то спасет нас от нас самих[18].
Для меня единственный жестокий аспект только что процитированных строк состоит в том, что их автор умолк навеки. Считать ли жестоким то, как наука ставит человечество на место, – вопрос отношения. Возможно, это связано с научными ценностями, но многим из нас такие масштабные картины кажутся не холодными и пустынными, а жизнерадостными и бодрящими. И природу мы любим за то, что ею управляют законы, а не прихоть. В ней есть тайна, но нет волшебства. А тайны, когда они в конце концов разгаданы, становятся только прекраснее. Явления природы объяснимы, и нам с вами выпала честь объяснять их. Принципы, господствующие здесь, действительны и в других местах – вплоть до самых отдаленных галактик. Чарльз Дарвин, завершая свой труд «О происхождении видов» знаменитым пассажем про «густо заросший клочок земли»[19], отмечает, что все сложно организованные формы жизни «возникли по законам, действующим вокруг нас»[20], после чего продолжает:
Так из вечной борьбы, из голода и смерти прямо следует самое высокое явление, которое мы можем себе представить, а именно – возникновение высших форм жизни. Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее разнородными силами была вдохнута первоначально в немногие формы или лишь в одну; по которому, меж тем как Земля продолжает кружиться по вечному закону тяготения, из столь простого начала развились и до сих пор развиваются бесчисленные формы дивной красоты[21].
Одно лишь только время, ушедшее на эволюцию видов, – уже благодатный аргумент за их сохранение. Здесь тоже кроется некое ценностное суждение – из тех, что уходят в глубь геологических эпох. Некогда я уже цитировал душераздирающий рассказ Ории Дуглас-Гамильтон об отстреле слонов в Зимбабве:
Я смотрела на один из выброшенных хоботов и задавалась вопросом, сколько миллионов лет понадобилось на то, чтобы создать это чудо эволюции. Оснащенный пятьюдесятью тысячами мускулов и управляемый мозгом соответствующей сложности, он может тянуть и толкать, двигая тонны груза… В то же время им можно выполнять самые тонкие операции. <…> И вот он лежит, отрезанный, как тысячи других слоновьих хоботов, что мне довелось видеть по всей Африке.
Этот отрывок, сколь бы трогательным он ни был, я привел, чтобы проиллюстрировать научные ценности, под влиянием которых миссис Дуглас-Гамильтон сделала акцент именно на миллионах лет, понадобившихся для эволюции всей сложности слоновьего хобота, а не, скажем, на правах слонов, на их способности испытывать страдания или на пользе дикой природы для обогащения как нашего человеческого опыта, так и экономики государств, зарабатывающих на туризме.
Не то чтобы понимание эволюции не имело никакого отношения к вопросам прав и страданий. Вскоре я собираюсь перейти к защите той точки зрения, что базовые моральные ценности нельзя вывести из научного знания. Однако философы-утилитаристы, не верящие в само существование абсолютных моральных ценностей, тем не менее справедливо претендуют на роль в обнаружении противоречий и несообразностей в конкретных этических системах[22]. С позиции ученых-эволюционистов особенно хорошо заметна нелогичность безоговорочного возвеличивания прав человека над правами всех прочих видов.
«Пролайферы» безапелляционно заявляют, что ценность жизни безгранична, с упоением поглощая громадный бифштекс. Жизнь, «лайф», в поддержку которой они так «про-», – это, вне всякого сомнения, человеческая жизнь. Что ж, ничего плохого тут, возможно, и нет, но эволюционист укажет по меньшей мере на непоследовательность. Отнюдь не самоочевидно, что абортировать месячный человеческий эмбрион – значит совершить убийство, а вот застрелить вполне смышленого взрослого слона или горную гориллу – нет.
Шесть-семь[23] миллионов лет назад в Африке жила обезьяна, приходящаяся общим предком всем современным людям и всем ныне живущим гориллам. Так вышло, что связывающие нас с этим предком промежуточные формы – Homo erectus, Homo habilis, различные представители рода Australopithecus и другие – вымерли. Точно так же вымерли и промежуточные формы, связывающие данного предка с современными гориллами. Если бы они не вымерли, если бы в африканских джунглях и саваннах обнаружились реликтовые популяции промежуточных форм, последствия были бы катастрофическими. Вы могли бы иметь детей от кого-то, кто мог бы иметь детей от кого-то, кто… – и после еще нескольких звеньев цепочки – …мог бы иметь детей от гориллы. То, что некоторые важные промежуточные представители этого непрерывного ряда взаимной скрещиваемости уже мертвы, – чистой воды невезение.
И это не просто несерьезный мысленный эксперимент. Спорить тут можно разве что о том, сколько именно промежуточных звеньев должно быть в цепочке. Но их количество никак не влияет на обоснованность следующего вывода. Ваше безапелляционное возвеличивание Homo sapiens над всеми прочими видами живых существ, бездумное предпочтение, которое вы окажете скорее человеческому эмбриону или ведущему растительный образ жизни человеку с погибшим мозгом, а не находящемуся в расцвете сил взрослому шимпанзе, ваш видовой апартеид – все это рассыпалось бы, как карточный домик. А если бы не рассыпалось, значит, сравнение с апартеидом отнюдь не беспочвенно. Раз даже при наличии непрерывного спектра живых промежуточных форм вы все равно продолжали бы настаивать на отделении «людей» от «не людей», такое разграничение можно было бы осуществлять только при помощи судов, где, как при апартеиде, решалось бы, вправе ли та или иная особь из середины спектра «сойти за человека».
Подобная эволюционистская логика отменяет далеко не всякую концепцию сугубо человеческих прав. Но она несомненно отметает наиболее экстремальные версии этой доктрины, показывая, что обособление нашего биологического вида связано со случайными эпизодами вымирания. Если бы права и нравственные законы были абсолютными в принципе, то для них не представляли бы угрозы новые зоологические открытия, сделанные где-нибудь в лесу Будонго.
Научные ценности в узком смысле
Теперь от научных ценностей в широком смысле слова мне хочется перейти к узкоспециальному аспекту этого понятия – к научным открытиям как непосредственному источнику системы ценностей. Разносторонний английский биолог сэр Джулиан Хаксли – кстати, мой предшественник на посту преподавателя зоологии в Новом колледже – пытался сделать эволюцию основой для этики, чуть ли не религии. Благом он считал все, что способствует эволюционному процессу. Точка зрения его более выдающегося, но обойденного рыцарским званием деда Томаса Генри Гексли[24] была почти противоположной. Мне ближе позиция Гексли[25].
Идеологическая одержимость Джулиана Хаксли эволюцией отчасти проистекала из его оптимистических представлений об эволюционном прогрессе[26]. В наши дни стало модным сомневаться в том, что эволюция вообще прогрессивна. Это интересная дискуссия, и у меня есть мнение на сей счет[27], но не будем отвлекаться от уже начатого разговора о том, должны ли мы в принципе обосновывать свои ценности эволюцией или еще какими бы то ни было знаниями о природе.
Нечто похожее наблюдается и с марксизмом. Вы как историк можете придерживаться научной теории, предсказывающей наступление диктатуры пролетариата. А можете исповедовать политические убеждения, согласно которым диктатура пролетариата – дело хорошее и нужно стараться ее приблизить. Для многих марксистов, собственно, оба эти утверждения справедливы, и поразительно большое их число – даже сам Маркс, похоже, не был исключением – неспособно уловить разницу между первым и вторым. Однако, строго говоря, политические предпочтения вытекают не из исторических теорий. Вполне можно быть последовательным ученым-марксистом, полагающим, что историческая закономерность неминуемо приведет к революции рабочего класса, и вместе с тем голосовать за крайних консерваторов, дабы отсрочить неизбежное. Или же, наоборот, быть убежденным марксистом с политической точки зрения, который, однако, сомневается в исторической теории Маркса и изо всех сил трудится на благо революции именно потому, что чувствует, как сильно та нуждается в помощи.
Сходным образом и эволюция может как обладать, так и не обладать тем свойством прогрессивности, что ей приписывал Джулиан Хаксли как биолог. Но независимо от того, был ли он прав относительно биологии, мы совершенно определенно не обязаны выстраивать свою систему ценностей, подражая такому прогрессу.
Противоречие станет еще острее, если мы переключим свое внимание с эволюции как таковой (и ее предполагаемого стремления к прогрессу) на дарвиновский механизм эволюции – выживание наиболее приспособленных. Томас Генри Гексли, судя по его Роменсовской лекции «Эволюция и этика», прочитанной в 1892 году, не питал на этот счет никаких иллюзий и был прав. Если вы собираетесь использовать дарвинизм в качестве моралите, то нравоучение получится ужасающим. Клыки у природы действительно кроваво-красные[28]. Самому слабому в самом деле суждено проиграть, а естественный отбор и вправду благоприятствует эгоистичным генам. Изящество соревнования между гепардами и газелями куплено огромной ценой крови и страданий предков тех и других. Древние антилопы были растерзаны, а древние хищники умирали от голода – вот почему те, кто пришел сегодня им на смену, так стройны и грациозны. Результат естественного отбора – жизнь во всех ее проявлениях – прекрасен и изобилен. Сам же процесс жесток, безжалостен и близорук.
То, что мы возникли по Дарвину, что форма нашего тела и наш головной мозг изваяны естественным отбором, – научный факт. Но отсюда еще не следует, будто мы должны любить этого равнодушного, беспощадного в своей слепоте часовщика. Как раз наоборот: общество, существующее по дарвиновским законам, – отнюдь не то общество, в котором кому-либо из моих друзей захотелось бы жить. «Дарвиновская политика» – неплохое определение для деятельности такого правительства, от чьей власти я убежал бы на сотни миль, нечто вроде крайнего тэтчеризма, ставшего вдруг общепринятым.
Я позволил себе здесь высказывание личного характера, ибо устал от того, что меня отождествляют с порочной политикой безжалостной конкуренции и обвиняют в пропаганде эгоистического образа жизни. Вскоре после победы миссис Тэтчер на выборах 1979 года профессор Стивен Роуз написал в журнале New Scientist буквально следующее:
Я не хочу сказать ни того, что агентство «Саатчи и Саатчи» наняло команду социобиологов писать речи для Тэтчер, ни даже того, что некоторые оксфордские и суссекские преподаватели университетов теперь ликуют, видя практическое осуществление тех нехитрых истин о генном эгоизме, которыми пытались заразить нас. Имеющее место совпадение модной теории с политическими событиями куда неприятнее. Однако я уверен, что когда будет писаться история случившегося в конце 1970-х годов сдвига вправо – от закона и порядка к монетаризму, а затем к нападкам на этатизм (впрочем, последнее еще под вопросом), – тогда и перемена научной моды, взять хотя бы этот переход в эволюционной теории от моделей группового отбора к моделям кин-отбора, станет выглядеть частью той общественной волны, что привела к власти сторонников Тэтчер с их позаимствованной в XIX веке концепцией неизменной, соревновательной и ксенофобской человеческой натуры.
Под «суссекским преподавателем» подразумевался Джон Мейнард Смит, и тот отправил остроумный ответ, опубликованный в следующем номере New Scientist: «Что же нам оставалось делать – сфальсифицировать уравнения?»
Роуз был одним из тех, кто возглавил тогдашние нападки на социобиологию, вдохновленные марксизмом. Очень символично, что эти марксисты, неспособные отделить свои научные исторические взгляды от повседневных политических убеждений, исходили из того, будто и мы не в состоянии отделить биологию от политики. То, что можно придерживаться некой научной точки зрения на природные механизмы эволюции и одновременно считать перенос своих академических взглядов в политическую плоскость неприемлемым, было для них просто непостижимо. Такой подход привел их к не лезущему ни в какие ворота выводу, что раз применительно к людям генный дарвинизм может оказаться политически нежелательным, то нельзя позволить ему быть научно верным[29].
Точно так же они, как и многие другие, заблуждаются насчет положительной евгеники. Исходя из того, что проводить селекцию человека по таким способностям, как скорость бега, музыкальная или математическая одаренность, было бы непростительно ни с политической, ни с моральной точки зрения, они заключают, что это невозможно (не должно быть возможно) и с позиций науки. Что ж, любому очевидно, что одно из другого не следует, и, должен вас огорчить, положительная евгеника науке не противоречит. Нет никаких причин сомневаться в том, что люди поддадутся селекции так же легко, как и коровы, собаки, злаки или куры. Надеюсь, мне не нужно уточнять, что это не значит, будто я выступаю за проведение подобной селекции.
Найдутся и такие, кто согласится, что возможна евгеника по физическим признакам, но никак не по умственным способностям. Ладно, скажут они, может, вы и сумеете вывести расу олимпийских чемпионов по плаванию, но вам никогда не удастся выведение людей с более высоким интеллектом. Либо потому, что не существует никакого общепризнанного способа измерить интеллект, либо потому, что интеллект не является единой одномерной величиной, либо потому, что он не зависит от генетической изменчивости, либо же в силу некоего сочетания этих трех утверждений.
Если вы пытаетесь спрятаться за подобной аргументацией, мой долг – снова разочаровать вас. Пусть и нет единого мнения о том, как измерять интеллект, мы все равно можем проводить селекцию в соответствии с любым из уже имеющихся спорных мерил или сразу с несколькими. Послушность собак тоже плохо поддается строгому определению, что не мешает нам осуществлять отбор по этому признаку. Пусть интеллект и не зависит от какой-то единственной переменной – то же самое, вероятно, справедливо и для удойности коров или быстроногости беговых лошадей. Тем не менее данные качества подвластны селекции, даже если мы и спорим, как их измерять и можно ли считать их изменчивость однопараметрической.
Что же касается утверждения, будто интеллект, каким способом (или способами) его ни мерь, не подвержен генетической изменчивости, то оно более или менее неверно, и это можно логически доказать, исходя из той лишь посылки, что мы умнее – согласно какому угодно определению ума – шимпанзе и всех прочих обезьян. Раз мы умнее обезьяны, жившей шесть миллионов лет назад и бывшей нашим с шимпанзе общим предком, значит, в нашей родословной существовала эволюционная тенденция к повышению интеллекта. Эволюционная тенденция к увеличению головного мозга – одна из самых впечатляющих во всей палеонтологической летописи позвоночных – совершенно точно имела место. А эволюционные тенденции возможны только при наличии генетической изменчивости по соответствующим признакам – в данном случае по размеру мозга и, предположительно, интеллекту. Итак, у наших предков существовала генетическая изменчивость по умственным способностям. В принципе возможно, что ее больше не существует, но такое исключительное обстоятельство выглядело бы странно. Даже если бы близнецовый метод[30] этого не подтверждал (а он подтверждает), мы на основании одной лишь эволюционной логики безошибочно приходим к заключению, что у нас имеется генетическая изменчивость по интеллекту, если определять его каким угодно образом как нечто, различающееся у нас и у наших предков-обезьян. Вооружившись тем же самым определением, мы могли бы при желании использовать искусственный отбор, чтобы продолжить данную эволюционную тенденцию.
Не нужно много красноречия, чтобы убедить слушателя в том, как плох был бы подобный евгенический подход с политической и этической точек зрения[31], но мы должны совершенно ясно осознавать, что именно такое оценочное суждение и есть подлинная причина нашего неприятия. Давайте не будем позволять своим оценочным суждениям навязывать нам лженаучную точку зрения о невозможности евгеники. К счастью или к несчастью, природе нет дела до таких мелочей, как человеческие ценности.
Позже Роуз объединил усилия с Леоном Кеймином, одним из главных американских противников проведения тестов IQ, и выдающимся генетиком-марксистом Ричардом Левонтином, чтобы написать книгу, в которой они воспроизвели те же самые и многие другие заблуждения[32]. Кроме того, они признали там, что мы, социобиологи, хотим быть меньшими фашистами, чем нам, по их (ошибочному) мнению, приходится быть под влиянием нашей науки. Тем не менее они попытались (тоже ошибочно) подловить нас на противоречии с тем механистическим взглядом на разум, которого придерживаемся мы – и, вероятно, они тоже.
Такая позиция находится или должна находиться в полном соответствии с принципами социобиологии, выдвигаемыми Уилсоном[33] и Докинзом. Если, однако, те ее примут, то встанут перед дилеммой – в первую очередь перед необходимостью признать врожденность почти всего поведения человека, что им, свободолюбивым людям, явно покажется непривлекательным (злой умысел, промывка мозгов и т. п.) …Дабы избежать этой проблемы, Уилсон и Докинз призывают на помощь свободу воли, которая дает нам возможность идти, коли мы захотим, против диктата наших генов.
А это, возмущаются они, возврат к беззастенчивому картезианскому дуализму. По словам Роуза и его соавторов, нельзя считать себя машиной выживания, запрограммированной своими генами, и в то же время призывать к восстанию против них.
В чем же трудность? Не вдаваясь в сложные философские проблемы детерминизма и свободы воли[34], нетрудно заметить, что мы, собственно говоря, уже сопротивляемся диктату генов. Мы восстаем против них всякий раз, когда используем контрацептивы, имея достаточно средств, чтобы вырастить ребенка. Мы восстаем, когда читаем лекции, пишем книги или сочиняем сонаты, вместо того чтобы упорно тратить время и энергию на распространение своих генов.
Тут все проще простого, вообще никаких философских затруднений. Естественный отбор эгоистичных генов снабдил нас большими мозгами, которые мы первоначально использовали для выживания в сугубо утилитарном смысле. Но коль скоро эти мозги – со своими лингвистическими и прочими способностями – уже возникли, не будет никакого противоречия в утверждении, что они стали развиваться в совершенно новых, «эмерджентных» направлениях, в том числе и враждебных интересам эгоистичных генов.
Говорить об эмерджентных – производных – свойствах вполне законно. Компьютеры, задуманные как вычислительные машины, теперь используются в качестве текстовых редакторов, шахматных игроков, энциклопедий, телефонных коммутаторов и даже, как ни прискорбно, электронных гороскопов. И в этом нет никаких фундаментальных противоречий, чтобы бить философскую тревогу. Нет их и в том, что наш головной мозг сумел обскакать – и даже обхитрить – свое дарвиновское происхождение. Подобно тому как мы бросаем вызов своим эгоистичным генам, когда играючи отвязываем радость, доставляемую сексом, от его дарвиновской функции, мы можем сесть за стол переговоров и при помощи языка разработать политику, этику и ценности, которые будут по своей сути вопиюще антидарвиновскими. Я еще вернусь к этой мысли в заключительной части лекции.
К гитлеровским извращенным наукам относился искаженный дарвинизм и, конечно, евгеника. Но, хоть это и неприятно признавать, в первой половине нашего столетия взгляды Гитлера не были оригинальными. Процитирую главу о «новой республике» – якобы дарвинистской утопии, – написанную в 1902 году:
Как же будет поступать новая республика с низшими расами? Как будет она относиться к неграм, к желтой расе?.. Что же будет с другими расами – коричневыми, грязно-белыми и желтыми, – которые не будут отвечать новым общественным нуждам?
Я думаю вот что: мир не благотворительное учреждение, и, вероятно, этим расам наступит конец… Этическая система людей в мировом государстве будет прежде всего способствовать воспроизведению всего, что есть хорошего, талантливого и прекрасного в человечестве: красивого и сильного тела, светлого и мощного ума…[35]
Автор здесь – не Адольф Гитлер, а Герберт Уэллс[36], сам себя считавший социалистом. Вот из-за подобной белиберды (а социал-дарвинисты понаписали ее немало) дарвинизм снискал себе в общественных науках дурную репутацию. Да еще какую! Но опять-таки не следует ни тем, ни иным способом пытаться извлечь политику или мораль из фактов о природе. И Гексли, и его внуку Хаксли предпочтем Давида Юма: нравственные директивы нельзя вывести из описательных посылок, или же, как это нередко формулируют устно, нельзя получить «должное» из «сущего». Откуда же тогда – с эволюционной точки зрения – взялось наше «должное»? Как мы приобрели свои ценности: моральные и эстетические, этические и политические? Пора нам от научных ценностей перейти к науке о ценностях.
Наука о ценностях
Действительно ли мы унаследовали свои ценности от далеких предков? Бремя доказательства тут лежит на тех, кто возьмется утверждать обратное. Древо жизни – дарвиновское древо – представляет собой громадные густые заросли, образованные тридцатью миллионами ветвей[37]. Мы – только крошечная веточка, затерявшаяся где-то вблизи от наружной поверхности. Она отходит от небольшого сучка, дающего также начало веточкам человекообразных обезьян, наших родственников, неподалеку от более крупного сучка всех прочих обезьян, с которыми мы тоже в родстве, откуда рукой подать до более дальней родни: кенгуру, осьминогов, стафилококков… Никто не сомневается, что все остальные ветви из тридцати миллионов унаследовали свои признаки от предков, и, как ни суди, мы, люди, тоже многим обязаны своим предкам в том, чем являемся и как выглядим. От прародителей нам достались – с более или менее значительными модификациями – кости и глаза, уши и бедра и даже (трудно будет с этим спорить) вожделения и страхи. Априори нет никаких явных причин, почему то же самое не распространялось бы и на нашу высшую умственную деятельность: на искусство и нравы, на врожденное чувство справедливости, на ценности. Отделимы ли такие проявления высшей человечности от того, что Дарвин называл неизгладимой печатью нашего низкого происхождения? Или он был прав, когда более развязно заметил в одной из своих записных книжек: «Тот, кто поймет павиана, продвинется в метафизике дальше Локка»? Не буду заниматься обзором литературы, но данный вопрос – о дарвиновской эволюции нравственности и ценностей – обсуждался часто и широко.
Основополагающая логика дарвинизма состоит в следующем. У каждого есть предки, но не у каждого есть потомки. Все мы унаследовали гены, позволяющие стать предком, ценой тех генов, что мешали стать им. Быть предком – высшая дарвиновская ценность. В мире, живущем исключительно по Дарвину, все прочие ценности второстепенны. Иначе говоря, высшая дарвиновская ценность – это выживание генов. В первом приближении можно ожидать, что все животные и растения будут неустанно трудиться во имя долгосрочного выживания находящихся в них генов.
Род людской делится на тех, кому простая логика подобных рассуждений ясна как день, и на тех, до кого она не доходит, сколько ни объясняй. Альфред Уоллес писал об этой проблеме[38] человеку, открывшему вместе с ним естественный отбор: «Мой дорогой Дарвин, я столько раз бывал поражен полной неспособностью многих умных людей отчетливо, а то и вообще понимать автоматизм и неотвратимость действия естественного отбора…»
Из тех, до кого не доходит, одни полагают, будто где-то скрыто некое активно и осознанно действующее начало, которое и производит селекцию, другие же недоумевают, почему особи должны ценить выживание своих генов больше, чем, скажем, выживание своего вида или экосистемы. Ведь, в конце-то концов, скажут эти вторые, если вид и экосистема не выживут, сгинет и сама особь, так что ценить вид и экосистему – в ее интересах. Кто решил, вопрошают они, будто выживание генов – абсолютная ценность?
Никто не решал. Это неизбежно следует из того факта, что гены находятся в организмах, ими построенных, будучи тем единственным, что способно уцелеть (в виде закодированных копий) при переходе от одного поколения организмов к другому. Таково современное изложение той мысли, которую Уоллес метко выразил словом «автоматизм». Ценности и цели отдельных особей, ставящие их на путь генного выживания, не внушены ни чудом, ни сознанием. Только прошлое – и никак не будущее – может влиять на что-либо. Животные ведут себя так, как будто борются за увеличение числа копий эгоистичного гена в будущем, по той простой и единственной причине, что они несут в себе гены, в прошлом передававшиеся предками из поколения в поколение, и находятся под влиянием этих генов. Те предки, что в свое время вели себя, как если бы самым важным для них было все, что способствует будущему выживанию их генов, передали своим потомкам гены именно подобного поведения. Вот почему и потомки в свою очередь действуют, как если бы будущее выживание собственных генов заботило их превыше всего.
Все это совершенно непредумышленный, автоматический процесс, который идет до тех пор, пока условия в будущем более или менее сходны с теми, что были в прошлом. В противном же случае он перестает быть эффективным, что нередко приводит к вымиранию. Те, кто понимает это, понимают дарвинизм. Кстати, слово «дарвинизм» придумал все тот же великодушнейший Уоллес. Я продолжу обсуждение ценностей с дарвиновских позиций на примере костей, поскольку кости, скорее всего, не заденут ничьих чувств, что могло бы отвлечь нас от темы.
Кости несовершенны: иногда они ломаются. Дикое животное, сломавшее себе ногу, вряд ли выживет в суровом мире живой природы, построенном на конкуренции. Оно будет особенно уязвимым для хищников или же не сможет ловить добычу. Так почему естественный отбор не укрепит кости так, чтобы те никогда не ломались? Мы, люди, могли бы путем селекции вывести, скажем, породу собак с костями настолько крепкими, что сломать их было бы невозможно. Отчего природа не поступает так же? По причине затрат, что подразумевает некую систему ценностей.
Инженеров и архитекторов никогда не просят строить нерушимые здания и непробиваемые стены. Вместо этого им дают финансовую смету и просят, оставаясь в ее рамках, сделать все максимально хорошо в соответствии с тем или иным критерием. Или говорят: «Мост должен выдерживать десять тонн и ураганы втрое более сильные, чем те, что когда-либо наблюдались в данном ущелье. Итак, спроектируйте наименее дорогостоящий мост с учетом наших технических условий». Коэффициенты безопасности в инженерии подразумевают денежную оценку человеческой жизни. Проектировщики гражданских авиалайнеров позволяют себе меньшие риски, чем это допустимо в военной авиации. Оснащение самолетов и наземные средства управления стали бы безопаснее, если бы в них было вложено больше денег. В системы контроля можно было бы ввести бо́льшую избыточность, количество летных часов, необходимое пилоту для получения лицензии на перевозку пассажиров, – увеличить, а проверку багажа – сделать более строгой и длительной.
Почему мы не предпринимаем этих шагов, делающих жизнь безопаснее? Причина в значительной мере связана с их стоимостью. Количество денег, времени и усилий, которые мы готовы потратить на защиту людей, велико, но не бесконечно. Нравится нам это или нет, приходится исчислять ценность человеческой жизни деньгами. На ценностной шкале большинства людей жизнь человека дороже жизни любого другого животного, но и стоимость жизни животного не равна нулю. Увы, как можно судить по газетным репортажам, люди ценят жизнь представителей своей расы выше человеческой жизни в целом. В военное время как абсолютная, так и относительная оценка стоимости человеческой жизни меняются самым решительным образом. Люди, считающие, будто измерять ценность человеческой жизни деньгами безнравственно, и с волнением в голосе заявляющие, что жизнь каждого человека бесценна, витают в облаках.
Дарвиновский отбор тоже занимается оптимизацией с учетом экономических ограничений, и можно сказать, что в этом смысле он тоже обладает системой ценностей. Как заметил Джон Мейнард Смит, «если бы не было никаких ограничений в возможностях, то наилучший фенотип обладал бы бессмертием, неуязвимостью для хищников, откладывал бы яйца в бесконечных количествах и так далее».
Николас Хамфри развивает эти доводы при помощи другой инженерной аналогии.
Рассказывают[39], будто бы Генри Форд однажды поручил исследовать автомобильные свалки с целью выяснить, какие детали «Форда» модели T никогда не ломаются. Инспекторы вернулись с отчетами о практически любых мыслимых поломках: оси, тормоза, поршни – все выходило из строя. Но обращало на себя внимание одно важное исключение: шкворни отданных на слом машин неизменно могли бы служить еще долгие годы. Форд рассудил с беспощадной логикой, что шкворни модели T слишком хороши для выполняемой ими задачи, и распорядился в дальнейшем использовать шкворни с менее высокими характеристиками… Наверняка природа – не менее аккуратный экономист, чем Генри Форд.
Хамфри применял свои рассуждения к эволюции разума, но они точно так же подойдут и к костям, и к чему угодно еще. Давайте закажем исследование гиббонов с целью найти у них кости, которые служат безотказно. И вот мы узнаем, что любая кость в организме гиббона время от времени ломается – за одним важным исключением. Предположим (весьма неправдоподобно), что такой никогда не ломающейся костью окажется бедро. Генри Форд не колебался бы: в дальнейшем бедренные кости изготавливались бы с менее высокими характеристиками.
Согласился бы с таким решением и естественный отбор. Особи с чуть более тонкими бедренными костями, направляющие сэкономленные материалы на прочие нужды – например, на укрепление других костей, дабы уменьшить вероятность их поломки, – будут выживать лучше. Или же самки могли бы добавить вымытый из толщи бедренных костей кальций в молоко, повысив таким образом выживание своих детенышей, а заодно и генов, обусловивших эту расчетливость.
Идеалом (пусть и упрощенным) машины или животного был бы такой механизм, чьи детали изнашивались бы все одновременно. Если какая-то одна деталь систематически остается способной служить еще долгие годы, в то время как все остальные уже вышли из строя, значит, цена ее неоправданно высока. Материалы, уходящие на ее изготовление, следует перенаправить другим частям. Если же какая-то одна деталь систематически изнашивается раньше всего остального – значит, ее качество неоправданно низкое. Следует усовершенствовать ее, используя материалы, взятые от других деталей. Естественный отбор будет стремиться установить правило равновесия: отнимай у крепких костей и отдавай хрупким, до тех пор пока те и другие не станут одинаково прочными.
А упрощение это, поскольку не все детали организма или механизма в равной степени важны. Вот почему устройства для развлечения пассажиров ломаются в самолетах, к счастью, чаще рулей и реактивных двигателей. Гиббон, вероятно, позволил бы себе сломать скорее бедро, чем плечо. Его образ жизни рассчитан на брахиацию (перебрасывание себя с ветки на ветку при помощи рук). Гиббон со сломанной ногой может выжить и обзавестись очередным детенышем. Гиббон со сломанной рукой – вряд ли. Следовательно, упомянутое мною правило равновесия надо скорректировать: отнимай у крепких костей и отдавай хрупким, до тех пор пока не уравняешь риски для выживания, связанные с переломом той или иной части своего скелета.
Но кто увещевается в нашем правиле? Определенно не конкретный гиббон – неспособный, как мы полагаем, к компенсаторной регулировке собственных костей. В данном случае правило сформулировано абстрактно. Можно сказать, что речь в нем идет о непрерывном ряде поколений гиббонов, где каждая следующая особь приходится потомком предыдущей и делит с ней общие гены. С течением времени предки, чьи гены проводили верную калибровку костей, выживают и оставляют потомков, которые наследуют эти правильно калибрующие гены. В наблюдаемом нами мире гены будут иметь обыкновение создавать нужный баланс, поскольку они выжили, пройдя сквозь долгую череду успешных предков, не пострадавших ни от перелома костей заниженного качества, ни от убытков, понесенных за счет чрезмерно качественных костей.
Вот и все, что можно сказать про кости. Теперь нам нужно выразить в дарвинистских терминах, зачем животным и растениям ценности. Кости придают жесткость конечностям, а что же ценности делают для своих обладателей? Под ценностями я сейчас буду подразумевать те имеющиеся в головном мозге критерии, которыми животные руководствуются, выбирая, как себя повести.
Большинство объектов во вселенной ни к чему активно не стремятся. Они просто существуют. Меня же интересует стремящееся к чему-либо меньшинство: объекты, выглядящие так, будто трудятся ради какой-то цели, достигнув которой прекращают работу. Это меньшинство я буду называть ценностно ориентированными объектами. Некоторые из них – животные и растения, а некоторые – рукотворные механизмы.
Ракеты «Сайдуайндер» с тепловой головкой самонаведения, термостаты и многие физиологические системы у растений и животных регулируются по принципу положительной обратной связи. В системе задано целевое значение параметра. Отклонения от этого целевого значения распознаются, о них сообщается системе, и та меняет свое состояние в сторону уменьшения отклонений.
Другие ценностно ориентированные системы совершенствуются с опытом. С точки зрения определения ценности в обучающихся системах ключевое понятие – подкрепление. Оно может быть положительным («вознаграждение») и отрицательным («наказание»). К вознаграждениям относятся такие состояния вселенной, встреча с которыми заставляет животное воспроизводить любое совершенное перед этим действие. А к наказаниям – такие, встреча с которыми заставляет животное избегать воспроизведения предшествующего действия, в чем бы то ни заключалось.
Стимулы, воспринимаемые животными в качестве вознаграждений и наказаний, можно рассматривать как ценности. Психологи еще проводят дополнительное разграничение между первичными и вторичными стимулами (как наказаниями, так и вознаграждениями). Можно научить шимпанзе совершать работу за еду – это первичное вознаграждение. Но шимпанзе могут работать и за аналог денег – пластиковые жетоны, которые они предварительно научаются засовывать в автомат для получения пищи, и это уже вторичное вознаграждение.
Некоторые психологи-теоретики доказывали, что существует только один врожденный механизм вознаграждения («ослабление влечения», «удовлетворение потребности»), на базе коего формируются все остальные. Другие же, в том числе патриарх этологии Конрад Лоренц[40], утверждали, что дарвиновский естественный отбор наделил животных сложными встроенными механизмами подкрепления, точно определенными и специфическими для каждого вида в соответствии с уникальным образом жизни последнего.
Пожалуй, самые богатые замысловатыми подробностями примеры первичных ценностей можно найти у певчих птиц. У разных видов песня формируется по-своему. У американской певчей овсянки наблюдается поразительное сочетание этих способов. Молодые птицы, выращенные в полной изоляции, в конце концов поют нормальную песню певчей овсянки. Таким образом, в отличие, скажем, от снегирей они не учатся путем подражания. Но тем не менее они учатся. Юные певчие овсянки обучаются пению самостоятельно, щебеча случайным образом и повторяя те пассажи, которые соответствуют некоему встроенному шаблону. Этот шаблон – генетически обусловленное точное представление о том, как должна звучать певчая овсянка. Можно сказать, что информация о песне записана генами в соответствующем сенсорном участке мозга. А чтобы перенести ее в моторный отдел, требуется научение. И ощущение, предписываемое шаблоном, – это по определению награда: птица повторяет действия, которые его вызывают. Но награда очень замысловатая, детально проработанная.
Именно подобные примеры побуждали Лоренца в его витиеватых попытках разрешить старинный спор между «нативизмом» и «энвайронментализмом» использовать красочное выражение «врожденная учительница» (или «врожденный механизм обучения»). Его мысль была такова: как бы ни было важно обучение, должны существовать врожденные указания, чему именно мы станем учиться. В частности, каждому виду необходимо получить точные предписания насчет того, что воспринимать как вознаграждение, а что – как наказание. Первичные ценности, говорил Лоренц, должны были возникнуть путем дарвиновского естественного отбора.
Имея достаточно времени, мы могли бы искусственно вывести породу животных, получающих наслаждение от боли и ненавидящих удовольствие. Разумеется, это высказывание звучит как оксюморон, поэтому перефразирую: при помощи искусственного отбора мы могли бы сменить имеющиеся понятия удовольствия и боли на противоположные[41].
Животные, модифицированные таким образом, будут оснащены для выживания хуже своих диких предков. Предки были сформированы естественным отбором, чтобы испытывать наслаждение от стимулов, которые, вероятнее всего, повысят их выживаемость, и болезненно реагировать на те раздражители, что порой могут стать причиной гибели. Телесные повреждения, проколотая шкура, сломанные кости – все это воспринимается как боль, и на то есть веские дарвиновские причины. А вот наши искусственно выведенные животные радовались бы дыркам в своей шкуре, активно стремились бы к переломам собственных костей и получали бы удовольствие от таких высоких или низких температур, которые опасны для жизни.
Подобная селекция сработала бы и с человеком. Причем проводить ее можно было бы не только на предпочтения, но и на такие свойства, как черствость, сострадание, верность, лень, набожность, подлость или склонность к протестантской трудовой этике. Это заявление не столь шокирующее, каким может показаться, ведь гены не определяют поведение окончательно и бесповоротно, а просто вносят количественный вклад в статистические тенденции. Как мы уже говорили при обсуждении научных ценностей, наличие одного-единственного гена, обусловливающего одно из вышеперечисленных сложных качеств, предполагается здесь не больше, чем возможность выведения скаковых лошадей доказывает наличие строго определенного «гена скорости». А при отсутствии искусственного отбора наши с вами ценности, по-видимому, формировались под влиянием отбора естественного – действовавшего в условиях, характерных для Африки эпохи плейстоцена.
