Древняя и эллинистическая Греция. История от истоков до времен Александра Македонского
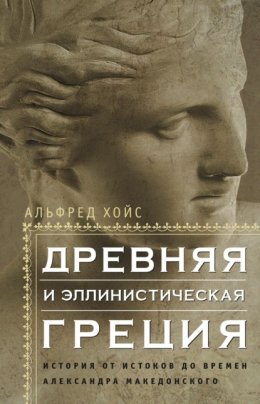
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2025
Истоки и начало греческой истории
Греческий полуостров теснейшим образом связан с Эгейским морем. Он обращен к нему своим восточным побережьем и южной оконечностью, в то время как западный берег не имеет удобного выхода в море. Одному только такому положению обязано Эгейское море той ролью посредника, какую оно на протяжении многих столетий играло в мировой истории, связывая Азию и Египет с одной стороны и Европу – с другой стороны. Культурные ценности Азии, которые Греция получала из первых рук, имели для нее не меньшее значение, чем переселения из Европы. Но Эллада не ограничивалась ролью принимающей стороны. Как только созрели необходимые условия, Греция стала дающей стороной.
Древнейшие культуры Эгейского региона
Когда мы сегодня ведем речь о доисторических временах, то имеем в виду тень более ранней древности, чем та, которая совсем недавно была доступна нашему изучению. Уже в ходе новейших исследований удалось показать, что в Фессалии на реке Пеней в палеолитические времена существовали стоянки рыбаков и охотников. Такие же каменные орудия подобных добытчиков зверя были найдены в одной беотийской пещере. Отдельные находки такого рода были обнаружены также и на островах. Это все, что нам известно о доисторическом населении греческого полуострова и прилегающих островов. Можно, однако, предположить, что под влиянием окружающего их мира эти люди образовали исходный расовый тип средиземноморского человека.
Не изолированно, но под культурным влиянием Передней Азии Греция и Юго-Восточная Европа перешагнули порог, отделяющий дикого добытчика, food gatherer, от более высокой ступени развития, знаменующей переход от культуры присваивающей к культуре производящей, то есть к культуре food producer. Это одновременно порог, отделяющий мезолит от неолита, нового каменного века.
В Передней Азии все началось с примитивного возделывания земли и нерегулярных сборов урожаев и с приручения, а потом и одомашнивания травоядных животных. Поскольку, разумеется, люди не всегда могли кочевать вместе со своими стадами, то о коренном изменении образа жизни этих племен не могло быть и речи. Только с появлением настоящего земледелия (поначалу для него использовали нетронутые целинные земли), когда люди научились восстанавливать почву, земля стала долговременным владением и объектом, имеющим ценность в глазах владельца. Можно было осесть на такой земле, утвердиться на ней, укрепить поселения и приступить к строительству настоящих городов. Теперь человек был в состоянии создавать запасы и копить богатства; в деревнях образовался класс крестьян, в городах же проживал класс землевладельцев. Эти поселения нуждались в направляющей власти, которая защищала землю и территорию рода, следила за справедливым распределением воды и обеспечивала покровительство богов. Так возникло территориальное государство, коим, по милости Божьей, правили князья и священники. Это была иерархическая система абсолютных авторитетов, которая возникала везде, где плодородие земли благоприятствовало аграрному хозяйству.
Зачатки такого сельского хозяйства с переходом к строительству городов и оседлости находим мы в Палестине, лучшими свидетельствами чего являются для нас Иерихон и Абу-Гош, находим в Сирии, в Месопотамии (находки в Калат-Джармо), на Кипре и еще далее к востоку в Малой Азии (находки в Хаджиларе). Широкое распространение этих первичных аграрных областей объясняется экстенсивным характером тогдашнего сельского хозяйства, когда люди не имели ни малейшего представления о мелиорации земель. В религиозном плане почитание плодородия привело к культовому почитанию женского и материнского начала. Идолы «великой богини» начали лепить из сырой глины задолго до того, как была освоена техника изготовления сосудов из обожженной глины. По раскопкам в Иерихоне и центральноанатолийском Хаджиларе нам известен культ глиняных черепов. Керамики еще не существовало, но уже были хорошо обработанные каменные чаши, по которым эта ступень развития была названа «культурой каменных чаш».
Уже во времена древнейшего земледелия, когда люди еще не знали техники восстановления плодородия истощенной земли, начались массовые переселения ищущих новой земли крестьян из Малой Азии на острова Эгейского моря и в материковую Грецию. Эти переселенцы оседали везде, где находили жирную землю, пригодную для обработки, и прежде всего в Фессалии. Поселения были также основаны на многих островах Эгейского моря для того, чтобы облегчить путь через море. Теперь мы находим и в Элладе следы первых долговременных поселений, земледелия и регулярного скотоводства. Именно с этого началось то имеющее всемирно-историческое значение движение, которое мы называем «малоазийским культурным дрейфом». Речь шла о переселении и миграции земледельцев в поисках свободной земли, о перемещении вместе с ними предметов культуры, людей и товаров, знаний и идей, и перемещение это текло в едином направлении – из Передней Азии в Европу. Началось оно уже в шестом или, по меньшей мере, в пятом тысячелетии и продолжалось до начала третьего тысячелетия. То было великое движение передовой переднеазиатской культуры.
Важный прогресс наметился, когда в Передней Азии перешли к изготовлению сосудов из обожженной глины. Этот материал находок имеет для нас большое значение, так как подобные сосуды самой технологией их изготовления, формой и украшениями в такой степени были связаны со временем их появления, что нам стало не слишком трудно датировать находки. Разумеется, сосуды сохранились в целом состоянии только в захоронениях, хотя все культуры, как правило, оставляют после себя только одни черепки. Часто культурные слои располагаются друг над другом, и границы между ними устанавливают по найденным черепкам, особенности которых и позволяют проводить временные границы.
С появлением горшечного промысла мы восходим на ступень расцвета неолита, характерными признаками которого являются отшлифованные – но не грубо оббитые – каменные орудия и керамические изделия. На основе разнообразий форм глиняных сосудов и некоторых других находок стало возможным разграничение на территории Передней Азии и прилежащих к ней областей ряда культурных провинций. Одной из таких провинций считаются Сирия и Месопотамия, где была обнаружена культура Тель-Халафа, другая культурная провинция образовалась в Палестине, третья в Египте, четвертую мы видим в Иране, эта последняя культура распространяла свое влияние до Передней Индии (культуры Хараппо и Мохенджо-Даро). Пятая культурная провинция – это Анатолия; ее пределы расширились на запад за счет переднеазиатского культурного дрейфа.
Кроме того, после возникновения гончарного промысла возобновилось движение с Востока. Как только пришедшие в движение племена начинают заниматься земледелием, скотоводством и переходят к оседлости, так сразу же за этим следует гончарный промысел, украшение сосудов резьбой и живописными изображениями, изготовление и применение печатей и культ великой богини-матери, которую изображали в виде идолов или рисунков на сосудах.
Этот культурный поток прокатился над Эгейским регионом далее на запад и северо-запад, одним крылом в Италию, другим на Балканы и в пойму Дуная и еще дальше, в Центральную Европу. При этом обширная анатолийская культурная провинция с самого начала проявляет известную обособленность от соседней Сирии и Месопотамии, в Малой Азии языковой тип древних средиземноморцев развился в значительный культурный язык, в то время как в Сирии и Месопотамии со всей очевидностью преобладали шумерские и семитические идиомы. Семитическое влияние рано оставило глубокий отпечаток также в Палестине, а в Египте культурный подъем начался с момента смешения живших там хамитов с пришельцами-семитами.
Автохтонный малоазийский языковый тип вместе с переднеазиатским культурным дрейфом распространился на Эгейский регион, в Италию, на Балканы и на Дунай. Всюду в этих местах язык пришельцев оставил следы в названиях населенных пунктов, которые сохранялись вплоть до последнего времени. Характерны звуковые сочетания nt и ss, присутствующие в конечных слогах. Границы распространения малоазийской культуры можно определить по таким названиям, как Найссос, нынешний Ниш, Карнантум, возле нынешней Вены, Карантания (Каринтия), Пустерталь (некогда Пустрисса), Тарент в Италии и Кримиссос на Сицилии.
Поскольку анатолийская лексика распространялась из района Эгейского моря, мы привыкли обозначать ее как «эгейскую». К этой эгейской группе языков и народов принадлежали все переселенцы, которые явились в Грецию, на Балканы, на Дунай и в Италию из Малой Азии.
Центры анатолийской культурной экспансии располагались в Киликии, что подтверждается археологическими находками в Мерсине и Тарсе, далее, в Восточной Анатолии, где в 1960-х годах были проведены основополагающие исследования Джеймса Меллаарта в Чаталь-Хююк, и в центральных районах Малой Азии, где тот же ученый отыскал в Хаджиларе богатый материал по керамике и малой скульптуре.
Эгейская область восприняла толчок к развитию высокой культуры не только в результате переднеазиатского культурного дрейфа. Существовали также влияния, исходившие с противоположного берега Средиземного моря, из Египта и Северной Африки, так что мы можем с полным правом говорить также и о «североафриканском культурном дрейфе». Разумеется, путь этих влияний пролегал дальше на Запад, в Испанию, Бретань, Британские острова и Северную Европу, а также на Мальту, Сардинию и Корсику. Все же этим культурным дрейфом был затронут и Крит, а вместе с ним и Эгейский регион. Африканские влияния принесли с собой прежде всего мегалитические строения в форме круглых и куполообразных захоронений, каменных кругов и менгир, а также средиземноморский «пещерный дух», который был склонен для отправления культа прятаться в подземных убежищах. Этим вторым культурным дрейфом на Крит были занесены многие влияния в керамике и обработке камня, а позже и в строительстве купольных гробниц, что должно было сыграть значительную роль в становлении культуры Крита и Микен.
Культуру, которая в результате переднеазиатского культурного дрейфа достигла материковой Греции, мы, по расположенному в Фессалии месту ее находки, обозначаем как культуру Сескло. Речь идет о крестьянской культуре с многочисленными деревнями и несколькими центрами более городского типа, но больше всего она была привязана к Фессалии и Беотии, плодородным областям с высоким уровнем благосостояния населения, которое, кроме земледелия, занималось также морскими путешествиями и торговлей. Как бы ни зависела культура Сескло от цивилизации Малой Азии, все же влияние последней не было абсолютно доминирующим. Здесь несколько упростилась декоративность великолепно расписанных, но чрезмерно роскошных анатолийских керамических изделий, превратившись в многообразно варьирующую схему рельефных узоров. Особое внимание мастера уделяли гармоническому оформлению сосудов. Анатолийская скульптура с ее богатством воплощений великой Богини Матери была в Эгейском бассейне сведена к типам стоящей, сидящей и присевшей на корточки богини, при этом скульпторы избегали всякой схематизации и каждой фигурке придавали неповторимую форму и прелесть. В архитектуре начинают исчезать ранние формы мегарона, в основном строили квадратные в плане дома с каркасными стенами, наклоненными внутрь, что позволяло избежать обрушения зданий во время землетрясений.
Поскольку на Крите египетско-североафриканское влияние было сильнее, чем в материковой Греции, постольку в противоположность культуре Сескло культура Крита занимает особое место. В эпоху неолита Крит был уже довольно густо заселен, при этом жившие там люди уже освоили отгонное скотоводство на склонах критских гор. Особенно обширным поселением был Кносс. Под североафриканским влиянием в керамике мастера отказались от живописной росписи сосудов в пользу инкрустированных резных украшений. Также и при изготовлении каменных сосудов придерживались египетских образцов. Что касается скульптуры, то в слоях, относящихся к раннему неолиту, мы совершенно неожиданно сталкиваемся с мужскими статуэтками, изображающими людей в своеобразных набедренных повязках, форма которых указывает на иммиграцию на Крит ливийцев. Однако в малой скульптуре Крита прослеживается также мотив переднеазиатской великой Богини Матери.
Но как бы то ни было, идолы, созданные на острове, по своей красоте и художественной зрелости не могут идти ни в какое сравнение со скульптурными изображениями человека, найденными в материковой Греции. Напротив, в скульптурных изображениях животных мы встречаемся с выдающейся пластикой, в которой даже проявляются черты жанровой скульптуры. Так же как на материке, находим мы на Крите зачатки наивного раннего реализма, основанного на непосредственном восприятии окружающих предметов. Этот реализм в корне противоречит началам позднего эллинистического искусства, истоки которого проистекают из понятийных представлений, а следовательно, из абстрактных идей.
Великая Богиня Мать в Эгейском регионе постепенно расчленяется на отдельные локальные образы. Нередко рядом с ней изображают умирающего и воскресающего бога весны и растительности, который был таким же партнером богини, как в Малой Азии Атис, в Сирии Адонис, а в Месопотамии Таммуз.
В Эгейском бассейне к перенятым на Востоке представлениям добавилась одна новая черта: на первый план выступили содрогания тектонических сил подземного мира. Без сомнения, это можно объяснить внешними влияниями, прежде всего частыми в Греции землетрясениями и тем, что мы теперь называем «карстовыми феноменами» (пещерами, подземными реками и т. п.). Если в Передней Азии люди особенно страшились многочисленных богов, покровителей погоды, представлявшихся верховными правителями мира, то в Эгейском бассейне такой верховной владычицей стала «великая Богиня», правившая подземным миром.
В течение неолита постепенно намечался медленный прогресс, в результате которого люди научились добывать медь, золото и серебро. Лидирующие позиции в этом процессе занимала опять-таки Передняя Азия с ее богатыми залежами – прежде всего меди и серебра. Поначалу металл использовали только для украшений в виде крученой проволоки и заколок. Позже из меди стали изготовлять некоторые инструменты, орудия труда и оружие, а потом отдавать предпочтение – вследствие большей твердости – сплавам меди с другими цветными металлами. Начали, в конце концов, изготовлять и металлические сосуды, сначала путем отливки и ковки, а затем и путем пайки листового металла. Все эти изменения не слишком быстро появились в Анатолии, а потом так же медленно начали проникать и в Грецию. Прошло очень продолжительное время, прежде чем эти изменения привели к перевороту в образе жизни. При этом мы говорим сейчас о Передней Азии, где с четвертого тысячелетия до нашей эры начал происходить переход от неолита к меднокаменному веку (энеолиту). При этом культура Греции пока еще оставалась на стадии неолита (нового каменного века). Тем не менее и там гончарному делу все больше и больше угрожала конкуренция со стороны металлических ваз, поэтому горшечники начали искать способы изготавливать сосуды, которые своей формой и темным блеском походили бы на металлические изделия. Это привело к отказу от цветной росписи стенок сосудов. Такая смена стиля возвестила переход к веку металла.
Переднеазиатский культурный дрейф послужил толчком к развитию более квалифицированного земледелия, к появлению оседлости и развитию гончарного дела в Центральной Европе. Там эти культурные влияния столкнулись с народностями, которые с доисторических времен украшали предметы своего обихода спиральным орнаментом и меандрами, то есть мотивами, которые до того времени оставались в основном чуждыми народам Средиземноморья. Поскольку в центральноевропейском регионе эти художественные мотивы были перенесены на изделия гончарного промысла, то на территории от Бельгии до Польши, Венгрии и Румынии распространилась культура так называемой ленточной керамики. К сожалению, нам совершенно неизвестно, носителями каких языков были авторы этих изделий.
В первой половине третьего тысячелетия у этого культурного круга появилась наклонность к экспансии. Мы можем утверждать это в отношении Восточной Европы и Италии; главные волны переселения хлынули прежде всего на Балканский полуостров и в конце концов докатились до Греции. Именно там за время от 2700 до 2500 года до н. э. осели представители культуры ленточной керамики, пришедшие туда отчасти из Венгрии и отчасти из Румынии. Одной из таких орд приписывают основание фессалийского городища Димини, и по этой причине вся эта волна перемещения народов называется в литературе переселением Димини. Целью пришельцев была богатая Фессалия, но часть этой волны докатилась до Пелопоннеса и Киклад. На северо-востоке пришельцы достигли фракийских берегов Эгейского моря и Малой Азии, но это были осколки великого переселения. Число вторгшихся переселенцев, также и тех, что осели в Фессалии, было слишком мало, чтобы они смогли утвердить надолго свое искусство и свой язык. Они ассимилировались среди местных народов так же, как позже ассимилировались норманны в Нормандии, а лангобарды в Италии. Остались лишь спирали как художественный мотив украшений, мотив, который позже играл такую важную роль в культурах Крита и Микен. С точки зрения универсальной истории эти переселения положили конец переднеазиатскому культурному дрейфу в том отношении, что возник встречный поток, сменивший одностороннее движение исторических сил и культурных ценностей из Азии в Европу. Впервые в истории Европа перехватила инициативу и распространила культурные элементы своих переселений в юго-восточном направлении. С тех пор Греция подпала под двойное влияние Малой Азии, с одной стороны, и Балканского полуострова – с другой, став зоной напряжения в месте встречи экспансий двух континентов.
То, что уменьшилась, а затем и вовсе исчезла угроза со стороны носителей культуры ленточной керамики, зависело не в последнюю очередь от того, что во второй половине третьего тысячелетия их оттеснили новые пришельцы, среди которых они в конце концов окончательно растворились. Индоевропейские племена покинули места своего обитания в Юго-Восточной Европе и положили конец эре ленточной керамики. Как завоеватели, появились они и на берегах Эгейского моря. Поскольку они не принесли с собой никаких существенных предметов материальной культуры, постольку археология не может точно сказать, когда именно состоялось их первое появление в этом регионе. По этой же причине мы не можем с уверенностью определить время, когда первые группы индоевропейцев вторглись в Грецию или в Малую Азию. Их первые вторжения не могли еще изменить культурное лицо обоих районов. Но в Анатолии уже тогда мог возникнуть эгейско-индоевропейский смешанный «лувийский» язык. Кроме этого, во второй половине третьего тысячелетия в Анатолии, на островах, включая Крит, в материковой Греции и в Македонии образовался культурный круг, который был резко отграничен от все более индоевропеизирующейся внутренней Европы, от семитической Сирии и шумерско-семитической Месопотамии. Этот культурный круг, хотя и имевший глубокие корни в неолитической традиции и этнически определявшийся в существенной степени старыми эгейскими народностями, был в языковом отношении, во всяком случае там, где это касалось лувийцев, под большим влиянием индоевропейских народов. Повторная анатолийская культурная экспансия проявилась прежде всего достижениями малоазийской металлургии. Представляется, однако, что малоазийский народный элемент вскоре снова схлынул. Идет ли в этом случае речь о лувизированных народностях, пока доподлинно неизвестно.
С окончательной победой образа жизни, обусловленного внедрением металлов, начинается – в Малой Азии и на Крите около 2600, а в материковой Греции около 2500 года до н. э. – эпоха металла, а именно раннебронзовый век. Разумеется, в те времена не хватало такого необходимого элемента для легирования меди, как олова. Таким образом, в течение раннебронзового века мы имеем дело с сообществами, фаза культурного развития которых определяется все еще преимущественно медью. Из практических соображений, однако, в отношении начала металлической эпохи принято говорить все же о бронзовом веке.
Мы делим эпоху бронзы на три периода – ранний, средний и поздний бронзовый век, при этом промежуточная временная граница находится между 2000 и 1600 годами до н. э., а поздняя ступень заканчивается в 1200 году до н. э., после чего наступает железный век. В районе Эгейского моря культурный круг раннебронзового периода распадается на отдельные области – Малую Азию, Крит, материковую Грецию, Киклады и Македонию. Артур Эванс, первооткрыватель минойского Крита, назвал этот район минойским, по имени легендарного царя Миноса. Бронзовый век материковой Греции был назван Уэйсом и Блегеном «элладским», а для малоазийского бронзового века Махтельд Меллинк предложил наименование «анатолийский». Таким образом, в рамках раннего, среднего и позднего бронзового века можно говорить о раннеминойской, среднеминойской и позднеминойской эпохах, точно так же можно вести речь о раннеэлладской, среднеэлладской и позднеэлладской эпохах. Точно такое же членение можно применить и к ступеням бронзового века в Анатолии, на Кикладах и в Македонии.
В то время как в неолите и энеолите ведущую роль играли восточные и центральные районы Малой Азии, в раннеанатолийский период центр тяжести исторического развития переместился к западу полуострова. Здесь возникают новые многочисленные поселения, деревни и маленькие городки, городки – главным образом – как резиденции правителей. Наиболее известный город – место пребывания правящих династий – Троя (Илион), известная нам по раскопкам Генриха Шлимана, Вильгельма Дерпфельда, а позже одной американской экспедиции. Уже Шлиман разделил слои, относящиеся к раннебронзовому веку, на пять подслоев – от Трои I до Трои V. Однако и эти пять подслоев были далее разделены американцами на более короткие периоды каждый.
Троя оказалась окруженным мощной каменной стеной городом, в центре которого помещалась резиденция правителя. Здание, в котором жил и правил царь, в архитектурном отношении являло собой типичный мегарон – удлиненный дом, вход в который располагался в узком торце. Вход вел в передний зал, далее в главное помещение, а затем в дальнее, заднее помещение. В слое Троя II, который представляет город в период его наивысшего расцвета, в центре населенного пункта находилось большее количество монументальных, как представляется, мегаронических построек. От кварталов, населенных подданными, они были отделены особой стеной и перистилем – рядом колонн, изнутри обрамлявших стену. Мощная, опоясывающая весь населенный пункт городская стена за время периода Троя II была обустроена многочисленными башнями и воротами. Среди находок, сделанных в этой Трое раннебронзового периода, следует в первую очередь выделить керамику, имевшую весьма характерные формы, как, например, так называемые depas amphikypellon (остроконечные сосуды с двумя ручками) и амфоры, стенки и крышки которых украшались лицом или бюстом великой Матери Богини. Особого внимания, однако, заслуживают находки сокровищ, доступ к которым открыл Шлиман. Речь идет о кладах, которые закапывали в землю жители Трои II в предчувствии захвата города каким-либо врагом. В этих сокровищницах прежде всего удивляют изделия из золота и серебра, а также сосуды и дорогие украшения, выполненные тончайшей техникой зерни и филиграни. Было также обнаружено каменное оружие, представленное типом «боевых топоров».
Культуре Трои близка культура, обнаруженная в населенных пунктах соседних островов. На Лесбосе располагалось – по крайней мере эпизодически – окруженное стеной поселение Фермос, а на Лемносе – раскопанный итальянцами (в последний раз экспедицией Бернардо Бреа) сильно укрепленный город Полиохни. Примечательно, что в этих городах не найдены резиденции правителей. Важнейшими частями зданий – частных жилищ – были строения, выполненные в виде мегаронов.
Культуры остальной территории Малой Азии соответствовали культуре Трои, но в зависимости от места расположения проявляли свои местные особенности. Важным центром был Бейджусалтан на верхнем Меандре, где найдены храмовые святилища. Среди других предметов культа обнаружены «культовые рога», с которыми мы сталкиваемся также и на Крите. Дальше к востоку турецкими, американскими и английскими экспедициями были раскопаны разнообразные места, причем в Аладжа-Хююк и Хороз-Тепе обнаружили богато убранные царские гробницы. Среди прочего в них нашли превосходно обработанные металлические сосуды и важные в культовых обрядах «штандарты» великолепной ручной работы, выполненные из бронзы. Разумеется, по технике изготовления золотые украшения из Аладжи не идут ни в какое сравнение с изделиями из Трои.
На Крите древняя культурная традиция была продолжена, хотя здесь не обошлось без влияний культур Северной Африки и Передней Азии. В Северной Африке были заимствованы мегалитические круглые гробницы и некоторые типы скульптурной миниатюры, в Передней Азии заимствовали идею изготовления призматических печатей. Из Малой Азии пришел не только металл, но также некоторое количество металлических сосудов, напоминавших формой критские глиняные горшки. Должно быть, переселенцами из Малой Азии были те люди, которые принесли с собой на Крит культовые двойные топоры, «культовые рога» и так называемые kermoi – жертвенные чаши, соединенные между собой особыми стержнями.
Независимо от внешних влияний, на Крите существовала и местная культура, проявившая себя в архитектуре и изготовлении каменных сосудов. Строительное искусство оставалось верным неолитическим традициям, в которых отсутствовали столь любимые на материке мегароны. Однако в изготовлении изящных каменных сосудов местные ремесленники демонстрировали подлинное мастерство. Обнаруженные в царских гробницах восточнокритского Мохлоса сосуды являют собой несравненные шедевры. В тех же гробницах находили также золотые украшения, которые напоминают не столько изделия из Трои или Аладжи, сколько украшения из месопотамского Ура. В круглых гробницах были сделаны богатые находки, прежде всего в южнокритском Месаре, но также и в других частях острова. Что касается построек средних размеров, то они были покрыты кладкой, выполненной в форме купола (толосы). Круглые гробницы большего диаметра, напротив, покрывали деревянными кровлями.
В эпоху ранней бронзы жители Киклад покорили Эгейское море на своих многовесельных судах. Население этих островов стало посредниками между Анатолией и материковой Грецией, разведало оно и пути на запад – в Южную Италию, на Сицилию, Мальту, в Южную Францию и Испанию. Однако они выступали не только как купцы, перевозившие малоазийский металл, но и доставляли в эти страны изделия собственных промыслов. Жители Киклад распространяли по миру мраморные статуэтки обнаженных женских фигурок и мужчин-музыкантов. Такие статуэтки во множестве обнаруживают на островах-некрополях и в погребениях того времени.
Разумеется, в неолитических малых скульптурных формах не чувствуется большого искусства, фигурки выполняли, как на фабрике, большими сериями и партиями. Они находили потребителей и в материковой Греции, и на Крите. Тщательной обработкой отличаются коробки из зеленокаменных пород, украшенные сетью спирального узора. Печати, украшенные спиральным узором, были также впервые найдены на Кикладах. Позже их стали копировать на Крите и даже в восточных районах Малой Азии. Трудолюбие и прилежание жителей островов стало залогом их благосостояния, судить о котором можно по тому факту, что толщина тогдашнего культурного слоя намного превосходит толщину сегодняшнего культурного слоя. Представляется, что под влиянием Киклад находились Аттика, Эвбея и даже временами Крит. Вместе с тем через Крит из Северной Африки были позаимствованы круглые гробницы, однако это было лишь довольно скромное подражание. К сожалению, наши знания о Кикладах не отличаются большой полнотой и явно недостаточны, так как, возможно, расположенные там окруженные стенами города до сих пор еще не раскопаны.
Так же как на Крите и на Кикладах, в материковой Греции в раннеэлладский период существовали многочисленные мелкие городки и резиденции правителей. Один из типов правительственного здания был раскопан в Лерне в Арголиде американским археологом Дж. Каски. Города были опоясаны несколькими рядами стен. Внутри стен находились тесно примыкавшие друг к другу дома, оставлявшие небольшие пространства для тесных улочек. Здесь также можно повсюду обнаружить признаки значительной ремесленной деятельности, особенно в прибрежных городах, как, например, на восточном берегу Аттики, где обрабатывали доставленную из Малой Азии медь.
Другими населенными пунктами городского типа были Афины, Микены, Тиринс и уже упомянутая Лерна; количество деревень было весьма велико, возможно даже, что их было больше, чем в наше время. Представляется, что во всеобщий подъем внесли свой вклад пришельцы, которые в течение раннеэлладского периода переселялись из Малой Азии в Элладу и привносили урбанистическую ноту в господствовавшую там культуру и обычаи. Так же как на Кикладах, здесь можно заметить некоторый регресс в выработке произведений искусства. Развитая в неолите культура мелкой скульптурной формы практически угасла. Гончарное искусство, которое ограничилось подражанием формам металлических сосудов, на долгое время лишилось всякого декоративного орнамента.
На Крите жителями материковой Греции был заимствован мегалитический тип гробниц, в Аттике находят довольно убогие подражания кикладским захоронениям; на Лефкасе, однако, можно видеть круглые гробницы в форме кургана с окруженным стеной основанием, а на городском холме Тиринса были обнаружены окруженные стенами круглые строения, которые скорее надо рассматривать как монументальные гробницы, нежели как резиденцию правителей. Впрочем, и в Лер-не в центре города временами обнаруживают высокие и мощные курганы.
На рубеже тысячелетий, точнее, около 1950 года до н. э., после того как в раннебронзовую эпоху группы индоевропейских племен были вытеснены в Македонию и, возможно также, в материковую Грецию и Малую Азию, в Грецию вторглись другие народы. Большая часть существовавших к тому времени поселений была разрушена, портовые города восточного побережья подверглись уничтожению; раннеэлладскую культуру, насколько позволяет судить археологический материал, постиг насильственный конец. Частые находки боевых топоров говорят о тяжелых сражениях и жестоких грабежах. Разрушения и разграбления удалось избежать лишь немногим городам, как, например, Лерне.
После катастрофы победители и побежденные сумели постепенно объединиться в новый, смешанный народ. Были отчасти отстроены старые поселения, но по преимуществу населенные пункты строились теперь не на побережье, а в глубинных районах. В культурном отношении можно говорить об объединении двух традиций.
Позволительно с достаточной долей уверенности принять, что пришельцы принадлежали к племенам, говорившим на протогреческом языке. Другие ветви этих протогреческих пастушеских племен продолжали пасти овец в горных областях вокруг Олимпа и Пинда, в Эпире, а также отчасти в Македонии. Так произошло разделение этих протогреческих племен. Завоеватели Эллады, став наследниками раннеэлладской культуры, превратились в крестьян и жителей городов, те же, кто осел в горах, продолжали заниматься отгонным скотоводством, выгоняя овец летом на зеленые пастбища на склонах гор.
Несмотря на такой очевидный раскол, эти протогреческие группы были объединены общим индоевропейским происхождением и прародиной, расположенной в Восточной Европе. К традициям, принесенным этими пришельцами в Грецию, относились прежде всего формы экономической жизни и хозяйствования, свойственные доисторической индоевропейской общности, а именно скотоводство с нерегулярными занятиями примитивным и эпизодическим земледелием. Вторгшиеся племена привыкли к беспокойной бродячей жизни, в которой территория не значит ничего, а объединение племен – все. Они жили отцовскими общинами, что являлось правилом для скотоводческих племен. Все эти особенности остались традицией завоевателей и были сохранены и впоследствии, когда они на греческой почве превратились в крестьян и городских жителей и смешались окончательно с местным аграрным населением.
Численность вторгшихся в Элладу племен, должно быть, была очень велика, так как их язык при смешении пришельцев с покоренными местными народами смог устоять в столкновении с местными эгейскими диалектами. Только географические названия населенных пунктов, гор, рек, а также обозначения и наименования автохтонных для Эгейского региона животных и растений, образовав культурный пласт топонимов и обиходных слов, остались в наследство от переработанной материальной и духовной культуры раннеэлладского общества и были заимствованы формирующимся греческим языком.
Минойская культура Крита
Покорение материковой Греции сильными племенами протогреков знаменовало собой лишь одну фазу целого ряда индоевропейских завоеваний. До тех пор историческое лицо этого культурного пространства определяли народы, для которых юг был родиной, – таковы были шумеры, семиты, хамиты, эгейцы и многие другие. После стремительных нашествий индоевропейских орд верховенство и власть в этом пространстве захватили привыкшие к тяжелым условиям жизни чужаки и пришельцы, для которых так характерен был суровый быт и жестокий образ жизни. Своими успехами они были обязаны свирепой воинственности. Поначалу у протогреков, лувийцев и хеттов на вооружении были лишь боевые топоры, тем не менее они покорили Грецию и Малую Азию только своей неустрашимостью, воинской доблестью и неудержимым напором.
В Переднюю Азию вторглись племена юго-восточных, называемых арийцами, индоевропейцев, обладавших более мощным вооружением. Вероятно, на Кавказе они начали заниматься разведением породистых благородных лошадей и заставили своих хурритских подданных делать легкие быстроходные повозки. Превратив их в быстрые боевые колесницы, они получили в руки мощнейшее оружие, позволившее им одолеть своих многочисленных могущественных врагов. Исполненные гордости за свое новое оружие, они привыкли вести рыцарский образ жизни и, ссылаясь на него, считать себя людьми, обладающими особыми, преимущественными правами.
Этим арийским колесничим удалось на исходе XVIII века до н. э. пройти через Армению, захватить Сирию и Месопотамию и на какое-то время подчинить себе хеттов Малой Азии. Во всей области, включавшей в себя Палестину, Сирию и Верхнюю Месопотамию, образовали они арийские феодальные государства, которые подчинялись верховным царям хурритского или митаннийского происхождения. В Вавилоне власть удалось захватить касситам, которые также происходили из арийских родов. В Египте последнюю династию Среднего царства разгромили пришельцы, вторгшиеся сюда из Азии, – гиксосы. Несомненно, что в массе своей это были сыны пустыни семитического происхождения, но и здесь ведущую роль играли аристократы арийского происхождения, сражавшиеся на колесницах. С гиксосами боевая колесница пришла в Египет, и египтяне так высоко оценили роль породистого коня в войне, что даже стали хоронить лошадей в особых могилах.
Только Крит, благодаря своему островному положению, сумел сохранить независимость. Нельзя, конечно, исключить того, что и туда нашло через Малую Азию дорогу некоторое этническое или языковое индоевропейское влияние, но на Крите этот пришлый элемент быстро ассимилировался, и поэтому автохтонные обычаи сохранились на Крите во всем своем исконно-средиземноморском своеобразии и самобытности.
В таком положении, окруженные со всех сторон угрозами нашествия врагов, пришедших в Эгейский регион, народ Крита не удовольствовался тем, чтобы сохранять то, что у него было. Уже около 2100 года до н. э. остров не был больше похож на другие области Греции или Малой Азии. На вызов, брошенный Криту враждебным окружением, он дал замечательный, великолепный и непревзойденный ответ. На острове были созданы дворцы неслыханной красоты, построенные творческим гением критян.
Резиденции правителей существовали и раньше, их начали строить в незапамятные времена, но в сравнении с частными домами прочих людей они выглядели не более чем первые среди равных. То же можно было сказать и о мегаронах правителей Димини или Трои, которые стояли среди домов их подданных. Напротив, дворец по своей архитектуре и по общественному значению был миром в себе и для себя и в своем сановном достоинстве примыкал только к храму.
Второе тысячелетие до нашей эры можно было бы с полным правом назвать эпохой великих дворцов. Мы находим их в Месопотамии и Сирии, в Малой Азии и на Крите. В Египте возводят дворцы для фараонов, а рядом – огромные храмы, которые все должны были рассматривать как дворцы богов и жрецов. Что придавало этим дворцам неповторимое своеобразие и значение? Ясно, что при этом особую роль играла тесная связь царя с богами, обожествление правителя и пребывавшая с ним «милость божья», а также его абсолютная власть над народом, жившим на подчиненной царю территории. Можно, однако, предположить, что в первую очередь в этом имели решающее значение экономические и хозяйственные факторы. Разделение ремесел на множество специальностей ювелиров и других ремесленников, разделение, которое при подъеме и совершенствовании культуры должно было с необходимостью происходить, чем дальше, тем больше усложняло и увеличивало вознаграждение высококвалифицированного труда. Да, уже умели обрабатывать благородные металлы, их умели взвешивать, но в то время еще не научились чеканить монету, то есть не существовало настоящих денег. Всюду господствовал натуральный обмен. Но, например, отнюдь не всегда мог мастер, изготовлявший тончайшие изделия из слоновой кости, обменять сделанные им украшения на яйца или рыбу в процессе такого примитивного рынка и товарообмена.
Таким образом, была настоятельная нужда в каком-то виде централизованного обмена, способного обеспечить согласование производства и спроса. При этом необходимо было сделать это не для отдельных индивидов, а для целых профессиональных групп, с тем чтобы облегчить взаимные расчеты между ними. Очевидно, что эти регулирующие функции еще в третьем тысячелетии до нашей эры взяли на себя дворцы и большие храмы в Месопотамии и Египте, а во втором тысячелетии это сделали дворцы и многие храмы Малой Азии и Сирии, а также дом правителя на Крите. От дворца к дворцу осуществлялась также иногородняя торговля. Отсюда понятно, почему ремесленники с такой охотой селились во дворцах – ведь там они ближе всего находились от источника нужных им товаров, которые они получали в обмен на свою продукцию. Ремесленники не без оснований видели в правителях и придворных своих самых лучших и предпочтительных заказчиков.
Для выполнения такого обмена естественно требовалось вести записи и бухгалтерские книги; вполне вероятно даже, что именно потребность в таких книгах для регистрации торгового обмена привела в известной мере к заимствованию и распространению письменности. Отсюда практически во всех раскопках находят архивы с многочисленными «хозяйственными» текстами, которые являются, по сути, не чем иным, как списками полученных и сбытых товаров. Если мы будем рассматривать эти тексты как свидетельства передачи товаров в процессе меновой торговли, то нам сразу все станет ясно.
Польза, которую подданные извлекали из такой посреднической функции дворцов, была весьма значительной, не говоря о том, что придворные круги, очевидно, никогда не занимались подавлением частного предпринимательства. Польза от дворцов в действительности, однако, была еще более значительной, ибо им по закону предоставлялось преимущественное право покупать. Есть и еще одна вещь, которая позволяет еще лучше пояснить роль дворцов: тесный контакт дворцов второго тысячелетия с городским обществом, как это можно заключить из сохранившихся текстов; дворцы одновременно образовывали коммерческие городские центры.
Если мы представим себе значение такой взаимосвязи, то нам станет ясно, почему на Крите смогла возникнуть и развиться столь высокая и пышная придворная культура, которая при этом смогла не утратить связи с «народом», и почему население не только в столице, но и на всей территории острова участвовало в культурном подъеме.
Первое крупное здание резиденции правителя было найдено в Василики на востоке Крита. Этот дворец относится к середине раннеминойского периода. К исходу этого периода в Кноссе уже, видимо, существовало еще большее по размерам здание правителя, два гипогея (подвальных помещения) которого открыл Эванс. В данном случае мы, возможно, имеем дело либо с гробницей, либо с водоисточником, которые вырубили в скальной породе. К сожалению, эту постройку принесли в жертву другому – выполненному – плану: построить на этом месте первый большой дворец первого среднеминойского периода.
Приблизительно в то же время, когда началось строительство, в области искусства тоже произошли изменения, чреватые значительными последствиями. В то время на близлежащих Кикладских островах уже существовал спиральный орнамент. Этот орнамент вырезали на печатях и на вазах, вырезали этот узор и на стенках каменных шкатулок. В раннеминойском периоде критяне переняли этот орнамент в первую очередь для украшения печатей. С началом эпохи строительства дворцов минойские гончары с рвением принялись применять в своих изделиях этот декоративный мотив. Довольно неожиданно и внезапно в это же время на Крите появляются такие балканские мотивы, как спирали и торсии. Мы не знаем, какое историческое значение можно придать этим явлениям. В любом случае они, в большой мере, пробудили в минойском искусстве новые, никому доселе не ведомые силы. Общественно-политический толчок возвышения царской власти встретился здесь с чисто художественными новациями. В таких благоприятных условиях началась эра минойских дворцов.
Так называемые «древнейшие» здания относятся прежде всего к времени между 2000 и 1700 годами до н. э. Мы находим их в слоях I среднеминойском (вторая половина) и II среднеминойском.
В течение первого среднеминойского периода была расчищена и выровнена вся площадь, занятая Кноссом. На получившейся таким образом ровной плоской поверхности построили ряд задних домов, образовавших обрамление четырехугольного внутреннего двора. Представляется, что поначалу думали о строительстве укрепленных оборонительных сооружений, но потом от этих планов отказались. Упомянутые дома со временем были объединены в единый архитектурный корпус исполинской величины, внутри которого остался большой квадратный внутренний двор. Во дворце находились хранилища, мастерские, помещения для отправления культа, жилые помещения для слуг и свиты и превосходно отделанные и убранные покои с террасными колоннадами для знати. Не забыли строители и о представительских залах для приемов, званых обедов и пиров, но до наших дней, к сожалению, эти помещения нигде не сохранились. Единственные остатки древнейших дворцов, какими мы располагаем в наши дни, – это склады и погреба.
Точно так же, как в Кноссе, обстоят дела и в Фесте. Также и здесь были обнаружены только самые нижние этажи. Последние расположены в трех последовательных слоях, ибо с небольшими промежутками времени, один за другим, стали жертвами землетрясений. После стихийных бедствий развалины не расчищали, просто засыпали их щебнем и строительным мусором и укладывали сверху новый пол. Так каждый раз в подвале нового строения оказывались предыдущие здания, зачастую окруженные стенами высотой больше человеческого роста, внутри которых, наряду с разбитой, но легко восстанавливаемой дворцовой керамикой, находили и многое другое – орудия труда, печати, оттиски и даже немногочисленные письменные памятники. Например, в Фесте в первоначальном здании у главного входа находился «бастион», весьма напоминающий укрепление, но и здесь очень рано отказались от таких оборонительных мероприятий. В остальном здание дворца в Фесте всеми своими основными чертами копировало Кносский дворец. И здесь строения дворца группируются вокруг обширного квадратного центрального двора. Дворец в Маллии тоже был выстроен по подобному плану с внутренним двором и с множеством помещений в главном здании. Правда, надо сказать, что и от этого дворца мало что осталось. На богатство его указывает только царская усыпальница в Хрисолакке, где находили вечный покой представители тогдашнего придворного общества.
Обращает на себя внимание тот факт, что все три дворца устроены по единому образцу. Всюду встречаем мы ориентированный с севера на юг центральный двор, всюду был вымощенный западный двор, позаботились обитатели и о складах с большими сосудами (пифосы), в которых хранили припасы, о местах отправления культа и жилых помещениях, причем покои знатных аристократов были украшены и обставлены пилястрами и колоннами. Доказано также существование многих расположенных друг над другом этажей. При таком умопомрачительном количестве помещений большую роль, несомненно, играла система коридоров и лестниц.
Все три дворца были окружены городскими кварталами, которые, разумеется, раскопаны весьма мало. В прочих местах Центрального и Восточного Крита были найдены многочисленные строения, которые принадлежали мелким городкам или деревням.
Естественно, нам бы хотелось больше знать о политических отношениях эпохи древних дворцов, но, к великому сожалению, развалины их мало чем могут нам помочь. Примечательно, что в западных районах Крита до настоящего времени было сделано лишь небольшое число археологических находок. Отчасти это объясняется ограниченным количеством раскопок в западной части острова. Тем не менее складывается впечатление, что эта часть острова отставала в культурном отношении. Можно сделать правомерное заключение о том, что трем дворцам в центральной части Крита соответствовали три династии. Вероятно, они находились в дружественных отношениях, чем можно объяснить их пренебрежение к строительству укрепленных сооружений. Вероятно, уже тогда династия кносских правителей превосходила две другие и дворец в Кноссе служил примером для зодчих Феста и Маллии. В мелких городах могли находиться резиденции других династий, имевших меньшее значение и, возможно, зависимых от обитавших в дворцах царей. Но мир на Крите сохранялся не только в результате согласия между царями, но в первую очередь благодаря сильному минойскому флоту.
В эпоху ранней бронзы господство на море принадлежало кикладскому флоту. Теперь эта роль перешла к флоту Крита. Мощный экономический рывок острова и богатство его дворцов не в последнюю очередь объясняются этой переменой в жизни «талассократии». Крит взял в свои руки заморскую торговлю, включил в сферу своего влияния мелкие греческие острова и начал посылать купеческие суда в Египет, на Кипр и в Сирию. В стране фараонов и в сирийских гаванях начали торговать критской керамикой. Восточные владыки охотно использовали спиральные декоративные мотивы для украшения своих дворцов, предпочитая критский орнамент египетским скарабеям. В Египет приезжали минойские ремесленники, которые принимали участие в строительстве пирамид. С всемирно-исторической точки зрения весьма значительным представляется тот факт, что эпоха древних дворцов по времени совпадает с эпохой Среднего царства и расцветом египетской культуры.
Приблизительно около 1700 года до н. э. все известные нам дворцы были внезапно разрушены, что знаменовало конец эры древних дворцов. С точки зрения археологии особенно сильное впечатление производят развалины Кносского дворца. Меньше нам известно о Маллии. Согласно расчетам Доро Леви, в Фесте катастрофа случилась, скорее всего, несколько позже. Мы не знаем, разрушились ли дворцы в результате землетрясения, или они были уничтожены враждебными завоевателями, и имеет ли эта катастрофа какую-либо связь с великими вторжениями на территорию Передней Азии.
Новые дворцы, которые были отстроены после происшедшего разрушения древних сооружений, открывают последнюю страницу процветания минойской культуры. Великий труд восстановления вдохнул в художников новые силы. Гениальные мастера совершили прорыв в области изображений фигур и сцен. И снова в первых рядах этих шедевров мы видим Кносский дворец. Эта ступень обозначается в археологии как третий подпериод среднеминойского периода. Меньше известно нам о дворцах Маллии и Феста. Однако в это же время в центре и на востоке Крита процветали более мелкие сельские поселения.
Приблизительно в 1600 году до н. э. Кносс и вообще все северное побережье острова пострадали от сильных разрушений, вызванных мощным землетрясением. В это же время Кносс подвергся вражескому чужеземному разграблению. Вероятно, сейсмические толчки и вызванные ими приливные волны уничтожили сильнейший минойский флот.
Примерно в это же время на материке начинает укрепляться греческое господство. Греки, пусть даже временно, высаживались на Крите и в Египте. Видимо, именно их отряды грабили Кносс. Как бы то ни было, но именно с этого времени в Микенах начинают появляться критские мастера. Вероятно, микенские греки помогали египтянам изгнать из страны гиксосов.
Но Кносс сумел преодолеть и этот удар судьбы: именно теперь минойская культура достигает пика своего прекраснейшего, хотя, правда, и последнего расцвета. Историки обозначают это счастливое время – приблизительно от 1560 до 1450 года до н. э. – как первый подпериод позднеминойского периода.
Мы можем во всех подробностях исследовать дворцы и многие местные центры – резиденции мелких властителей, а также роскошные виллы, так как на этих местах в более поздние времена уже не велось никакого строительства и руины остались в неприкосновенности. Итак, мы можем изучать и представлять себе во всех подробностях эту последнюю ступень минойской архитектуры.
Заново возведенные большие дворцы опять обрамляли обширные квадратные внутренние дворы, которые украшали колоннады, крытые галереи и другие архитектурные детали. Вокруг двора высились несколько этажей настоящего лабиринта из комнат, коридоров, лестниц, вентиляционных колодцев и террас. В подвалах и погребах находились склады, где хранили масло, вино, зерно, бобовые и множество других продуктов. Именно в подвальных этажах располагались также мастерские гончаров, мастеров росписи сосудов, резчиков по камню, резчиков по слоновой кости и мастеров по выделке фаянсовых изделий. Здесь же находились прессы для отжима масла и скрытые святилища грозной и чреватой землетрясениями Великой Богини земли. Верхний этаж выполнял представительские функции, вероятно, здесь были большие залы, которые при разрушении дворца оказались в нижележащих этажах. В верхних этажах, в торцевых частях здания, откуда открывались виды на великолепные ландшафты, вдали от шума мастерских, располагались покои членов царской семьи. Здесь находились красивые спальни, террасы с передвижными стенами, ванные комнаты со всеми доступными в тот период удобствами.
Входы в Кносский дворец проходили по узким улочкам и коридорам между строениями дворца и заканчивались – в большинстве своем – во внутреннем дворе. Так можно было легко контролировать торговлю и обмен. Трибуны, с которых наблюдали за праздничными играми и представлениями, находились в западном дворе. Так же был устроен и дворец в Фесте, где роскошная наружная лестница вела в залы приемов. Сбоку, примыкая к ней, находились трибуны с местами для зрителей. Места располагались амфитеатром, что позволяло всем зрителям без помех наблюдать праздничные игры и ритуалы.
Фресками был богато украшен только Кносский дворец. Стены ведущих к залу приемов коридоров были покрыты красочными изображениями праздничных процессий и церемоний подношения даров. На некоторых стенах сохранились картины с излюбленным сюжетом приручения быка и других религиозных празднеств. Часто встречаются сцены из жизни животных, а также изображения садов и растений.
Снаружи дворец не представлял собой некоего монолитного сооружения. Дворец достраивали и расширяли изнутри кнаружи. Строители и архитекторы старались создавать изящные формы, но при этом обращали внимание только на отдельные детали – например, на определенные ворота, на определенную лестницу. Так на месте строения вместо гармоничного архитектурного ансамбля возник довольно хаотичный конгломерат оказавшихся в случайном соседстве зданий. Вероятно, дворцы можно представить себе как своеобразные «сити», расположенные среди городских построек. Здания буквально примыкали к окружающим домам – их разделяли считаные метры, и никто не думал о том, чтобы убрать с дороги частные строения. Частная собственность уважалась, и почтительному расстоянию ее от царского дворца никто не придавал никакого значения. К западу от дворцовых сооружений, кроме того, находилась обширная вымощенная площадь. Перед окнами владыки, как представляется – во всяком случае, в Кноссе и Фесте, – были насажены сады, за которыми можно было видеть красивые пейзажи.
Властители Феста, впрочем, вряд ли использовали свой обширный дворец для проживания. Для этой цели они предпочитали красивый загородный дом, расположенный в часе пути к западу от дворца, в месте, которое по имени расположенной по соседству маленькой церквушки называется Агиа-Триада (Святая Троица). Обе резиденции расположены на высоких холмах. Из окон открывался великолепный вид на равнину. Из загородной виллы в Триаде можно было, кроме того, видеть просторы открытого моря, а покои овевал свежий морской ветер.
Густонаселенными и обширными были города, прилегавшие к дворцам. В Кноссе дворец был окружен домами знатных людей, к которым дальше примыкали жилища простолюдинов. На окраине города располагались районы захоронений. В Фесте дворец стоял на склоне высокого холма, господствуя над окружающей местностью. У подножия холма в беспорядке теснились жилища горожан. В Маллии дворец был окружен пустырями и частными строениями, гробницы располагались в прибрежных скалах, а гавань – на примыкавшем к ним песчаном пляже.
О том, как строились частные жилища в минойских городах, мы узнали на примере Гурнии, города в восточной части Крита, города, половина которого была раскопана американскими археологами. Кривые улочки петляли между небольшими, но, как правило, двухэтажными домами. По найденным в Кноссе табличкам из фаянса и слоновой кости, на которых изображены эти строения, мы можем составить представление о том, какой была планировка таких городов. В Гурнии в центре была расположена обширная четырехугольная площадь. Правда, здесь не было даже скромного «дворца», который обрамлял бы площадь. Здание дворца образовывало только северную границу площади.
Известны нам и другие, многочисленные населенные пункты того времени – по большей части мелкие городки на востоке острова. При этом дома знатных людей украшали разнообразные фрески. Недавно большое здание того времени было обнаружено в Вафипетроне. Похоже, что речь в данном случае идет о дворце, который по каким-то причинам остался недостроенным и поэтому использовался исключительно в хозяйственных целях.
Нередко обнаруживают на Крите и остатки инженерных сооружений – мостов, канализации и водохранилищ, но нигде не было найдено ни одной крепости или укрепления. Следовательно, жители Крита в первом позднеминойском периоде снова чувствовали себя в безопасности, а весь период был исполнен миром и покоем. Во главе критских династий того времени стояла жреческая монархия. Однако безраздельное господство на море было уже утрачено. Криту пришлось смириться с соседством набиравших силу Микен и прилагать массу усилий, чтобы сохранять с ними приемлемые отношения. Временами отношения между царями Крита и Микен бывали даже дружественными.
Правда, царям Кносса удалось даже восстановить прежние отношения с Египтом. Во время правления царицы Хатшепсут и Тутмоса III, обоих великих властителей восемнадцатой династии, Крит и Египет обменивались послами и взаимными подарками. На стенах гробниц египетских вельмож минойские послы неизменно изображались как «данники», но мы знаем, что речь шла просто об обмене товарами.
Задолго до археологических открытий мы начали пользоваться минойскими собственными именами и минойскими словами, обозначавшими те или иные культурные явления. Эти слова заимствовали у критян еще древние греки. Они называли ванну asaminthos; в греческий язык проникли названия некоторых известных растений, например terebinthas – сосна; hyakinthas – гиацинт или narkissos – нарцисс; имя легендарного правителя Радамант, название Кносского дворца – Лабиринт, а также названия критских городов – Тилисс, Кносс, Ретимн. Суффиксы этих слов указывают на то, что минойский язык принадлежал к группе эгейских языков. Естественно, в лексике критского языка можно различить и некоторые другие компоненты, и прежде всего египетские.
К этим собственным именам и культурным словам в новейшее время присоединились и другие языковые памятники. Как нам стало известно в результате проведенных в последние годы раскопок, на Крите по меньшей мере в эпоху древних дворцов уже была известна письменность. Возможно даже, что ее начало восходит к эпохе ранней бронзы. Послужили ли толчком к изобретению письма египетские влияния или, что более вероятно, малоазийские, нам пока неизвестно. Речь идет о пиктографическом письме, знаки которого первоначально произвольно использовались для обозначения слов (то есть были идеограммами), которые впоследствии постепенно превратились в обозначения слогов – гласных и открытых (то есть сочетания согласной и гласной).
Уже во времена древних дворцов в практическом применении этого письма в документах о торговых сделках и обменах идеограммы стали заменяться «линейными» формами, знаками, иллюстративное и графическое содержание которых было утрачено и которые можно было наносить или вырезать несколькими простыми штрихами. Систему письменности из таких отточенных знаков мы обозначаем как линейное письмо А. Некоторое время пиктографическое письмо сосуществовало на Крите с линейным письмом. Отдельные придворные хозяйства имели свои особенные школы письма, в которых применение пиктографических знаков незначительно отличалось между собой. В то время появились уже штемпельные печати, с помощью которых можно было выдавливать пиктографические значки на мягкой глине. Именно таким, первым в истории человечества, печатным способом был выполнен текст на знаменитом диске из Феста. Предположение о том, что этот замечательный памятник письменности происходит из Малой Азии, не соответствует фактическому положению вещей.
С XVII века до н. э. пиктографическое письмо встречается на Крите все реже и реже, и к XVI веку до н. э. его полностью вытесняет линейное письмо A. В то время как все остальное население Крита осталось верным линейному письму A, в Кноссе – мы не знаем точно, когда именно – была проведена реформа письменности. Основные знаки, и именно те из них, что встречались чаще других, сохранились и, более того, видимо, сохранили и свое фонетическое качество. Однако некоторые знаки были упразднены, и в ряде случаев вместо них были введены новые. Так возникла система письма, которую мы обозначаем как линейное письмо B. Это письмо было потом перенято микенскими греками, а в 1952 году оно было расшифровано Майклом Вентрисом.
Если верно предположение о том, что греки, переняв линейное письмо B, существенно не изменили фонетические значения символов, то можно перебросить мост от фонетических значений греческого линейного письма B к минойскому линейному письму B, а от него к линейному письму A. Чего нам при этом не хватает, так это фонетического значения тех знаков письма A, которых нет в линейном письме B. Правда, в настоящее время Арне Фурумарк пытается с помощью формально-логической обработки исследовать вероятности звучания всех знаков линейного письма A.
К сожалению, мы все равно не в состоянии понять даже прочитанные тексты, так как не владеем минойским языком. Имеющиеся в нашем распоряжении тексты со всей отчетливостью демонстрируют, что между греческим языком, а также между ранней ступенью микенского диалекта греческого языка и минойским языком нет ничего общего.
У некоторых народностей можно наблюдать, что женщина, а в особенности мать, занимает выдающееся место в семье и в общественной жизни. Например, особую важность придают материнскому происхождению и род ведут не от отца, а от матери-родоначальницы. При выборе супруга и в делах наследования женщина сохраняет преимущественное право, а духовный климат в большой степени определяется женскими чувствами и женским вкусом. Материнство и плодовитость накладывают глубокий отпечаток на представления, основываясь на которых формируют понятие о богах.
Там, где в более или менее закрытых общественных системах господствует описанная система отношений, мы говорим о «матриархате» или о «материнском праве». Оба термина неудовлетворительны, однако мы пользуемся ими за неимением лучшего. В любом случае надо отдавать себе ясный отчет в том, что даже в матриархальном обществе господствующее положение занимали, как правило, отнюдь не матери, а цари-мужчины, и речь может идти только о весьма небольшом сдвиге условий общественной жизни в пользу женского главенства. О лишении реальной власти в земных делах мужского элемента не может идти речи. Только среди богов и в мифологии при некоторых обстоятельствах могущество и сила подчеркнуто передаются женщине.
Причины и движущие силы, приведшие к матриархальной организации общества, пока не вполне ясны. В любом случае опыт учит нас, что примитивные земледельческие культуры склонны высоко ценить плодовитость и плодородие, откуда и проистекает почитание женского начала. Это отношение отличается от отношений представителей другой первобытной хозяйственной формы – скотоводов и воинов-пастухов, где на первый план выступали воззрения, обусловленные отцовским правом.
Поскольку Передняя Азия была родиной земледелия, то там в первую очередь и возникло матриархальное мировоззрение. Из-за многочисленных переселений в Переднюю Азию представителей воинственных пастушеских племен культуры Месопотамии, Сирии и Египта во все большей степени начинали воспринимать и перенимать принципы отцовского права. Напротив, Крит воспринял с Востока земледелие, но не столкнулся с иммиграцией пастушеских племен. Именно поэтому там лучше всего и сохранилось материнское право.
К сожалению, мы не располагаем знаниями относительно правовых аспектов жизни минойского общества. Не знаем мы, например, и того, какими правами обладала женщина в вопросах имущественного наследования. Свои выводы мы можем основывать только на сюжетах фресок, рельефов и резьбы по камню. Из этих сюжетов можно заключить, что придворные дамы играли значительную роль в общественных празднествах и церемониях. Мы находим женщину – и никогда мужчин – в среде зрителей на самых лучших местах. Точно так же женщины-жрицы играют первые роли в богослужениях. Почитание женского начала заходит так далеко, что при некоторых сакральных действах мужчины даже переодеваются в женские платья, чтобы стать ближе к Великой Богине. Среди богов на первом месте стояла опять-таки женщина – покровительница и божество земли, материнства и плодородия.
Но что особенно бросается в глаза в минойской дворцовой культуре – это господство женского вкуса. Это видно уже по моде, выставлявшей напоказ женские прелести и требовавшей использования множества украшений. Даже мужчины охотно уступали требованиям моды и увешивали себя цепочками и кольцами, носили дамские прически и щеголяли девически стройными осиными талиями. Даже само лирическое, мечтательное изобразительное искусство минойского Крита развивается в том же направлении. Женским наклонностям соответствует получение радости более от красивых мелких безделушек, нежели от пышных и величественных дворцовых фасадов, любовь к изяществу и изящному и приверженность к играм.
Религиозные воззрения минойских критян определялись в большой степени почитанием плодородия, смены времен года и сил природы в лице землетрясений. Стихийное воплощение Великой Богини проявляется на Крите в различных местных конкретных воплощениях и образах, весьма отличных друг от друга. Именно поэтому такие воплощения носят даже разные имена. Великая Богиня земли выступает под именем Рея, если речь идет о родительнице юного бога; Илифия – когда она стоит у постели роженицы как повитуха; Афина – защитница дворцов и правителей; в определенной пещере ей воздавали почести как Диктинне. Многие другие имена и воплощения канули в реку забвения и остались неизвестны нам.
В самых ранних изображениях богиня предстает перед нами обнаженной, по большей части она стоит, руки опущены вдоль тела или прижаты к груди, фигура отличается стеатопигией и подчеркнутостью вторичных половых признаков. Были также найдены статуэтки сидящей на корточках или рожающей богини. Стоящая богиня с поднятыми руками и обращенными вперед ладонями дарит людям свое благословение. С течением времени скульпторы начали одевать нижнюю часть тела богини в юбку. Потом появилась и блузка, прикрывшая торс, однако грудь при этом все равно остается обнаженной. Головной убор отличался большим разнообразием, часто его украшали змеи или голуби, равно как маки и лилии, но чаще всего это был знак верховной власти – двойной топор (лабрис).
Если мы сравним великое божество Крита с таковым Анатолии, то прежде всего бросается в глаза сходство в том, что божество грозы превосходит силой все другие, что это бог, и только он, но не богиня, носит знак двойного топора. Напротив, Крит вообще не знал бога грозы, здесь во главе пантеона безраздельно стояла Великая Богиня. Несомненно, это обстоятельство связано с постоянными угрозами землетрясений. У Богини земли вымаливали отнюдь не плодородия, а защиты от сейсмических катастроф. В этой же связи можно рассматривать и культ быка.
В земледельческих культурах поклонение быку всегда сочеталось с поклонением Богине земли, и это в полной мере касается культуры Крита. Но здесь речь прежде всего шла об отвращении землетрясений. «Прыжки через быка» могли также быть своеобразным заклятьем против сейсмической опасности. Из представлений о быке достаточно рано ответвилось в Малой Азии, а потом и на Крите представление о бычьих рогах как о символе особой святости. Такие рога устанавливали рядами на крышах минойских домов, чтобы защититься от землетрясений. С особым пристрастием часто устанавливали между рогов и двойной топор.
Особое значение Великой Богини заключалось еще и в том, что она была повелительницей животного царства, не только быка, но и львов, диких коз, а также различных мифических существ. Как Богиня земли, она одновременно была владычицей подземного мира, поэтому мы часто видим ее в окружении змей. Кроме голубей, ее также могли сопровождать сычи. Таким образом, представление о Великой Богине приобретает универсальный, вселенский характер. Перед таким величием отступают на второй план все божества мужского пола.
Не меньшую роль играл в минойской религии культ кустарников и деревьев. Между священными рогами быка часто насаждали кустарники, а жрицы во время культовых действ возлагали к рогам ветки деревьев. В культе мертвых большую роль играли священные деревья. Еще в эллинистическую эпоху на Крите почитали богинь, обитавших в кустарниках или в кронах деревьев.
Древней критской вере в богов был присущ и астральный аспект. В некоторых случаях великую богиню идентифицировали с луной, в то время как ее неизменный спутник бык выступал в данном случае под видом солнца. Возможно, в таких представлениях сыграли известную роль египетские или североафриканские влияния. Даже в греческих мифах угадываем мы старый миф о бракосочетании быка с Европой и Пасифаей. Эллины исказили миф, так как уже не понимали его содержания.
В качестве партнера Богини земли и материнства выступает не только бык, но в гораздо большей степени смертный бог растительности. Каждый год, весной, он становился ее возлюбленным. Летом он умирал, но Богиня земли неизменно рождала на свет нового сына, для которого выбирали кормилиц и друзей по играм, которые забавляли его, пока он не вырастал и в следующем году не становился новым возлюбленным матери-богини. Вариации этого мифа мы находим в Месопотамии, Сирии, Анатолии, а также на Крите. В Египте этот сюжет представлен мифом об Исиде, Осирисе и Горе, хотя там взаимоотношения персонажей несколько иные, так как связаны с разливами Нила.
На Крите рождение младенца и священное бракосочетание отмечалось ежегодными празднествами, в то время как смерть возлюбленного оплакивали во время траурных культовых процессий. В других мифах фигурировало весеннее божество женского пола. Возможно, это божество послужило прообразом Ариадны.
Немалую роль в религиозных фантазиях минойского населения играли сказочные мифические существа. Одно из таких существ было заимствовано из Египта и представляло собой помесь крокодила и бегемота с человеческими руками и ногами. Согласно всем данным, критские жрецы в известных обстоятельствах облекались в соответствующие одежды. Египтяне называли это существо Таурт. Что заставило критян перенять поклонение этому мифическому зверю, остается неизвестным. Примечательно, что культ этого египетского чудовища был заимствован и финикийцами. Еще одним плодом фантазии был человек с головой быка, изображение которого прежде всего можно видеть на критских печатях. На этот случай также могли существовать определенные культовые наряды. Возможно, к этому культу восходит легенда о Минотавре. В виде стража предстает в минойских религиозных фантазиях также гриф, составленный из тела льва, птичьей головы и птичьих когтей, иногда зверь был украшен также и крыльями. Наряду со львом и быком этот мифический зверь являлся символом царской власти. Временами в критском искусстве мы находим «звериные мотивы», картины, на которых изображено, как один зверь нагоняет и разрывает другого. Возможно, эти картины имели какое-то символическое значение, но оно пока остается для нас вполне загадочным и темным.
Представляется, что культовые обряды выполнялись чаще всего в пещерах и на горных вершинах. На пиках гор сооружали небольшие культовые строения; в них находят посвятительные статуэтки и модели мужских членов в большом количестве. В пещерах же находят частью сосуды (с соответствующим содержимым?), частью, однако, также двойные топоры, мечи и другое оружие.
В эпоху дворцов в них самих находились различные культовые сооружения, которые располагались в подвалах, а также и в башенках верхних этажей. Скорее всего, это было местом молитв о защите от землетрясений. На печатях и фресках мы видим только божества, стоящие на неопределенном фоне, нигде не видно специальных зданий для отправления культа. Правда, время от времени археологи находят в развалинах подобные сооружения, встроенные в здания дворцов.
В такого рода часовнях располагались алтари с расставленными на них статуэтками богинь, двойными топорами, культовыми рогами и сосудами, а также посвятительными дарами; богов призывали, трубя в просверленные раковины морских моллюсков. В трубчатых сосудах, покрытых волнообразным орнаментом, держали священных змей. Возможно, существовали и более крупные культовые изображения. Недавно на южном Крите была обнаружена большая глиняная статуя, изображавшая юного бога. Представляется, что известную роль во время принесения жертв играли переносные алтари и каменные столы.
Церемонии и культовые процессии заключались прежде всего в подношении посвятительных даров, цветов и культовых одежд, священного хлеба и жертвенных напитков. В праздничные дни устраивались процессии, а в священных рощах женщины исполняли культовые танцы. В конце весны в ходе особых траурных ритуалов оплакивали кончину бога растительности.
Как особенно выдающийся из минойских обычаев, мы должны подробно рассмотреть «прыжки через быка». Первоначально, как мы уже упоминали, речь при этом шла о заклинании против землетрясений, а сами прыжки представляли собой замаскированные человеческие жертвоприношения. С течением времени стали преобладать моменты артистизма и сенсационности. Юноши и девушки, готовые к этому опасному испытанию, становились перед разъяренным быком и ждали, когда он бросится на них, чтобы в последний момент схватить его за рога и, перекувырнувшись, спрыгнуть позади быка на песок. Успешное выполнение этого рискованного и опасного прыжка, без сомнения, встречалось с большим воодушевлением, хотя похоже, что многие смельчаки платили жизнью за это смелое предприятие. Было и более легкое упражнение с быком – при этом надо было в течение какого-то времени усидеть на спине животного.
Неясным остается ответ на вопрос: всегда ли находилось достаточное количество добровольцев для исполнения этого смертельно опасного прыжка. Возможно, здесь присутствовал элемент принуждения и насилия, если и в более поздние времена прыжок рассматривали как средство против землетрясения, и поэтому он воспринимался как суровая необходимость. Вероятно, Крит, который в те времена господствовал на Эгейском море, требовал от греков, живших на берегах материка, дани в виде юношей, которых затем заставляли прыгать через быка. Возможно, такой обычай существовал во времена древних дворцов или даже в XVII веке до н. э., когда минойский флот беспрепятственно бороздил морские просторы. Отсюда, наверное, ведет свое происхождение легенда о приносимых в жертву юношах, которых требовал от Афин легендарный царь Кносса Минос, отдававший их затем на расправу Минотавру.
Наши знания о минойских погребальных обрядах очень скромны, поэтому нам трудно воссоздать в полной мере представления критян о потустороннем мире и связанном с ним культом мертвых. Вначале мертвых хоронили преимущественно в естественных углублениях. Позже для погребения начали выкапывать искусственные могилы, но при этом уделяли весьма малое внимание отделке помещения гробницы. Одиночные трупы хоронили в больших сосудах или ваннах из глины. Довольно рано, под воздействием североафриканских влияний, вместо ям стали устраивать круглые или купольные захоронения, в которых погребали довольно большое количество мертвецов – членов одной семьи или, временами, жителей одной местности или одного поселения. Маленькие круглые могилы и могилы средних размеров перекрывались внутренним каменным куполом (толосом). Для этого по стенам выкладывали ряды кирпичей, причем каждый следующий ряд укладывали ближе к центру. Особенно крупные захоронения перекрывали деревянными крышами. К круглым или купольным гробницам часто пристраивали четырехугольные помещения, которые первоначально служили культовым целям, а потом стали использоваться как погребальные камеры. Такие гробницы получили широкое распространение в центральной и восточной частях острова.
В погребальном инвентаре частных лиц чаще всего можно встретить глиняную посуду (вероятно, для приема пищи), личные украшения, так же как печати из камня или слоновой кости, кинжалы и ножи, но очень редко в таких могилах находят дорогие вещи. В одной купольной гробнице близ Агиа-Триады были недавно найдены интересные глиняные миниатюры, на которых запечатлены сцены культа мертвых. На этих миниатюрах мы видим хороводный танец, выпечку жертвенного хлеба и замечательно сохранившееся изображение церемонии жертвоприношения, в ходе которого четыре сидящие фигуры (вероятно, божества или давно умершие герои) принимают жертвенный хлеб из рук двух коленопреклоненных мужчин.
Более богатым и разнообразным инвентарем регулярно отличались погребения царей. Так, в захоронении близ Мохлоса были найдены великолепные золотые украшения. То же самое можно сказать и о пышных усыпальницах, устроенных для царей Маллии. До наших дней эти погребения называют не иначе как «хрисолаккос», то есть золотыми могилами. Когда Эванс откопал царскую усыпальницу в Кноссе, выяснилось, что она была разграблена еще в глубокой древности, но тем не менее гробница выделялась своим архитектурным великолепием. Над собственно гробницей, расположенной под землей, был найден верхний, надземный этаж с расположенным в нем храмом, однозначным свидетельством существовавшего в те времена ритуала погребального культа.
К временам, когда минойская культура уже начала приходить в упадок, относится знаменитый саркофаг из Агиа-Триады, на стенах которого были изображены сцены этого культа мертвых: в жертву приносили быка, его кровь посвящали подземному миру; вместе с покойником хоронили и других животных, съестные припасы и даже модели судов, вероятно для пересечения потусторонних водоемов. Все это составляло погребальные жертвы, отправлявшиеся в потусторонний мир вместе с умершим; погребальное пение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. Обряды выполнялись главным образом жрицами; участвовавшие в церемонии мужчины переодевались в женские одежды, иногда, правда, они обряжались в звериные шкуры (под египетским влиянием?). В качестве предмета процессии изображен силуэт вертикально стоящего покойника. Подразумевается ли его труп, мумия или воплощенная кровь быка, вернувшаяся по нашу сторону бытия? Этот вопрос остается без ответа, как и другие, о том, например, везет ли фантастическая упряжка, изображенная на боковой стороне саркофага, только богов, или в этом путешествии принимает участие и душа усопшего. Несмотря на то что картина на саркофаге сильно впечатляет, ее объяснение для нас пока невозможно.
В греческих мифах существуют разнообразные отголоски минойских представлений о потустороннем мире. Так, судьей мертвых и властелином подземного царства считали Радаманта, а после него также Миноса. Радаманта переместили в Элисий, а потом на острова блаженных, что восходит в точности к минойским представлениям.
Минойская религия содержит еще множество не решенных нами проблем. Твердо установлено одно – на Крите религия играла такую большую роль, что сравниться с ним в этом отношении могли немногие культуры. Вся частная и общественная жизнь была буквально пропитана религиозными мыслями и чувствами.
Поскольку на Крите существовала абсолютно не воинственная культура, все культурные усилия были направлены на мирные цели. Важнейшей предпосылкой к этому служило процветание экономики. Крит мог похвастать упорядоченным сельским хозяйством, имел в своем распоряжении большое поголовье скота, плоды развитого садоводства. На острове производили и экспортировали вино, масло, духи, вывозили в Египет древесину. Однако важнейшей статьей минойского вывоза служили художественные изделия. Для этого, естественно, приходилось ввозить в больших количествах нужное для их изготовления золото и слоновую кость, при этом египетские изделия по своему ювелирному изяществу и красоте инкрустаций также служили неподражаемым образцом. Но Крит превосходил весь остальной мир оригинальностью и качеством сосудов из керамики и фаянса, стеатита и благородных металлов, красотой статуэток животных и резьбой по дереву, мастерством глиптики, геммами и печатями, а также производством длинных мечей с роскошно украшенными рукоятками.
Этими промыслами занимались отчасти во дворцах, отчасти в частных мастерских. Обмен товарами происходил во дворцах, бывших центрами меновой торговли, при этом ремесленники не испытывали никакого давления и принуждения со стороны дворцовой администрации. Небольшие предприятия преуспевали и в провинциях, хороший доход приносила рыбная ловля, добыча пурпурной крошки и губки, а также производство тканей и красителей, давильни масла и производство парфюмерных изделий.
Ошибочным представляется часто высказываемое мнение о том, что по своему техническому развитию Крит отставал от Микен. В действительности именно минойские ремесленники были законодателями подлинных технических новаций. В Эгейском регионе именно они первыми построили водопровод и водохранилище, устроили во дворцах туалеты, ванные и канализацию, они были большими мастерами в строительстве дорог и мостов. Их оснащенные парусами и веслами суда были лучшими кораблями своего времени. Они первыми в строительстве освоили выносную каменную кладку, как концентрическую, так и линейную, и, кроме того, даже использовали свое знание закона сообщающихся сосудов в устройстве фонтанов. Отстали критяне только в строительстве крепостей и укреплений, поскольку считали, что им не нужны фортификационные сооружения.
Однако насколько минойская культура преуспела в своих усилиях в экономике и технике, настолько же малых успехов удалось добиться ей в некоторых других отношениях. Вину за это нужно возложить на присущее этой культуре ограничение, или, лучше сказать, самоограничение. Критяне были слишком вялыми и небрежными работниками, пугались пребывания на чужбине. Только на своем острове чувствовали они себя счастливыми, им не хватало пионерского духа и тяги в неведомое. Минойской международной торговле не хватало порыва, напора, а минойская талассократия так и не привела к созданию морской империи. Их технические интересы ограничивались и исчерпывались тем, что лежало на поверхности, они пренебрегали терпеливыми, требовавшими самоотречения исследованиями и изысканиями, которые нуждались в длительном и тяжком труде. Человек минойской культуры отличался общительностью, получал большое удовольствие и радость от сутолоки, зрелищ и празднеств. В частных развлечениях он предпочитал настольные игры и игру в кости. Таким образом, можно сказать, что критянин был склонен к игре и не отличался волей и стойкостью в достижении отдаленных целей; именно поэтому в реальности в жизнь воплощались лишь немногие перспективные проекты.
Никакое художественное мастерство, никакая утонченность, никакое изящество не смогло бы придать критским изделиям такую привлекательность, не будь эти изделия порождением собственно минойской творческой идеи. Другими словами, если бы Крит удовлетворился усвоением преимущественно культурных заимствований из-за границы, то творения критских мастеров вряд ли отличались бы большей оригинальностью, чем, к примеру, финикийские или этрусские. В ранний период развития критской цивилизации острову не хватало собственных культурных импульсов. В те времена Крит был подвержен влияниям со стороны Северной Африки, Передней Азии, Анатолии, Греции и Балканского полуострова, ограничиваясь созданием комбинаций из заимствований. Однако с момента создания древних дворцов на острове пробудились собственные изобразительные силы. В новом духовном климате восторжествовало своеобразие специфически критского художественного ремесла, весьма стихийного, элементарного собственного искусства.
Толчком к этому развитию ни в малой степени нельзя считать заимствование спирали и завитков на Кикладах и Балканском полуострове. То, что на Крите сделали с этими заимствованиями, стало собственным искусством, проникнутым идеей движения, искусством его изображения. Все грядущие минойские творения были созданы под знаком этой идеи.
Во времена древнейших дворцов господствовали криволинейные украшения, представляющие особый интерес. Этот криволинейный орнамент использовали для украшения тканей, образцы которых были покрыты бесконечно повторяющимся раппортом. Однако на первый план своей красотой выдвинулись керамические изделия. Декоративные элементы покрывали по окружности стенки сосудов, на них наносили подлинные планетные системы, состоявшие из кругов, эллипсов, спиралей, завитков и противозавитков, которые направлялись наружу, внутрь и комбинировались в немыслимых поворотах. Никогда позже не видел мир такого богатства, подобного орнаментального разнообразия, усиленного таким же гармоничным сочетанием множества взаимодействующих цветов, создавшим неповторимую цветовую гамму.
Ко времени древнейших дворцов центр тяжести художественного творчества переместился на орнаментальные концепции. При этом орнаментальные картины создавали впечатление буйного и пышного цветения, ибо все эти спирали и завитки изображали ветви и листья растений; критские орнаменты того времени пленяют сочетанием принципов геометрических и растительных мотивов.
При этом об изображении фигур мастера заботились лишь попутно. В те времена фресковая живопись была еще не развита. Поскольку в то время отстало и гончарное ремесло, то существовали только статуэтки богов, молящихся людей и животных. Все эти изделия служили культовым посвящениям, кроме того, для этого же выполняли резьбу по камню. Только здесь, в глиптике, сценическое искусство выходит на простор художественного воображения. Мы видим старика, сидящего под пальмой за игровой доской, ссорящихся женщин или жаждущего человека, пьющего воду из сосуда. Здесь мы видим по преимуществу изображения животных, которых показывали в движении, в стремительном беге или в прыжках. Видим мы львов, быков, диких коз, грифов и сражающихся зверей. О значении мореплавания говорят многочисленные изображения кораблей. Наряду с этим мастера не забывали и об орнаментах, спиралях, завитках, розетках и звездочках. Встречаем мы и печати, хотя и редко, на которых пиктографическим слоговым письмом нанесено имя владельца. Исключительно редко на расписных вазах мы видим фриз, украшенный изображениями рыб, деревьев, или фигуры богини, вокруг которой танцуют жрицы. Однако эти попытки портретной и фигурной живописи все же остаются пока слишком вычурными и орнаментальными.
Когда после природной катастрофы были заново отстроены дворцы и наступила «новая эра», изменившаяся ситуация придала минойскому искусству новый импульс. На первый план выступило искусство изображения фигур. Имена скульпторов нам неизвестны, но их творения убеждают нас в том, что это были гениальные мастера. Они создавали фигурные фрески и рельефные изображения на стеатитовых чашах. Однако наивысшего расцвета их искусство достигло в малых формах, а именно в резьбе по камню (в глиптике).
Большим богатством отличается исполнение мотивов и сцен. Мы находим миниатюрные фрески с изображениями больших собраний, празднеств и танцев; коридоры, ведущие в тронные залы, украшались монументальными изображениями процессий, несущих дары; резная стеатитовая чаша позволяет нам пережить участие в процессии по случаю праздника сбора урожая. Часто встречаются излюбленные изображения прыжков через быка, а также состязаний борцов и кулачных бойцов. Очень редки картины боев с применением оружия, серьезных схваток. Такие изображения встречаются только на печатях, где они исполнены динамизма и красоты форм.
Весьма многочисленны сцены с культовым содержанием – принесением жертв и молитвами. На геммах эти мотивы часто сочетаются с темой благословения божественного младенца. На печатях иногда можно видеть сцену оплакивания умершего весеннего бога, возложение священных деревьев и ветвей, принесение в жертву быка, камлания жрецов Таурта. Фрагмент недавно найденной стеатитовой чаши изображает принесение хлебных даров высшему божеству.
Находим мы и изображения божеств, но только на цилиндрических печатях и в виде статуэток, их никогда не изображали на фресках или на стеатитовых чашах. Найденные в развалинах Кносского дворца фаянсовые статуэтки богинь змей снискали вполне заслуженную известность. На печатях мы видим стоящую на вершине горы Великую Богиню в окружении львов и других животных, с двойным топором в руке; иногда ее изображали сидящей под священным деревом или на ступенях ее святилища. Иногда встречаются изображения юного бога, как правило в сопровождении животных. Что же касается скульптуры крупных форм, то она не столь уж невероятна, как полагают некоторые исследователи.
Что касается отображения сферы человеческих отношений, отличных от культовых сцен, то археологи находят изображения беседующих дам, развлекающихся принцев, офицеров, командующих солдатами. Особенно излюбленным мотивом фресок были все же садовые сцены. Едва ли в какую-то иную эпоху человеку с таким искусством удавалось воспроизвести очарование цветов и растений, ветвей и кустарников, освещенных солнцем и шевелящихся на ветру, так искусно вплести в сюжеты сказочное настроение. Здесь кошки продираются сквозь мелкий кустарник, подстерегая невиданную райскую птицу, здесь бродят обезьяны по светлым цветочным полянам; здесь видим мы куропаток и водоплавающих птиц, мелькающих за прибрежными кустами.
Заслуживает, однако, внимания одна примитивная черта этого искусства: в минойском искусстве нет перспективы; неоднократно отмечалось отсутствие центрального плана, а также во многих случаях отсутствует базисная линия. Фигуры людей, как правило, изображаются в профиль, но глаза при этом выглядят так, словно на них смотрят спереди. Окружающий пейзаж с его скалами, кустарниками, цветами выглядит обычно так, словно на него смотрят сверху, при этом изображенная сцена со всех сторон, даже с той, которую мы воспринимаем как бы сверху, тоже кажется окруженной предметами пейзажа. Подобные черты мы находим, между прочим, пусть даже и не в такой грубой форме, в египетском искусстве.
Современного зрителя минойское искусство фрески пленяет своей цветовой гаммой. Натуралистическое свободно сочетается в них с фантастическим. При изображении растений и цветов художники используют их натуральную окраску. Все мужчины выкрашены в красный цвет, а женщины в более светлый (как это было принято у египтян). Обезьяны окрашены в синий цвет, как, впрочем, некоторые деревья и птицы. Задний план окрашен не только в желтый, красный или синий цвет; часто встречается сочетание всех трех цветов, которые составляют при этом волнистый многослойный фон.
В целом своими линиями, цветовой гаммой и сценической композицией минойское искусство являет нам неповторимую красоту. Нас пленяют и очаровывают внутреннее напряжение картин, их плотное построение. Это искусство ускользает в мир грез, представляет фантастическое, но от этого становится лишь еще более реалистическим и действенным.
Микенская Греция
После вторжения говорящих по-гречески завоевателей в раннеэлладское культурное пространство Эллады началось сближение и смешение обоих элементов, победителей и побежденных. Так образовался новый народ, которому удалось выровнять и привести к одному знаменателю религиозные воззрения и другие культурные традиции; покоренные племена переняли греческий язык, а завоеватели восприняли земледельческий или городской образ жизни. Лишь те племена пришельцев, которые не дошли до региона раннеэлладской культуры, остались в стороне от этого процесса. Они остались «протогреками» и сохранили свои варварские обычаи и образ жизни.
Консолидация населения исходного раннеэлладского региона продолжалась приблизительно с 1950 по 1700 год до н. э. и отняла у народа много сил, потребовав их полного напряжения. Поэтому возникающая в этот период среднеэлладская культура оставляет после себя весьма скромный и незаметный отпечаток. Заново отстраиваются старые населенные пункты, сохранившие при этом свои прежние названия. Тем не менее прослеживается отчетливая тенденция переноса культурных и административных центров с побережья во внутренние районы. В домах-мегаронах обосновались мелкие царьки отдельных государств, и некоторые резиденции были обнесены прочными стенами. Объем торговли с Критом сократился, но нельзя исключить, что отдельные греческие местности находились по отношению к царям Кносса в положении данников, например отправляя им юношей и девушек для игр с быками. Нет никакого сомнения в том, что в то время в южной части Эгейского моря безраздельно господствовал минойский флот. Более тесными были связи греков с Халкидикой и Малой Азией. Благодаря анатолийскому влиянию в Греции появилась новая форма изготовления сосудов, известная как минойская керамика. Цветные росписи гончарных изделий часто повторяют узоры, характерные для анатолийских тканей.
В религиозном отношении, при соединении обоих компонентов, индоевропейцы привнесли в культ почитание девственности. Так, Афина, эгейская покровительница дворцов и всех нововведений, стала девой. То же самое можно сказать и об Артемиде, повелительнице животного царства, которая, утратив некоторые свои функции, как, например, в Эфесе, осталась богиней плодородия. Индоевропейский бог света Зевс принял на себя функции различных эгейских верховных божеств. Выступавший в образе коня индоевропейский бог мертвых, превратившись в Посейдона, сочетался браком с эгейской богиней земли, и эта пара стала богами подземного царства. Эгейского бога растительности стали почитать на Пелопоннесе под именем Гиацинта. Был заимствован и культ Эйлифии, богине земли Да добавили индоевропейское слово «матер», так получилось имя Даматер, то есть Деметра.
Как бы то ни было, объединение культур оказалось благотворным для обоих этнических элементов. Эта новая Греция после консолидации и накопления достаточных сил могла играть значительную роль в Эгейском регионе.
Катастрофы, которые около 1700 года до н. э. привели к разрушению древних критских дворцов, не остались без неблагоприятных последствий для престижа минойской державы. Хотя резиденции правителей были выстроены заново, мы тем не менее знаем, что на материке во всех отношениях росла уверенность в своих силах; росло и материальное благосостояние материковой Греции. Все чаще в этих местах стали отказываться от устройства простых, прикрытых лишь скромными каменными плитами могил, в которых поодиночке хоронили покойников, практически ничего не укладывая с ними в гробницу. На месте варварских захоронений, в которых покойники лежали в «эмбриональной позе», появились выложенные камнями шахтовые усыпальницы, где тела укладывали в вытянутом во весь рост положении, причем в этих могилах хоронили многих членов одной семьи. В то время как до тех пор отдельных покойников укладывали в большие глиняные сосуды, чтобы затем похоронить их в каком-то месте общего кургана, то теперь – прежде всего в Мессении – в таких курганах появились отдельные маленькие купольные гробницы.
Впечатляющее сооружение было недавно открыто Пападимитриу в Микенах. Это сооружение представляет собой каменный круг, внутри которого находятся в большом количестве шахтовые гробницы. Над каждой гробницей насыпан небольшой курган; на некоторых курганах установлены стелы с рельефными орнаментами или сценами охоты. Покойники лежали на дне шахт, большинство вытянуто во весь рост. Порой в одной шахте похоронено несколько мертвецов. У одного из усопших лицо было прикрыто маской из электрона. Эти могилы не были разграблены и демонстрируют значительное, но ни в коем случае не чрезмерное богатство, если судить по предметам, уложенным в захоронения. Каждый мужчина, поскольку речь идет о царских воинах, был похоронен с золотой чашей для питья, с мечом и кинжалом, украшенными золотом. Кроме того, были найдены украшенные золотом колчаны для стрел и большое количество глиняных сосудов, в которых, скорее всего, находились съестные припасы, парфюмерные принадлежности и прочие вещи. В могилы женщин укладывали их украшения и ряд ваз. Из росписей на сосудах мы узнаем, что эти погребения относятся к концу среднеэлладского периода, приблизительно к 1650 году до н. э., поскольку сосуды матовые, а натуралистические изображения растений говорят, что это подражание критским вазам. Только небольшое число захоронений относилось к более поздней, микенской эпохе. Но даже по этим среднеэлладским захоронениям мы можем сказать, что даже в то время происходило быстрое усиление власти микенских царей.
Приблизительно к 1600 году до н. э. морское владычество Крита в Эгейском регионе сильно пошатнулось. Возможно, это было связано с землетрясением, которое в те годы разрушило Кносский дворец. Вероятно, это землетрясение стало причиной мощной приливной волны, которая и уничтожила стоявший в гаванях минойский флот. Достоверно известно лишь то, что после этого Кносс подвергся нескольким грабительским нападениям.
Что касается материка, то этот период предстает перед нами как время внезапного, невероятного обогащения Микен. Об этом свидетельствуют последние шахтовые захоронения, открытые в недавнее время, и еще больше те шахтовые гробницы, которые были откопаны еще Генрихом Шлиманом в 1876 году. Из материалов этих гробниц нам стало известно, что теперь критские мастера были вынуждены выделывать предметы искусства по заказу и желанию микенских владык. В могилах обнаружено огромное количество роскошно украшенного оружия, многочисленные золотые печати со сценами охоты и сражений, а также маленькая печать с портретным изображением, выполненная с удивительным изяществом. На печати вытиснена голова властителя. Встречаются в захоронениях также и предметы критского происхождения, кроме того, множество несколько более грубых золотых украшений и бесчисленное множество маленьких золотых пластинок со спиральным узором, которые, вероятно, служили средством счета.
Эти могилы указывают также и на походы микенских царей в Египет, откуда в эту эпоху были изгнаны гиксосы, и представляется вполне вероятным, что в этих битвах принимали участие вспомогательные греческие отряды. Вероятно, благодаря египетскому примеру гробницы теперь стали украшать с небывалой доселе пышностью. Находили в могилах отделанные золотом страусовые яйца. Один из покойников оказался даже мумифицированным. Но самым главным заимствованием было новое средство ведения войны – боевая колесница, которая проникла в Микены из Египта.
Сами египтяне заимствовали колесницу у гиксосов и успешно использовали ее для изгнания этих завоевателей. Так как микенские греки вмешались в эту войну, то и они научились управлять колесницами и разводить чистокровных лошадей. С истинной страстью отдавались они состязаниям в искусстве управления двухколесными повозками. Греки не стали всадниками, они превратились в возничих и стрелков, воюющих на боевых повозках. Как настоящие поклонники спортивных состязаний и воинственные стрелки, колесничие не только образовали особый класс, который решал исходы битв, но и стали господами, которым нужны были оруженосцы и слуги, осуществлявшие уход за лошадьми и уборку конюшен. Вскоре у колесничих возник собственный кастовый дух. Колесничие заявляли немалые общественные претензии, короче, они образовали новое феодальное сословие.
Ведущими лицами в использовании нового оружия и задающими тон нового образа жизни стали сами цари. Поэтому они повелевали изображать себя на стелах, обнаруженных на шахтовых гробницах, открытых Шлиманом, в виде колесничих, отсюда сцены с участием царей в охоте с колесниц, изображенные на золотых кольцах. Сообразно с этим из захоронений исчезли стелы, на которых были изображены пешие охотники. В битве царю требовалось отнюдь не малое число колесниц, нужны были крупные их соединения; требовалась огромная свита. По этой причине были созданы многочисленные отряды колесничих, которые – как в Средние века министериалы своему князю – предоставляли себя в распоряжение царя. Представляется, что так же, как в Средние века, и так же, как во всех рыцарских обществах, в Греции уже в те времена появилось ленное право.
Однако не умирали и старые традиции. Покойники, как и в старые времена, лежали в шахтовых гробницах на галечном полу, наряду с керамикой заимствованного на Крите образца, украшенной спиралями, двойными топорами и растительным узором по лакированной поверхности, употребляли и старую среднеэлладскую утварь, а некоторые украшения выполнены в старых традициях, то есть весьма скромно и неброско. В открытых Шлиманом гробницах обнаруживаются золотые маски, такие же маски увенчивали упомянутые стелы. Спиральный узор этих стел мало чем отличался от узоров старых шахтовых гробниц. Новостью были только изображения боевых колесниц. В одежде и уходе за бородами мужчины оставались верны среднеэлладским традициям, хотя женщины ревностно следовали минойской моде. В архитектуре, культе и придворных обычаях многое было заимствовано у Крита, прежде всего это касается технических новшеств в канализации, строительстве дорог и мостов. Напротив, образ мыслей оставался среднеэлладским, так как тронный зал царя по-прежнему должен был представлять собой обычный, традиционный мегарон.
Так, на наших глазах, около 1600 года до н. э., возникает новая смешанная культура, в которой объединяются унаследованные от среднеэлладского периода обычаи, заимствованная с Востока боевая колесница и культурное достояние минойской эпохи. Носителями этой культуры считаются только греки среднеэлладского периода. Переход в новую, рыцарскую эру был плавным. Не было и речи о сломе традиций или о каких-то иноземных вторжениях. Археологический материал не дает оснований говорить о новом вторжении греческих племен в 1600 году до н. э., не говоря уже о 1950 годе до н. э. О каком-то мощном проникновении извне каких-либо чуждых обычаев около 1600 года до н. э. тоже не может быть и речи.
Мы привыкли к тому, что новое общество обозначают термином «микенская культура»; и действительно, представляется, что царская резиденция в Микенах уже во время своего основания играла ведущую роль. Только здесь находим мы невиданное богатство захоронений, которое можно объяснить только заморскими путешествиями, грабительскими походами на Крит, а пышность захоронений – подражанием роскоши египетских усыпальниц. Только там появляются минойские мастера глиптики и золотых дел мастера. Только в Микенах находим мы свидетельства применения боевых колесниц.
Новая цивилизация необычайно быстро распространилась и в другие центры Греции, прежде всего в Мессению, где, вероятно под влиянием близко расположенного Крита, появляется точно такая же лаковая керамика. Правда, в Мессении не строили шахтных гробниц, но, возможно, под вдохновляющим воздействием критских образцов начали устраивать более крупные купольные захоронения. Одну такую купольную гробницу исполинских размеров откопали в 1960 году на границе Мессении и Элиды. В кучах строительного мусора в дромосе были обнаружены черепки только среднеэлладских и раннемикенских горшков. Запад Пелопоннеса в то время вообще, как кажется, переживал время небывалого культурного расцвета. Также и во внутренних частях полуострова население вскоре познакомилось с новым феодальным придворным укладом и приступило к строительству купольных гробниц. Даже в самих Микенах вскоре восприняли такую форму и отказались от устройства шахтных гробниц. Слуг из свиты теперь везде хоронили в камерных могилах с длинными входами и тщательно обработанными дверями; эти могилы не обкладывали камнем, но – вероятно, по египетскому образцу – вырубали в скалах.
Микенский феодальный и княжеский стиль распространился также на Центральную Грецию и Фессалию. Одним из важнейших мест такого рода является Иолк. Повсюду следы среднеэлладской культуры вытеснялись образцами микенской цивилизации. На плоскогорьях, правда, микенская керамика появляется довольно поздно.
Мы обозначаем этот период распространения микенской культуры, шахтовых гробниц и первых образцов купольных захоронений как раннемикенский. Он продолжался приблизительно от 1580 до 1480 года до н. э. На Крите в это время Кносс преодолел последствия катастрофы и его дворец переживал время своего последнего величия. Между минойскими и микенскими царями могли существовать дружественные отношения, вероятно, имели место и взаимные династические браки. И Крит, и Микены предпринимали морские путешествия, активно поощряли мореплавание. Однако, имея опорные пункты в южной части Эгейского моря, а также господствуя в торговле с Египтом, Крит пока опережал Микены.
Последняя фаза эпохи кносских дворцов продолжалась приблизительно с 1470 по 1400 год до н. э. Ее обозначают как II позднеминойскую и относят приблизительно к тому же времени, когда существовала среднемикенская эра материковой Греции (ок. 1480–1400 до н. э.). Принято думать, что архитектура последнего кносского дворца проявляет в своем стиле удивительную и замечательную в своем роде закостенелость. Это бросается в глаза при взгляде на так называемую дворцовую керамику, а также на грифовые фрески конского тронного зала. Но специалисты уже давно заметили, что эта дворцовая керамика отличается таким же исполнением, какое присуще повсеместно обнаруживаемым образцам материковой Греции, однако в других частях Крита такая керамика отсутствует. Очевидно, что Кносс заимствовал стиль уже не на острове, а в области распространения микенской культуры.
На материке все царские резиденции в то время переживали время наивысшего и полного расцвета. Это относится как к Микенам, так и к их близ расположенным вассальным владениям, так же как и к династиям Лаконии и Западного Пелопоннеса. В Аттике в это время существовало множество мелких царств, в Беотии большие дворцы в Фивах и Орхомене, в Фессалии – Иолк и Нелея. В районе Микен начали производить великолепную эфирейскую керамику. Даже Кносс, правда без особого успеха, пытался подражать этой керамике. Вне всяких сомнений, можно, таким образом, утверждать, что материк уже занял ведущие позиции и стал служить образцом и примером для подражания также и для Кносса.
С этим согласуется и тот факт, что в последние годы близ Кносса был обнаружен ряд захоронений микенских воинов. Уже сам тип расположения помещений гробниц в скале указывает на материковое наследие; о том же говорит и вооружение – шлем, меч, копье и кинжал, а также золотая чаша, как погребальная утварь. Наверняка погребенные там воины занимали высокое положение, к тому же их снаряжение вполне соответствовало вкусу, с которым их изображали на статичных фресках того времени. Нам неизвестно, шла ли речь о микенских воинах, бывших обыкновенными наемниками, или уже пробившихся в высший слой властителей. Вероятно, предводители наемников в Кноссе добились власти, как позже сделали это норманнские князья в Нижней Италии, или греческие князья восходили на трон после удачных браков, как это делали Гогенштауфены в Сицилии. Как бы то ни было, сражения и разрушения, связанные с переделом власти, вряд ли были менее жестокими и кровавыми в греческую эпоху, нежели в Средние века.
В конце этого периода мы отчетливо видим в Кноссе греческих властителей и греческие бухгалтерские книги. Из Кносса новые владыки распространили свою власть и на весь остров. Дворцы Феста и Маллии, так же как вилла в Агиа-Триаде, перестали быть резиденциями. Исходно минойские опорные пункты – такие как Мелос, Тера, Иалис и Родос, Кос и Милет – также перешли в руки греков. В Кноссе около 1400 года до н. э. было новое землетрясение, которое разрушило – на этот раз окончательно – древний дворец.
Кносский дворец так и не восстановили, вероятно, не в последнюю очередь потому, что цари Микен не были расположены снова заполучить сильного соперника. На остров начали проникать все новые и новые греческие переселенцы, которые оседали в основном в западной части Крита, хотя селились они также и в районе Кносса и Агиа-Триады. Но дворцовая культура погибла навсегда. Пришельцы так и остались колонистами с рациональным колонистским менталитетом.
В материковой Греции тем временем резиденция царя в позднемикенский период (1400–1200 до н. э.) стала приобретать все более ведущее значение. Вокруг городского акрополя была воздвигнута монументальная каменная стена. После грандиозного расширения укрепления переместились также открытые Шлиманом шахтовые захоронения. Над старыми могилами были насыпаны большие холмы, на которых воздвигли благородные стелы. Это памятное место было отделено от окружающего ландшафта так называемым кольцом плит. Вход в крепость и в плитовое кольцо вел через Львиные ворота. На вершине акрополя расположился государственный дворец с просторным мегароном. На склонах холма были выстроены многочисленные дома воинов и жрецов. За пределами каменных стен в разбросанных группах домов жили прежде всего купцы. Здесь тоже имеют место многочисленные купольные гробницы, большинство которых погребено под высокими земляными курганами. Самый большой из них был позже назван «сокровищницей Атрея». Курган купольной гробницы, неверно названной могилой Клитемнестры, покрыл участок прежде расположенных здесь шахтовых гробниц. Погребенные там покойники отличались своим почетным положением от «обитателей» других шахтовых гробниц. Членов свиты хоронили в камерах, вырубленных в скалах.
Вторая княжеская резиденция, принадлежавшая, как представляется несомненным, той же микенской династии, была выстроена в Тиринсе. Там была расположена гавань и большой город. Предположительно правитель Микен проводил в этой резиденции зиму. Так же как в Микенах, дворец был превращен в мощную неприступную крепость, отстроенную по всем правилам тогдашнего фортификационного искусства. Центр дворца тоже представлял собой большой мегарон, открывавшийся на обширный внутренний двор.
Рядом, в Арголиде, в более мелких городах и крепостях правили династии вассальных князей, то же самое касается Просимны, Бербати, Мидеи, Асины и Лариссы. Вблизи некоторых из этих крепостей были открыты купольные гробницы. В одной из могил недавно был найден покойник в полном вооружении – с шлемом, панцирем, поножами, мечом, кинжалом и копьем. Признаки выдающейся военной силы, которая предстает нашему взору в Арголиде, позволяют предположить, что цари Микен господствовали не только в этом районе, но и распространили свою гегемонию на другие части Пелопоннеса, а возможно, и на всю Грецию.
На Пелопоннесе стояли еще два больших дворца. Один располагался в Лаконии и пока еще не найден, другой был обнаружен американской экспедицией близ Ано-Энглианос, мифического Пилоса. Владетелям Пилоса подчинялся также целый ряд вассальных княжеств, резиденции которых были откопаны в последние годы. Со среднемикенского периода в Аттике на первый план все больше и больше выдвигаются Афины; в Беотии сравнительно рано был разрушен дворец в Фивах, в Фессалии господствовали Иолк и Нелея, но там в это время известного влияния стали добиваться и другие княжества.
Большое историческое значение имеют также завоевательные походы, которые микенские князья и воины совершали в заморские страны. Отчасти под водительством Микен, отчасти на свой страх и риск герои устремлялись на своих кораблях в неизведанную даль, основывали укрепленные города, становились торговцами, наемными воинами, сражаясь на боевых колесницах, или просто занимались пиратством и сухопутным разбоем.
Так, в 1960 году на побережье Эпира был открыт микенский город с купольными гробницами. Другие микенские поселения обнаружены в районе нижнеиталийского Тарента, в Восточной Сицилии, на Липарских островах и в Искии. Греческие мореплаватели освоили также и остров Мальта. Важнейшими рынками сбыта микенского масла, которое разливали в так называемые сосуды с ручками, в Восточном Средиземноморье стали Египет, Палестина и Сирия. На Кипре поселились многочисленные микенские купцы и ремесленники. Они вырабатывали там микенскую керамику, чем составили мощную конкуренцию производителям метрополии.
На полуострове Кирена микенские воины в некоторых случаях играли роль колесничих. Они организовали отряд колесниц, который на стороне ливийских царей участвовал в походах против Египта. И когда в хеттских клинописных текстах упоминается о людях и царях Ахийявы, то возможно, что имеются в виду микенские воины и князья, которые сами себя именовали ахейцами. Письма хеттского царя «повелителю Ахийявы», возможно, были адресованы не кому иному, как правителю Микен.
Но не только в Сирии и на южном побережье Малой Азии, но и на западе Малой Азии сталкивались интересы Микен с интересами великого Хеттского царства. Можно даже говорить о совместном владении Микенами и Хеттским царством в Милете (в хеттских документах Милавата). Немецкими археологами в тех местах был обнаружен микенский город, окруженный сильными укреплениями.
Естественно, возникли микенские населенные пункты и на различных островах Эгейского моря; правда, до сего времени был открыт только один микенский дворец – на острове Мелос. Микенскую керамику находят всюду – на Халкидике, во всей Македонии и до западных гор. Напротив, в районе Мраморного моря и в Причерноморье до сих пор не было найдено несомненных следов микенского присутствия. Возможно, в этих местах микенской торговле препятствовала Троя.
Так же как в позднебронзовую эпоху, Троя еще в ранний период микенской эры оставалась сильной крепостью, торговые интересы которой простирались до Кипра. Город того периода располагался в культурном слое, который обозначается как Троя VI. Около 1300 года до н. э. этот город был разрушен землетрясением, но потом, правда в более скромных масштабах, снова отстроен и заселен (как Троя VIIa). Греки, как о том повествует легенда, осаждали именно Трою VI.
Эллада всегда состояла из отдельных государств, но и здесь можно вычленить известную последовательность. Пилос контролировал территорию Великой Мессении с многочисленными мелкими вассальными династиями. Микены господствовали не только в Арголиде и на Аргивском полуострове, но и в Коринфе, кроме того, на стороне Микен выступали также некоторое число вассалов. В Аттике дошло до известного синойкизма, который практически насильственно был ориентирован на Афины. Фивы, Орхомен и Иолк также со временем овладели каким-то числом вассалов. Все эти факты заставляют полагать, что здесь мы имеем дело с политической организацией феодального типа. Микены добились гегемонии над всей Грецией, и, видимо, этот факт в то время признавался всеми. Раннее разрушение дворца в Фивах может говорить о соперничестве между Фивами и Микенами.
То, что нация микенской Греции, несмотря на известное насильственное разделение, представляла собой некое замкнутое единство, неопровержимо видно по данным раскопок. Архитектура дворцов, принадлежности купольных гробниц, керамика – все это пронизано удивительным единством и превосходит своим единообразием более поздние свидетельства греческой материальной культуры, относящиеся к VII или VI векам до н. э. Отсюда мы с уверенностью можем предположить, что эта нация и обозначала себя одним именем, а именно ее представители именовали себя ахейцами, что мы находим еще у Гомера. Таким образом, микенскую культуру можно с полным правом называть ахейской, что не должно привести к путанице, несмотря на тот факт, что в более поздние времена это имя стало иметь совершенно иное значение.
Характер позднемикенской культуры определялся воинской верхушкой и княжескими бургами. Война и скачки, охота и пиры были главными чертами образа жизни, какую по преимуществу вели эти классы. Сцены сражений на колесницах и охоты на вепря украшали стены дворцов; в окрестностях дворцов находили сотни чаш, в Пилосе вообще был большой винный погреб. В выездах и прогулках участвовали также и придворные дамы, которые, правда, теперь были одеты не по минойской, а по микенской моде. Женщины сами правили своими колесницами и повозками. Наряду с любовью к наслаждениям и авантюрам для господствующих классов микенского общества были очень характерны интересы к приобретениям и имуществу. В заморских предприятиях часто сочетались оба пристрастия, так же как у греческой знати VII и VI веков до н. э. Масло и парфюмерию, вино и керамику стали грузить на корабли и продавать за морем. Излюбленными товарами стали также пряности, мебель, изящные предметы роскоши из фаянса и слоновой кости.
Об оригинальном микенском искусстве мы можем говорить только с некоторыми ограничениями. Фресковая живопись, рельефная скульптура, глиптика все еще несли на себе явный след минойского искусства, однако по сравнению с изображениями процессий и культовых действий в микенском искусстве на первый план выдвинулись сцены сражений и охоты. В том, что касалось передачи движения, картины выглядят статичными и чопорными. Микенскому вкусу гораздо больше соответствовало изображение неподвижных образов – лошадей с оруженосцами, воинов в защитных позах или певца с лирой.
В вазовой живописи начиная с 1400 года до н. э. еще более решительно отошли от традиций вещной росписи и перешли к орнаментальным украшениям. Минойская динамика повсеместно уступает место статике. При этом становится отчетливо ясно, насколько сильно повлияло разрушение Кносского дворца на традиции критского культурного наследия; после падения дворца влияние минойской культуры было утрачено. То же самое касается и гончарного искусства, которое превратилось в отрасль массового производства, продукция которого, хотя и соответствовала всем требованиям по техническим и качественным свойствам, по декоративной росписи стала на уровень серийного производства. Более тщательно отделывались инкрустированные мечи и кинжалы, на которых мы находим цветные изображения животных, или украшения, выполненные чернью, в золоте или серебре. Великолепные достижения были сделаны в искусстве обработки слоновой кости и в резьбе, украшавшей роскошную мебель. В архитектуре и строительной технике сохранились древние эгейские традиции мегарона и купольных гробниц. В манере, в которой строили теперь дворцы, крепости и гробницы, стала проявляться большая монументальность, величественность, сочетавшаяся часто с преувеличенной простотой и скромностью. Здесь начинает явственно проступать одна характерная черта, которой предстояло сыграть решающую роль в более позднем эллинском искусстве, которое в строительном деле намного превзошло минойскую архитектуру. В минойском искусстве мастерски отрабатывались мелочи, мелкие детали, преобладали игровые мотивы en miniature. Микенская же архитектура возвещает наступление возвышенной величавости эллинской строительной мысли; в первую очередь это касается Львиных ворот, то же самое видим мы в «сокровищнице Атрея», которые своей расчлененной мощью и гармоничными пропорциями оставляют в тени ранние минойские прообразы. Эти два микенских памятника принадлежат к самым впечатляющим образцам всех времен.
В строительстве гражданских и фортификационных сооружений проявились высокие технические дарования микенского мира. Устойчивые к сильному ветру детали ворот и лестниц, колодцы и мосты – все это являет собой образцы передовых решений, найденных микенскими строительными мастерами. Возможно, они пробовали свои силы и в строительстве плотин и водохранилищ.
Архитектура и ремесло показывают, насколько сильно позднемикенская эпоха была пропитана духом рационализма. Хотя романтика героического рыцарства тоже не угасла, приключений все же больше искали на чужбине, а во дворцах правили больше палочкой писца, а не мечом. Торговля требовала ведения бухгалтерских записей, и дворцы служили регистратурой меновой торговли. В Пилосе были найдены многие сотни исписанных глиняных табличек, которые являются не чем иным, как бухгалтерскими документами. Добросовестно регистрировали все – владение землей и имуществом, число рабов и многое, многое другое. Ведение бухгалтерской отчетности в большой степени напоминало таковое, обнаруженное Эвансом в записях на тамошних глиняных табличках. Если мы можем сегодня иметь лучшие сведения обо всем этом, то лишь благодаря гениальным открытиям Майкла Вентриса, который сумел расшифровать линейное письмо B.
Начиная с 1900 года, в течение трех десятилетий, уже Эванс нашел много тысяч текстов, составленных с помощью линейного письма B, которое, как установлено, возникло из реформированного кносского линейного письма A. В 1939 и после 1952 года Блеген нашел сотни таких табличек и в Пилосе, несколько десятков их было обнаружено и в Микенах, в частных домах, расположенных как внутри, так и вне города. Итак, имеющийся в нашем распоряжении материал отнюдь нельзя назвать скудным, и все же он мог бы быть еще обширнее, если бы в микенские времена, так же как на Древнем Востоке, обжигали глиняные таблички, чтобы сделать их более долговечными. Однако ахейцы, так же как и минойцы, писали прежде всего на папирусе и пальмовых листьях. На глине они выдавливали лишь менее важные записи, прежде всего бухгалтерские, которые приходилось хранить лишь короткое время. Поэтому глиняные таблички не обжигали, а просто высушивали на воздухе. Когда надобность в них проходила, эти таблички просто выбрасывали; как только на них воздействовала влага, они снова превращались в мягкую аморфную массу. Только во время пожаров некоторые таблички случайно подвергались обжигу, приобретая долговечность. Не пережившие пожаров микенские населенные пункты предстают перед нами, лишенные письменных памятников.
Поскольку по поводу найденных до 1952 года текстов не были известны ни система письма, ни язык, на котором они были составлены, постольку было мало надежды, что удастся когда-либо расшифровать или перевести эти тексты. Единственным лучом света в этом темном царстве было то, что знаков было около семидесяти, и по этому их числу было установлено, что речь идет о слоговом письме с открытыми слогами (согласный плюс гласный) и что отдельные группы знаков, обозначающие слова, отделялись друг от друга разделительным знаком. Однако поначалу ученые пошли неверным путем, пытаясь расшифровывать текст как собрание пиктографических изображений, интерпретировать содержание пиктограмм, расположенных между разделительными знаками, но знаки никогда не рассматривали как представления слогов. Таким образом, в течение многих лет все попытки расшифровки текстов оказывались тщетными.
Желанная цель еще долгое время оставалась бы недостижимой, если бы не молодой архитектор Майкл Вентрис, превосходный мыслитель, исследователь природы языков, который изящно и последовательно довел до конца формально-логическую обработку текстов. Но ему не хватало знания о том, на каком языке написаны тексты. Но именно в это время трудами Эллис Кобер и Эмметта Беннетта было установлено, что имеющиеся в нашем распоряжении образцы текстов, составленных линейным письмом B, написаны на другом языке, нежели тексты, составленные линейным письмом A. Правда, поначалу Вентрис полагал, что идиоматика текстов близка этрусской. Однако после того, как в 1952 году Вентрису, с помощью достойных восхищения комбинаций, удалось расшифровать написания критских городов Кносса, Амниса и Тилисса, а потом перенести полученные таким образом фонетические значения пиктограмм в другие слова, он, к собственному изумлению, понял, что в своей основе язык табличек является древнейшим греческим языком.
С этого момента расшифровка стала продвигаться быстрее, уже к концу года ее можно было считать законченной. Благодаря счастливой случайности среди найденных Блегеном в Пилосе табличек была обнаружена одна, содержавшая инвентарную опись треножников и сосудов, причем рядом с каждым словом было помещено изображение соответствующего предмета. Все эти надписи без исключения подтвердили правильность чтения слогов, предложенного Вентрисом. Он смог еще, при поддержке присоединившегося к нему для дальнейшей работы Джона Чедвика, в 1956 году опубликовать большую работу, посвященную расшифровке знаков линейного письма; но в этом же году Вентрис погиб в автомобильной катастрофе.
Хотя проведенная работа была настоящим чудом, мы тем не менее сталкиваемся здесь с большими трудностями, как только речь заходит об адекватной оценке текстов. Во-первых, греческий язык микенской эпохи на полтысячелетия старше языка гомеровского; в фонетическом отношении мы имеем дело с его ранней, кажущейся нам чуждой ступенью. Далее, сама орфография не слишком способствует успеху наших усилий. Линейное письмо B подходило для минойского языка, но не слишком хорошо годилось для передачи греческого. Собственно говоря, это была своего рода стенография, сокращенное письмо, при котором зачастую пропускали согласные в конце слогов и слов. И наконец, в подавляющем большинстве случаев мы находим в табличках отчеты, а также несколько писем и строчки бухгалтерских записей. Эти сообщения не содержат никаких имен, кроме имен отправителей и адресатов, названий населенных пунктов, наименования товаров и их количества. Собственно говоря, там мало материала для перевода. Как только тексты стали доступны в подробностях, стало ясно, что речь в них идет об инвентарных списках предметов или о боевых колесницах, о списке жертвенных животных или приказах о мобилизации. Конечно, с помощью таких случайных и отрывочных списков и текстов можно пролить свет на религиозные воззрения и социальное расслоение, на устройство сельского хозяйства, а подчас и на исторические события. Отсутствуют лишь имена царей, так как писавшие письма и так знали, при каком царе они живут. Как сильно зависим мы от коварных прихотей случая, показывают микенские тексты.
Мы надеялись найти упоминания об Агамемноне и Оресте, а обнаружили вместо этого подробные описи лекарственных снадобий и овощей. В целом тексты разочаровали исследователей, особенно в том, что среди них совершенно отсутствуют литературные произведения, юридические документы и настоящие письма. Правда, с их помощью мы смогли с интересом взглянуть на тогдашнюю экономику и хозяйственную жизнь и на ту сторону микенской культуры, о которой умалчивают романтические греческие сказания о героях.
Песни о героях, возможно, существовали уже в позднемикенскую эпоху; эти песни прежде всего исполнялись профессиональными певцами при княжеских дворах. Возможно, сюжеты песен – такие как путешествие аргонавтов или освобождение из-под минойской долговой кабалы – возникли в эти ранние времена и повествуют о событиях среднеэлладского периода.
Вместе с последовавшим в XII веке до н. э. распадом Микенского царства погибла и большая часть таких старых сказаний. Вторгшиеся в страну дорийцы проявляли мало интереса к этим песням и сказаниям. Так, сюжет об освобождении от минойского гнета сохранился только в Аттике, а легенда об аргонавтах сохранилась только благодаря своим вневременным мотивам. Кроме того, теперь в сказочном виде представлялись факты, которые на закате уходящей микенской эпохи были подлинной историей. Наследники древних ахейцев, которые поселились главным образом на западном побережье Малой Азии, приложили максимум усилий к тому, чтобы держать в памяти этот последний блеск микенской древности, как свидетельство существования лучшего мира, утраченного, потерянного рая. Эти воспоминания относились к княжеским дворам Микен, Пилоса, Фив, Орхомена и Иолка, к гегемонии Микен, а также к зловещим и страшным событиям при дворе Атридов, к борьбе Микен с Фивами, но прежде всего к походам против враждебных городов на побережье Малой Азии. Так возник цикл сказаний об Атрее, Агамемноне и Оресте, о Кадме и Эдипе, о Несторе, о борьбе семерых против Фив и о Троянской войне.
