Красные нити Санта-Лусии
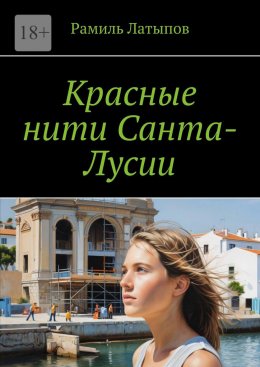
Дизайнер обложки giga.chat
© Рамиль Латыпов, 2025
© giga.chat, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0068-6125-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. «Аэропорт в пустоте»
Московский снег за окном Аэрофлота казался мне последним кусочком нормальной жизни. Я прижала ладонь к холодному стеклу, будто пытаясь удержать его от исчезновения. За спиной мама суетливо перекладывала документы в папку с надписью «Театр Санта-Лусия: Реставрация». Её руки дрожали – я видела это в отражении иллюминатора. Она говорила, что это «уникальный шанс», «возможность возродить шедевр архитектуры XIX века». Я же думала только о том, как объясню Маше, что наш последний год школы теперь разделит не только расписание, но и 4500 километров.
– Леночка, не смотри так мрачно, – мама поправила очки, которые всегда сползали на кончик носа, когда она волновалась. – Это же Испания! Солнце, море, культура! Ты сама же мечтала изучать архитектуру.
Я кивнула, не отрываясь от окна. Мечтала. В двенадцать лет. Тогда Испания ассоциировалась с плакатами из National Geographic: белоснежные домики, синие купола, улыбающиеся люди в ярких платьях. Теперь же перед глазами мелькали строки из скайп-переписки с Машей:
«Ты серьёзно бросишь всё? Тут без тебя скучать будут даже Вовка с его новой гитарой».
«Кто будет снимать тиктоки про школьные дни?»
Я ответила смайликом с плачущими глазами. Смайлик не передал того, как на самом деле сжималось сердце.
– Ты ведь понимаешь, – мама положила руку поверх моей, – без этого контракта нам пришлось бы продать квартиру после развода. Твой отец… – Она осеклась. Мы обе знали: «твой отец» означало «тот человек, который ушёл к другой женщине, оставив нас с кредитами». Мама сжала мои пальцы сильнее. – Ты талантлива, Лена. Твои эскизы театров… Они дышат. Здесь ты сможешь учиться у лучших реставраторов.
Я отвела взгляд. Её вера в меня всегда пугала больше, чем разочарование. Что, если я не оправдаю надежд? Что, если в Санта-Лусии меня ждёт не «возрождение шедевра», а серая рутина и одиночество?
Аэропорт Малаги взорвался красками. Яркие вывески «¡Bienvenidos!», запах крепкого кофе и жареных миндальных орехов, гул голосов на испанском – всё слилось в один гипнотический вихрь. Я схватилась за ручку чемодана так, будто он был моим единственным якорем в этом хаосе.
– ¡Taxi! ¡Taxi! – закричала мама, размахивая рукой перед стеклянной дверью. Чёрная «Тойота» плавно подкатила к тротуару. Водитель, пожилой мужчина с седыми усами и футболкой «Real Madrid», выскочил, чтобы помочь с багажом.
– Санта-Лусия, ¿sí? – он кивнул на наш адрес, написанный мамой на листке. – Далеко. Двадцать минут. Город спит, пока Малага гуляет.
Мама улыбнулась, но я заметила, как её брови сошлись: «спит» звучало как дурное предзнаменование для проекта, который должен был вернуть городу былую славу.
Машина покатила вдоль побережья. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая море в оттенки розового и золотого. Я смотрела в окно, пытаясь запомнить каждую деталь: пальмы вдоль дороги, старушек, сидящих на скамейках у балконов в цветах герани, звон колоколов с церковной башни вдалеке. Но сердце колотилось от одного вопроса: как жить здесь, не зная языка?
– Ты в порядке? – мама положила ладонь мне на колено.
– Да. Просто… думаю, где тут магазин с нормальным хлебом. – Я попыталась шутить, но голос дрогнул.
Она вздохнула:
– Мы найдём всё. Всё.
Но я уже видела, как её взгляд скользнул по телефону – сообщение от заказчика: «Прибытие задерживается. Документы ещё не подписаны».
Санта-Лусия встретила нас прохладой. Казалось, даже пальмы здесь росли медленнее, а воздух пах не солью, а пылью и чем-то древним, забытым. Наша временная квартира находилась на втором этаже здания с облупившейся жёлтой штукатуркой. По пути наверх мама трижды споткнулась на скрипучих ступенях.
– ¡Hola! – раздался голос из соседней двери. На пороге стояла пожилая женщина в чёрном платье и белом фартуке. Её лицо морщинистое, но глаза сияли теплом. – ¿Necesitan ayuda?
Мама заторопилась объяснять по-английски, что мы новые соседи, но я заметила, как старушка улыбнулась, услышав моё русское имя.
– Лена! – она выговорила его с лёгким акцентом, будто пела. – У меня внучка такое же имя носит. В Мадриде учится. – Она взяла мой чемодан и легко потащила его вверх по лестнице. – Зовут меня Соледад. Если нужен сахар, вино или совет – стучите. Особенно совет. В Санта-Лусии без него ни шагу.
Квартира оказалась больше, чем я ожидала: большая гостиная с французскими окнами, выходящими на узкую улочку, кухня с плитой 1970-х годов и две спальни. Но в воздухе висел запах сырости, а на стенах пятнами проступала плесень.
– Это… временно, – мама развела руками, будто извиняясь перед невидимым критиком. – Завтра начнём ремонт.
Я кивнула, разматывая шарф. Временно. Как много раз я это слышала за последние два года.
Ужинать мы отправились в кафе напротив театра – того самого, что мама должна была восстановить. Здание потемнело от времени, колонны у входа облезли, но под грязью угадывались изящные узоры. Над аркой вилась выцветшая надпись: «Teatro del Sol».
– Смотри! – мама указала на фреску над дверью. – Это «Падение Икара». Видишь, как художник передал падение? Кажется, будто крылья ещё держат воздух…
Я кивнула, но мысли были заняты другим: за углом театра, прислонившись к стене, стоял парень. Ему было около двадцати, в чёрных джинсах и потрёпанной футболке с надписью «Gaudí is not dead». В руках он держал блокнот, быстро водя карандашом по странице. Волосы цвета тёмного шоколада падали на лоб, закрывая чуть прищуренные глаза.
– Алехандро, – пробормотала Соледад, подавая нам меню. – Не обращайте внимания. Он тут каждый вечер рисует. Отец хочет, чтобы в строительной фирме работал, а он… – она махнула рукой, – предпочитает мечтать.
Мама улыбнулась:
– Искусство важнее прибыли.
– ¡Ay! – Соледад рассмеялась. – Скажите это señor Мендесу, когда он вам зарплату задержит!
Я отвлеклась от парня, когда Соледад поставила передо мной тарелку с паэльей. Но через минуту снова посмотрела на улицу. Алехандро поднял голову и случайно поймал мой взгляд. На мгновение мир замер. Его глаза – тёплые, карие, с золотистыми крапинками – заставили сердце подпрыгнуть. Но тут же он отвёл взгляд, резко закрыл блокнот и зашагал прочь.
«Грубиян», – подумала я, откусывая кусок сочной курицы. Но пальцы сами потянулись к альбому в рюкзаке. Может, он тоже рисует театры?
На следующее утро мама уехала на встречу с городскими властями, а я осталась разбирать вещи. К полудню квартира обрела видимость порядка, но тоска по Москве сжимала горло. Я достала телефон – десять пропущенных сообщений от Маши. Последнее гласило:
«Ты жива? Присылай фото испанских мачо!»
Я улыбнулась и набрала ответ:
«Пока тут только старушки и один грустный артист.»
В ответ пришёл смайлик с сердечками.
Нужно было выйти. Воздух в квартире стал душным. Я схватила блокнот и карандаш (привычка с детства – рисовать, когда тревожно) и направилась к Театру Солнца.
Под его аркой было прохладно. Я уселась на ступеньку и начала набрасывать фасад, стараясь передать игру света на треснувшей штукатурке. Через час рука устала, но душа успокоилась. Я не заметила, как кто-то остановился рядом, пока тень не упала на бумагу.
– Неплохо. Но Икар не падает – он парит, – раздался низкий голос с лёгким акцентом.
Я вздрогнула. Передо мной стоял Алехандро. Его блокнот висел на ремне через плечо, а в руке он держал два стакана с кофе. Один протянул мне.
– Cortado. Без сахара, если не ошибаюсь.
– Откуда вы…?
– Ты пришла с улицы, где ветер. Сахар бы развеялся по листу, оставив белые пятна. – Он кивнул на мой альбом. – Можно?
Я кивнула. Он присел рядом, листая страницы. Его пальцы были длинными, с тонкими шрамами от карандашей.
– Ты видишь не камни, а истории. – Он остановился на рисунке театра: я добавила в углу маленькую фигурку – девочку на колонне, машущую рукой. – Почему она там?
– Это Тея, – ответила я, сама не зная откуда взялось имя. – Она живёт между мирами. Видит всё, но никто не видит её.
Он посмотрел на меня пристально:
– Ты тоже чувствуешь себя Теей?
Щёки вспыхнули. Я отвела взгляд:
– Я просто рисую.
– А я – нет. – Алехандро вернул альбом и сделал глоток кофе. – Меня зовут Алехандро. А тебя?
– Лена.
– «Свет», – он произнёс по-испански. – Странное имя для русской.
– Почему?
– У вас же вечная зима. Откуда свет?
Я рассмеялась – нервно, но искренне:
– Мы его бережём внутри. Чтобы не замерзнуть.
Он задумался, барабаня пальцами по стакану:
– Сегодня я рисовал тебя.
– Что?
– Утром. Когда ты сидела здесь с сумкой, будто готовая сбежать при первом шуме. – Он улыбнулся, но в уголках глаз осталась грусть. – Не бойся Санта-Лусии. Она старая, но добрая. Как моя бабушка Соледад.
– Это ваша бабушка?
– Да. Она всех соседей зовёт внуками. – Он встал, поправляя рюкзак. – Завтра в два часа здесь будет рынок. Приходи. Покажу тебе город глазами Икара.
– Почему Икара?
– Потому что, – он кивнул на мою Тею, – те, кто парит выше других, всегда рискуют упасть. Но без этого нет полёта.
Он ушёл, оставив меня с пустым стаканом и бешеным сердцебиением.
6.
Дома я застала маму в слезах. Стол в гостиной был завален бумагами, а на компьютере открыт договор с красными пометками.
– Что случилось?
– Мендес… – она вытерла глаза тыльной стороной ладони. – Он хочет урезать бюджет. Говорит, что реставрация – «роскошь для бедного города». Если я не соглашусь на его условия, контракт расторгнут.
Я обняла её, чувствуя, как дрожат её плечи. Она боролась за этот проект полгода. Без него мы потеряем не только деньги, но и надежду.
– Что будем делать?
– Ничего. Я найду способ. – Мама встала, поправляя волосы. – А пока… Иди гуляй. Ты же не захочешь провести день в этой сырой дыре?
Я кивнула, но уже придумывала, как можно помочь. Может, найти старые чертежи театра? Или уговорить местных поддержать проект?
Рынок в Санта-Лусии был похож на волшебный лабиринт. Под белыми тентами горками лежали сочные персики, оливки всех оттенков чёрного, связки ароматных колбас. Воздух гудел от разговоров, смеха и звонкой гитары где-то вдалеке. Я вертела в руках крошечный горшочек с лавандой, подаренный старушкой-продавщицей («Для удачи, guapa!»), когда чья-то рука закрыла мне глаза.
– Угадай, где ты?
Я узнала голос Алехандро и рассмеялась:
– В аду для аллергиков?
Он отпустил меня, улыбаясь:
– Правильно. Здесь продают даже пыльцу. Но ради этого стоит рискнуть.
Он повёл меня к лотку с churros: тонкими пончиками в сахарной пудре. Пока мы ели, он рассказывал о театре.
– В 1920-м здесь ставили пьесы Федерико Гарсиа Лорки. Говорят, в подвале до сих пор слышен его смех.
– Ты веришь в призраков?
– Я верю в то, что оставляют после себя люди. – Он показал на старый фонарь у входа на площадь. – Видишь трещину на стекле? В 1936-м здесь проходила забастовка. Солдат ударил фонарь прикладом, чтобы осветить путь раненым.
Его голос звучал так, будто он сам видел ту ночь. Я смотрела на трещину и вдруг поняла: Алехандро не просто рисует город – он слушает его.
– Почему ты не уезжаешь учиться? – спросила я, вспомнив слова Соледад. – В Барселону или Мадрид?
Тени пробежали по его лицу:
– Отец говорит, что искусство – это хобби для богатых. А я… – он пожал плечами, – должен продолжить семейное дело. Строить отели для туристов, которые даже не заметят этой трещины.
– Но твои рисунки… Они как живые.
Он усмехнулся горько:
– Живые рисунки не кормят семьи, Лена.
Мы бродили по рынку до захода солнца. Алехандро показал мне лавку с ароматическими свечами, где хозяйка, пожилая цыганка, прочитала мне будущее по ладони («Три дороги… Одна ведёт к боли, две – к любви. Выберешь самую трудную»). Он смеялся, но в его смехе слышалась тревога.
– Не верь ей. Это всё игры.
– А ты веришь? В выбор?
– Я верю, что иногда выбора нет. – Он посмотрел на часы и вздохнул. – Мне пора. Отец ждёт отчёта по стройке.
– Можешь показать мне театр изнутри?
– Завтра. В восемь утра. До восхода солнца охранник уходит пить кофе. – Он написал адрес на клочке бумаги. – Не опаздывай. Икары не ждут.
Я сжала записку в кармане, наблюдая, как он исчезает в толпе. Сердце стучало громче, чем гитара уличного музыканта.
Дома я застала маму за перепиской с Мендесом. Её лицо было бледным.
– Он требует сократить расходы на 40%. Если я не подпишу сегодня, он отдаст проект другой компании.
– Что делать?
– Не знаю. – Мама провела рукой по лицу. – Может, вернуться в Москву? Найти другую работу…
– Нет! – Я села рядом. – Мы не можем сдаться. Помнишь, как ты говорила о Театре Солнца? Это же не просто здание. Это… душа города.
Она посмотрела на меня с удивлением:
– Откуда ты знаешь?
– Алехандро рассказал. Его бабушка Соледад живёт рядом.
– Алехандро? – Мама нахмурилась. – Мендес тоже фамилия Мендес. Это его сын.
Я замерла. Отец Алехандро – тот самый Мендес, который губит наш проект?
– Он не такой, как отец, – вырвалось у меня. – Он… другой.
– Люди здесь закрытые, Лена. Не доверяй быстро. – Мама обняла меня. – Спасибо, что поддерживаешь. Но, может, тебе стоит записаться в местный колледж? Займись языком. А я разберусь с контрактом.
Я кивнула, но уже думала о завтрашнем утре. Может, Алехандро поможет? Его отец точно не знает, как много театр значит для сына.
В четыре утра я уже не спала. Луна заливала комнату серебром, смешиваясь с тревогой. Я перечитывала сообщение Маши десять раз подряд, но ответить не могла – слова будто застыли в горле.
«Ты влюбилась? Фото этого парня срочно!!!»
Влюблена ли я? Нет. Но в его глазах было что-то, чего так не хватало моей жизни: смелость парить, даже зная, что крылья растают.
Я оделась в джинсы и свитер, сунула в карман блокнот и записку Алехандро. На площади не было ни души. Ветер трепал волосы, а вдалеке мерцали огни Малаги.
Театр казался спящим зверем. Я стояла у служебного входа, считая минуты. В семь часов пятьдесят пять появился охранник: пожилой мужчина с тяжёлой походкой. Я прижалась к стене, пока он уходил, бормоча о кофе и молодости.
В восемь часов я постучала. Никто не ответил. Прошла ещё минута. Две. Сердце упало в пятки. Он не придёт.
– Опоздала на тридцать секунд. – Голос Алехандро раздался над головой. Он сидел на карнизе второго этажа, спустив ноги вниз. В руках – связка ключей.
– Как ты…?
– Я здесь рисую каждую ночь. – Он спрыгнул на землю, ловко приземлившись. – Готова увидеть Тею?
Ключ скрипнул в замке. Дверь открылась, и нас накрыла волна запахов: пыль, старое дерево, тайна.
Внутри было темнее, чем я ожидала. Алехандро включил фонарик на телефоне, и луч света выхватил из тьмы ряды потрескавшихся кресел, занавес, изъеденный молью, и сцену, где танцевали призраки прошлого.
– Смотри, – он повёл меня к боковой лестнице. – На третьем этаже есть ложа. Оттуда Икар видит всё.
Мы поднялись по узкой винтовой лестнице. На третьем этаже Алехандро открыл дверь, и я ахнула. Ложа была украшена резными деревянными панелями, а над нами сводился потолок с фреской: Икар, раскинув крылья, летел к солнцу, а внизу, на земле, его отец Дедал смотрел с горькой улыбкой.
– Это работал художник из Барселоны. Говорят, он влюбился в местную актрису и оставил часть души здесь.
– Почему театр забросили?
– После Гражданской войны. Многие ушли, многие погибли. – Алехандро провёл пальцем по пыльному подлокотнику кресла. – Мой дед пытался его восстановить. Но умер, так и не увидев конца.
– А отец…
– Отец считает это пустой тратой денег. – Он посмотрел на меня. – Но ты можешь изменить это. Твоя мама – лучший реставратор, с которым я встречался в документах отца.
– Ты читал документы?
– Я работаю в его офисе. Считаю цемент и кирпичи. – В его голосе звучала горечь. – Лена, если Мендес-старший подпишет контракт, город вернёт себе сердце. Но я не могу поговорить с ним. После мамы…
– Что случилось с твоей мамой?
Он замолчал, глядя на фреску. В луче света пылинки танцевали, словно призраки.
– Она была актрисой. Играла здесь. Отец заставил её выбрать: семья или сцена. Она выбрала сцену. Уехала во Францию. Больше не вернулась.
Слова повисли в воздухе. Я поняла, почему он так резко закрыл блокнот в первый день – боялся, что его мечты разрушат семью, как мечты матери.
– Тогда помоги нам, – тихо сказала я. – Покажи отцу, что театр – это не деньги. Это память.
Он усмехнулся:
– Ты легко говоришь о том, чего никогда не теряла.
– Я теряла дом, – вырвалось у меня. – После развода отца мы трижды переезжали. Каждый раз я оставляла друзей, школу, свою комнату. Помнишь мою Тею? Я была ею много лет.
Алехандро посмотрел на меня иначе – не как на туристку, а как на человека, который тоже знает, что такое падать.
– Хорошо, – он вздохнул. – Завтра вечером в кафе «Sol» соберутся городские власти. Я поговорю с отцом. Но обещай: если всё провалится, ты не исчезнешь, как моя мама.
– Обещаю.
Внизу нас ждала тень. Не охранник – сам señor Мендес. Он стоял у входа, скрестив руки на груди. Его лицо было каменным, но глаза, такие же карие, как у сына, сверкали гневом.
– ¿Qué haces aquí, Alejandro? – голос звучал как удар хлыста.
Алехандро встал передо мной:
– Мы просто смотрели театр, отец.
– С русской девочкой, дочерью той, кто пытается украсть мой проект? – Мендес-старший сделал шаг вперёд. – Ты знаешь, сколько я отказал ей в финансировании?
– Вы не слушали её идеи! – Алехандро говорил на испанском так быстро, что я понимала лишь половину. – Этот театр – часть истории!
– История не кормит твою сестру! – Мендес сжал кулаки. – Ты думаешь, я не знаю, как ты тратишь время? Рисунки, девчонки… Твой дед умер от нищеты, цепляясь за эти стены!
– Значит, я должен повторить твою жизнь? Работать на стройках, пока ты решаешь, что для меня лучше?
Я не могла молчать:
– Señor Мендес, я не хочу украсть ваш проект. Мама верит, что театр может объединить город. Как раньше.
Он посмотрел на меня с холодным презрением:
– Анна Соколова обещала то же самое в 2003 году. Через год она исчезла, оставив нас с долгами. Русские всегда уезжают, когда становится трудно.
Сердце сжалось. Мама никогда не рассказывала о проваленных проектах.
– Я не мама, – сказала я, стараясь говорить чётко. – И Лена не русская, не испанская… Я просто хочу помочь.
Мендес фыркнул:
– Завтра подпишу контракт с другой компанией. Уходите. Оба. И не смей показываться здесь, Алекс.
На улице было светло. Санта-Лусия просыпалась: женщины вывешивали бельё, дети бежали в школу, из кафе пахло свежим хлебом. Но внутри меня бушевала буря.
– Прости, – прошептал Алехандро, сидя на ступеньках театра. – Я думал, что смогу…
– Не твоя вина. – Я села рядом. – Твой отец боится потерять семью, как потерял твою маму.
– А я боюсь стать таким же, как он. – Алехандро достал блокнот, рисуя что-то на полях. Через минуту протянул мне страницу. На ней была я – стоящая в луче света под фреской Икара. В углу он написал: «Лена, которая учит меня дышать».
– Ты вернёшься в Москву? – спросил он тихо.
– Не знаю. Мама всё ещё надеется.
– Тогда прими мой совет. – Он записал на листке номер телефона. – Это Селия, журналистка из газеты «La Voz de Santa Lucía». Расскажи ей о театре. Пусть напишет статью. Мой отец не выдержит давления общественности.
– Ты предаёшь его?
– Я выбираю Икара. – Он встал, поправляя рюкзак. – Прощай, Лена.
– Алехандро…
– Если спасёшь театр, приходи в кафе «Sol» в полночь через неделю. Я буду ждать. – Он улыбнулся, но в глазах стояла боль. – Не заставляй меня верить в тебя второй раз.
Дома я застала маму в новом приступе отчаяния. Контракт был утерян.
– Что будем делать? – спросила я, показывая номер Селии. – Давай попробуем привлечь общественность.
– Это рискованно. Мендес может подать в суд за клевету.
– А если правда? – Я сжала её руку. – Ты столько лет работаешь реставратором. Неужели не хочешь спасти хотя бы одно место, которое помнит, как люди смеялись и плакали вместе?
Мама посмотрела на меня, и в её глазах вспыхнула искра:
– Ты очень похожа на свою бабушку. Она тоже верила в лучшее.
Через час мы сидели в редакции «La Voz». Селия оказалась женщиной лет сорока с ярко-рыжими волосами и манерой задавать неудобные вопросы. Когда я рассказала историю театра, она постучала пальцами по столу:
– Это идеальная статья. Но мне нужны доказательства: старые фото, документы, свидетели.
– Алехандро… – начала я.
– Сын Мендеса? – Селия усмехнулась. – Он рисует, а не роется в архивах. Но… – она задумалась, – бабушка Соледад дружит с сестрой Лорки. Она может рассказать о премьерах 1920-х.
Соледад открыла дверь с кастрюлей в руках. Её квартира пахла корицей и чем-то домашним.
– ¡Niñas! – она поставила кастрюлю на стол и обняла нас обеих. – Я слышала о Мендесе. Старый осёл! Его отец бы его за такое отшлёпал.
Она принесла альбом с фотографиями: чёрно-белые снимки театра в расцвете, актёры в костюмах, зрители в парадных нарядах. На одной из фотографий – молодая женщина с печальными глазами.
– Это моя сестра Кармен, – прошептала Соледад. – Она пела здесь. Её голос привёл в Санта-Лусию даже Лорку. А потом пришла война…
Селия записывала каждое слово. Когда мы уходили, Соледад сунула мне в карман пакетик с лавандой:
– Для Алехандро. Скажи, бабушка знает: иногда нужно сжечь мосты, чтобы построить новые крылья.
Через три дня статья вышла под заголовком: «Театр Солнца: Мечта, которую предало время». На первой странице – фото Соледад у фрески Икара и строки о том, как Мендес-строитель губит наследие ради прибыли.
Город взорвался. В соцсетях создали группу «Salvemos el Teatro», на улицах собирались подписи, в мэрию посыпались письма. Но самое страшное – телефонный звонок в полночь.
– Ты думаешь, я не узнаю твой почерк? – голос Мендеса дрожал от ярости. – Завтра твоя мама получит уведомление о выселении. Никаких контрактов. Никакого театра.
Я выключила телефон, чувствуя, как слёзы жгут глаза. Мы проиграли.
В полночь я всё равно пришла в кафе «Sol». Алехандро сидел в углу, рисуя что-то в блокноте. Его лицо было мрачным.
– Статья ни на что не повлияла?
– Отец уволил Соледад из благотворительного фонда. Запретил мне видеться с ней. – Он посмотрел на меня. – Прости. Я не смог.
– Это не твоя вина. – Я поставила перед ним чашку с какао (Соледад научила меня готовить его по-испански). – Твоя бабушка дала мне это для тебя.
Он открыл пакетик с лавандой и глубоко вдохнул:
– Запах её кухни… – Он улыбнулся сквозь слёзы. – Спасибо.
– Что теперь?
– Я подал документы в Берлинскую академию искусств. Стипендия покрывает обучение. – Он говорил быстро, будто боялся передумать. – Уезжаю через месяц.
– Алехандро…
– Я не могу больше здесь оставаться. Отец прав: я не сын, а предатель.
– А театр?
– Ты спасёшь его. – Он положил на стол ключ. – Это от подвала. Там архив 1920-х годов. Документы о пожертвованиях, чертежи… Это докажет, что театр принадлежит городу, а не Мендесам.
– Почему ты не отдал это раньше?
– Потому что боялся. – Он смотрел на мои руки. – Но ты учишь меня дышать. Даже если это убьёт меня.
Мы вышли на площадь. Луна отражалась в фонтане, а вдали играла гитара. Алехандро остановился у апельсинового дерева.
– Когда я был ребёнком, мать показала мне здесь созвездие Лебедя. Говорила, оно ведёт потерянных домой. – Его пальцы коснулись моих. – Если я вернусь… Ты будешь ждать?
– Я не могу обещать будущее, – я сжала его руку. – Но сегодня я выбираю этот момент. Икара, который рискнул.
Он поцеловал меня. Вкус лаванды и горьких слёз.
На следующее утро мама получила письмо. Мендес отозвал угрозу о выселении, но контракт был у другого подрядчика.
– Мы не сдадимся, – сказала я, доставая ключ от подвала. – У нас есть архив.
В подвале театра мы провели целый день. Пыльные папки, старые афиши, письма от Лорки к актрисам. Но самое важное – договор 1921 года: земля под театром принадлежала муниципалитету, а Мендес-старший (дед Алехандро) был лишь арендатором.
Селия напечатала новые статьи. Городской совет созвал экстренное заседание. Мендес-старший пришёл красный от злости, но не смог опровергнуть документы.
– Контракт будет перезаключён, – объявил мэр. – С Анной Соколовой.
Три недели спустя я стояла на площади, наблюдая, как рабочие снимают доски с входа в театр. Мама смеялась, обнимая Соледад. Мендес-старший уехал в Мадрид, передав управление фирмой дяде Алехандро.
Я достала телефон. Сообщение от Алехандро пришло утром:
«Берлин прекрасен. Но небо здесь холодное. Спасибо за лаванду.»
Я ответила:
«Тея скучает по своему Икару.»
Соледад подошла, положив руку мне на плечо:
– Он вернётся. Настоящие люди всегда возвращаются домой.
– А если я не дом для него?
– Дом – это не место. Это тот, кто ждёт. – Она поцеловала меня в макушку. – А теперь иди. Твой Икар ждёт тебя в акварелях.
Я посмотрела на театр. Солнце играло на фасаде, делая трещины золотыми. И где-то высоко, в ложе на третьем этаже, я услышала смех Федерико Гарсиа Лорки.
Глава 2. «Язык сердца»
Три недели спустя после победы над Мендесом-старшим, Санта-Лусия научила меня одной истине: радость – это шумный, но короткий гость. Утром я просыпалась под звон молотков – рабочие уже сбивали старые доски у входа в Театр Солнца. Мама, как одержимая, носилась между подвалом и сценой, вычеркивая пункты из списка «СРОЧНО». А я пыталась совместить всё: помогать ей, учиться в местном колледже Instituto Cervantes и ловить сны про Алехандро.
– Сегодня твой первый день в колледже, – мама протянула мне бутерброд с pan con tomate, заглядывая в чертежи. – Не опаздывай. И… не волнуйся. Ты справишься.
Я кивнула, пряча улыбку. Она повторяла эту фразу каждое утро с тех пор, как мы приехали. Но сегодня «справишься» звучало особенно горько. Вчера вечером пришло сообщение от Алехандро:
«Первый экзамен в академии. Не спал трое суток. Берлинский дождь похож на твои слёзы – холодный, но красивый».
Я ответила смайликом с цветами, хотя сердце разрывалось. Твои слёзы. Сколько их я пролила за эти недели, пряча телефон под подушку?
Колледж разместился в старом монастыре XVI века. Каменные арки, увитые плющом, и фонтан во дворе создавали иллюзию спокойствия. Но внутри меня трясло. Я сжимала учебник «Español Básico» так, будто он мог защитить от стыда.
– ¡Hola! ¿Eres nueva? – весёлый голос за спиной заставил меня подпрыгнуть. Передо мной стояла девушка лет двадцати с короткими розовыми волосами и татуировкой компаса на шее. – Я София. Преподаватель сказал, ты из Москвы?
– Да. Лена.
– ¡Qué guay! – она увлекла меня в аудиторию. – Не бойся. Здесь все свои.
Но к концу первого урока я поняла: «свои» – это не я. Группа из 15 студентов болтала на испанском как на родном, смешивая сленг с итальянским и французским акцентами. А я сидела, красная как помидор, пытаясь перевести фразу «Мы читаем стихи Лорки». Когда профессор Рамирес попросил меня прочесть отрывок вслух, язык будто одеревенел.
– «Verde que te quiero verde…» – прошептала я, сбиваясь на каждое второе слово.
Смешки в аудитории ударили в уши громче удара молота по гвоздю. София одобрительно кивнула, но в её глазах читалась жалость.
Обеденный перерыв я провела на скамейке у фонтана, рисуя в альбоме колонны монастыря. Карандаш дрожал в руке. «Зачем я здесь?» – спрашивала я у отражения в воде. Москва казалась далёким сном: школьные коридоры, смех Маши, даже ссоры с отцом – всё это было проще, чем этот кошмар с языком.
– Ты рисуешь, как Алехандро, – раздался голос. Я подняла голову: рядом стоял парень лет двадцати пяти в поношенной куртке с эмблемой «Bauhaus». Его лицо было знакомо – он работал на стройке у театра.
– Мы виделись у Театра Солнца. Я – Пабло.
– Лена. – Я закрыла альбом, стесняясь своих каракулей.
– Не прячь. – Он сел рядом. – Алехандро показывал мне твои эскизы перед отъездом. Он говорил, ты видишь души зданий.
Сердце сжалось. Он рассказывал о мне.
– Он… часто вспоминает Санта-Лусию?
– Каждый день. – Пабло усмехнулся. – Даже в Берлине носит футболку с логотипом нашего рынка. Говорит, это его «амулет от серости».
Я рассмеялась сквозь слёзы: Алехандро ненавидел эту футболку.
– Но вернёмся к тебе, – Пабло указал на мой учебник. – Instituto Cervantes – не для новичков. Ты должна начать с уровня А1.
– Мама сказала, так быстрее.
– Твоя мама – гений реставрации, но в жизни… – он махнул рукой. – Слушай, я преподаю испанский в культурном центре «Raíces». Приходи сегодня в шесть. Бесплатно.
– Почему?
– Потому что Алехандро – мой лучший друг. И потому что… – он постучал пальцем по моему рисунку, – ты рисуешь театр так, будто он твой дом. А дом нельзя потерять из-за плохого языка.
Вечером, пока мама проверяла отчёты, я сидела на балконе с телефоном, набирая номер Алехандро. В Берлине было семь вечера – время для кофе-брейка в академии.
– ¿Diga? – его голос звучал в трубке хрипло, будто он кричал с другого конца света.
– Это я. Как экзамен?
– Отлично. Закончил раньше всех. Теперь профессор хочет, чтобы я рисовал его внучку. ¡Dios mío!
Я рассмеялась, представляя, как он корчит рожи. Но в горле стоял ком.
– Сегодня был мой первый день в колледже. Я опозорилась…
– Ты? – он замолчал, и я услышала скрип стула. – Лена, помнишь нашу Тею? Она тоже молчала сто лет, пока не нашла человека, который понял её язык.
– А если я никогда не научусь говорить?
– Ты уже говоришь. – Его голос стал тише. – Твои рисунки кричат громче, чем голос Мендеса на собрании. Расскажи мне о них.
Я описывала фонтан в монастыре, Софию с розовыми волосами, Пабло, который предложил помочь с языком. Он слушал, вставляя шутки, но в конце спросил:
– А театр? А он?
– Дышит. Но швы ещё болят.
– Хорошо. – В трубке зашумел ветер. – Мне пора. Завтра лекция по авангарду.
– Алехандро…
– Sí?
– Спасибо за Пабло.
Он засмеялся – первые искренние ноты за всё время:
– Он сам нашёл тебя. Я ему не говорил. Просто… нарисовал твой портрет в его альбоме. С пометкой: «Спаси её от скуки».
5.
Культурный центр «Raíces» оказался в подвале заброшенной часовни. Стены украшали граффити: силуэты танцоров фламенко, цитаты Лорки, карта мира с пометками «куда уехали наши». Пабло ждал меня за столом, заваленным учебниками и банками с кистями.
– Сегодня будем учить не глаголы, – он расстелил на столе карту Санта-Лусии. – А говорить сердцем.
– Как?
– Каждое место здесь имеет историю. – Его палец скользнул к площади перед театром. – Здесь в 1936 году женщины прятали книги от солдат. Говорили: «Слова важнее пуль».
Я записывала фразы в тетрадь, но Пабло отодвинул её:
– Забудь правила. Скажи мне на испанском: почему ты боишься?
– Yo… tengo miedo… – язык заплетался. – De no ser suficiente.
– ¿Para quién?
– Для Алехандро. Для мамы. Для себя.
Пабло улыбнулся:
– Ты уже. Достаточна. Даже когда молчишь.
Неделя пролетела в ритме уроков с Пабло, работы в театре и ночных звонков Алехандро. Я научилась заказывать кофе на испанском, разбирать конструкцию предложений, даже сыпать пару шуток. Но в колледже по-прежнему чувствовала себя чужой.
Однажды после занятий София пригласила меня на вечеринку в студенческий бар «El Rincón».
– Там будет Марко! – шепнула она, подмигивая. – Милый итальянец из Милана. Может, отвлечёшься от твоего испанца?
Я отказалась, но под давлением согласилась прийти на час. Бар напоминал пещеру: низкие своды, гирлянды из лампочек, запах жареных миндальных орешков. Марко оказался высоким брюнетом с идеальным английским и страстью к архитектуре.
– Ты из России? – он наклонился ко мне, перекрывая музыку. – Здорово! Я хочу построить мост между Барселоной и Москвой. Ты поможешь?
Я улыбнулась, но сердце сжалось. Мосты. Алехандро говорил, что мосты – для тех, кто не хочет летать.
Когда Марко предложил проводить меня домой, я заметила в углу Пабло. Он сидел с компанией строителей, но его взгляд был устремлён на меня. На следующий день он пришёл в «Raíces» с букетом жасмина:
– Марко хороший парень. Но он не знает, что твоё сердце уже занято другим небом.
– Откуда ты…?
– Видел, как ты рисовала силуэт моста в альбоме. – Он положил цветы на стол. – Алехандро прав: ты дышишь рисунками. Не дай никому отучить тебя от этого.
В театре дела шли хуже. Старые стены не хотели принимать новую штукатурку, а в подвале обнаружилась трещина, грозящая обрушить потолок. Мама спала по четыре часа, а я пыталась переводить технические термины для рабочих.
– Нужен инженер, – вздохнула она, разглядывая трещину. – Но бюджет…
– Пабло знаком с одним, – вырвалось у меня. – Он учит меня испанскому.
Мама нахмурилась:
– Лена, мы не можем полагаться на друзей Алехандро. Его отец ещё вернётся.
– Алехандро не его отец!
– Нет. Но кровь – это не просто вода. – Она провела рукой по лицу. – Прости. Я устала.
Я обняла её, чувствуя, как дрожат её плечи. В тот вечер я написала Алехандро:
«Трещина в подвале. Мама не спит. Мне нужен твой совет».
Ответ пришёл через два часа:
«Завтра в 6 утра по вашему времени. Звоню. Пока – спи под звёздами Лебедя».
Звонок разбудил меня в темноте. Голос Алехандро звучал хрипло, будто он курил всю ночь.
– Escucha. В подвале театра есть старый фундамент – каменная арка 1820 года. Если трещина затронула её, нужно укрепить сверху.
– Как?
– Пабло знает инженера Хуана. Он работал с моим дедом. Скажи: это от Алехандро. – Он помолчал. – А теперь слушай внимательно.
Он описывал сложные расчёты, но я ловила лишь отдельные фразы: ángulo, presión, yeso especial. Потом спросил:
– А как твой испанский?
– Учу «душой», как говорил твой Пабло.
– ¡Claro! – он рассмеялся. – Он мой учитель с десяти лет. После ухода мамы… он научил меня, что искусство – не предательство.
Я сжала телефон:
– Почему ты не сказал мне раньше?
– Потому что боялся. – Его голос стал тише. – Когда любишь кого-то, страшно показать свои раны.
Инженер Хуан оказался пожилым мужчиной с седой бородой и любовью к русской водке. Он осмотрел трещину, покачал головой, но улыбнулся, услышав имя Алехандро.
– Этот мальчик спас мой проект в Гранаде! – он похлопал меня по плечу. – За него сделаю всё бесплатно. Но… – его глаза блеснули, – в обмен научишь меня говорить «Я люблю тебя» на русском.
К вечеру трещину заделали армированной сеткой, а Хуан уехал, повторяя: «Ya lyublyu teebya… Нет, подожди!»
Мама смотрела на меня с удивлением:
– Как ты…?
– Люди здесь верят в истории. – Я показала ей телефон: переписку с Алехандро. – И в любовь, которая их связывает.
Она обняла меня:
– Я боялась за тебя. После развода… боялась, что ты разобьёшь сердце.
– Алехандро не папа.
– Нет. Но расстояние…
– Расстояние – это просто пространство между «здесь» и «там». А сердце не знает пространства.
Следующим утром в колледже случилось чудо. Профессор Рамирес дал задание: рассказать о месте, которое имеет для тебя значение. Когда я вышла к доске, руки тряслись, но я не сдалась.
– Teatro del Sol, – начала я по-испански. – Здесь моя мама возвращает душу городу. А я… я нашла свою.
Я описывала трещины в стенах, запах пыли в архивах, смех Соледад над плохим испанским. Говорила о том, как Алехандро научил меня видеть истории в камнях. Даже София аплодировала, а Рамирес кивнул:
– Tienes corazón. Ты говоришь сердцем. Это самое важное.
В обед я написала Алехандро:
«Сегодня я не опозорилась. Ты бы гордился».
Он ответил фото: его рука держала карандаш над рисунком театра. В углу надпись: «Моя Лена, которая учит меня верить».
Осень в Санта-Лусии пришла внезапно. Утром на улицах лежал туман, а в театре пахло сыростью. Я принесла с собой одеяло и термос с какао, чтобы согреть маму во время перерыва.
– Звонила Маша, – сказала она, поправляя очки. – Говорит, в Москве уже снег.
– Да?
– Она… скучает.
Я кивнула, глядя на экран телефона. Последнее сообщение от Маши было три дня назад:
«Ты даже не спросила, как у меня на собеседовании в Вышку!»
Я ответила поздно ночью, но она не отреагировала.
– Позвони ей, – мама погладила мою руку. – Настоящая дружба выдержит даже расстояние.
Я набрала номер, но голосовое письмо было занято. Вечером пришло сообщение:
«Извини, Лен. У меня новый парень. Он из Барселоны. Может, встретимся?»
Сердце упало. Барселона. Так близко, но она не сказала «приезжай», а предложила «встретимся».
Пабло застал меня в «Raíces», рисующей в альбоме силуэт Москвы.
– Маша? – он поставил на стол чашку чая.
– Откуда ты знаешь?
– Видел твои слезы на уроках. – Он сел напротив. – Дружба – как театр. Иногда занавес рвётся, но пьеса продолжается.
– Она больше не хочет быть моей Теей.
– Значит, ты найдёшь новую роль. – Он указал на рисунок. – Почему Москва серая?
– Потому что я рисую её из воспоминаний.
– Нарисуй её из мечты. С Алехандро.
– Он в Берлине.
– А ты где? – Пабло улыбнулся. – Ты в сердце Испании. Говори с ним на этом языке.
Вечером я пошла на рынок за продуктами. Соледад звала меня в свой ларёк с криком:
– ¡Lena! Mira qué tomates!
Её ладони, морщинистые от работы, держали спелые помидоры, красные как сердца.
– Садись. – Она посадила меня за столик у входа. – Алехандро звонил мне вчера.
– Что?
– Говорил, что скучает по моим tortillas. – Она подмигнула. – Но больше по твоим глазам.
Соледад налила мне вина, хотя я отказалась, сказав, что мне 18.
– ¡Ay! В моё время в 18 лет уже рожали троих детей. – Она хлопнула меня по руке. – Алехандро просил передать: любовь – это не география. Это выбор каждый день.
– Но как выбрать, когда он так далеко?
– Ты уже выбрала. – Соледад указала на браслет с красной нитью на моём запястье – подарок Алехандро в первый день. – Он видит тебя. Даже когда ты молчишь.
Дома я нашла маму с письмом от университета. Её лицо было бледным.
– Что случилось?
– Приглашение. – Она протянула конверт. – МГУ предлагает мне руководить кафедрой реставрации. Стипендия для тебя.
– Это же отлично!
– Но театр…
– Мы можем закончить проект и уехать.
– А Алехандро?
Я замолчала. В кармане зазвенел телефон. Сообщение от Алехандро:
«Мой отец вернулся. Он в Санта-Лусии».
Новый день начался с шторма. Дождь хлестал по окнам театра, а у входа стоял señor Мендес. Он оделся в строгий костюм, но глаза выдавали усталость.
– Я не здесь по делу театра, – бросил он, не здороваясь. – Мне нужен мой сын.
Мама вышла вперёд:
– Алехандро учится в Берлине.
– Он сбежал. – Мендес сжал кулаки. – Сказал, что я убил его мать. Но это она оставила нас!
– Ваша жена была актрисой, – тихо сказала мама. – Может, она боялась потерять себя, как вы боитесь потерять его?
Мендес рассмеялся горько:
– Вы, русские, всегда всё знаете. Где Алехандро?
– Не знаю. – Я шагнула вперёд. – Но он рисует вас каждую ночь. В своём альбоме – десятки портретов. Он называет их «Отец, который боится любить».
Мендес замер. Где-то в театре капала вода, отсчитывая секунды.
– Зачем ты это говоришь?
– Потому что он ждёт вашего звонка. – Я сняла браслет с запястья. – Он дал мне это перед отъездом. Сказал: «Красная нить – та, что связывает сердца, даже если пути расходятся».
Мендес взял браслет, его пальцы дрожали.
– Он в Берлине. Улица Фридрихштрассе, 45. Квартира 3Б. – Мендес повернулся к выходу. – Скажите ему… скажите, я нашёл её письма. Те, что она писала мне из Парижа. Я прятал их все эти годы.
Вечером я сидела на балконе, наблюдая, как дождь смывает пыль с улиц. Телефон зазвонил – Алехандро.
– Мой отец был у тебя?
– Да. Он… извинился.
– ¡Mierda! – Алехандро редко ругался. – Он не понимает. Не может понять.
– Он показал мне письма твоей мамы. Писала, что скучает по тебе. Просила передать: «Сын – это не мост, это крылья».
Тишина в трубке длилась целую минуту. Потом Алехандро прошептал:
– Я так устал быть Икаром. Хочу быть просто Алехандро. С тобой.
– Тогда вернись.
– Не могу. Стипендия…
– Я получила приглашение в МГУ.
– ¿Qué?
– Мы можем жить в Москве. Ты продолжишь учиться там.
– А театр?
– Его восстановят без нас.
Он помолчал:
– Ты хочешь этого?
– Я хочу тебя.
– Но ты только нашла себя здесь. – Его голос дрожал. – Не беги, Лена. Не из-за меня.
Через два дня Соледад пригласила нас на fiesta de la cosecha – праздник урожая. Площадь у театра украсили гирляндами, а на столах горой лежали блюда: paella, gazpacho, churros. Музыканты наигрывали мелодии фламенко, а дети танцевали вокруг фонтана.
– Это наш способ сказать «спасибо» театру, – сказала Соледад, подавая мне тарелку. – Сегодня ты танцуешь.
– Я не умею.
– Алехандро научил тебя севильяне под дождём. – Она подмигнула. – Помнишь?
Я покраснела. В тот вечер, когда мы впервые поцеловались, он шептал шаги прямо мне в ухо: «Сначала стопа, потом сердце, потом душа».
Когда зазвучали гитары, я вышла на площадку. Поначалу движения были скованными, но потом музыка вошла в кровь. Я танцевала не для зрителей – для себя, для Алехандро, для театра, который снова дышал. В толпе я заметила Пабло, машущего мне, и даже Хуана, хлопающего в такт. А потом увидела его.
Señor Мендес стоял в тени колонны. В руке он держал конверт – письма жены. Когда наши глаза встретились, он кивнул. Не улыбнулся. Но кивнул.
После праздника я пошла к театру. Луна освещала фасад, делая трещины золотыми. За мной кто-то шёл. Я обернулась – Марко.
– Ты была прекрасна, – он протянул мне цветы. – Почему ты не отвечаешь на мои сообщения?
– Я… занята.
– С испанцем в Берлине? – он усмехнулся. – Алехандро Мендес – не твой выбор, Лена. Он из другой жизни.
– Любовь не выбирает жизни. Она выбирает сердца.
Марко бросил цветы на землю:
– Ты такая же глупая, как его мать. Бежишь за мечтами, а реальность останется с тобой одна.
Я пошла прочь, но его слова впились в сердце как шипы.
Дома мама ждала с новостями.
– Мендес подписал документы. Театр официально принадлежит муниципалитету. Он уезжает в Мадрид.
– А Алехандро?
– Говорил с ним. Решил остаться в Берлине. – Мама обняла меня. – Прости, что вмешиваюсь. Но Маша права – у тебя есть будущее в Москве.
Я поднялась в свою комнату и открыла ноутбук. На экране – письмо от МГУ с датой зачисления. Через месяц я должна быть в Москве.
Телефон зазвонил. Алехандро.
– Я видел Марко у театра, – начал он без приветствия. – Ты должна знать: он встречался с Иреной, дочерью Мендеса-старшего. Подстроил вашу встречу.
– Зачем?
– Чтобы вернуть влияние семьи Мендес. – Алехандро вздохнул. – Лена, я не могу мешать твоему будущему. Берлин… это моя битва.
– А если я выберу тебя?
– Ты должна выбрать себя. – Его голос дрожал. – Обещай: не беги ради меня.
Утром я пришла в «Raíces». Пабло ждал с альбомом в руках.
– Алехандро прислал это для тебя.
На первой странице был рисунок: я, стоящая на крыше театра, с раскинутыми руками. Внизу надпись: «Лена, которая научилась летать». На последней странице – пустой лист.
– Он сказал: «Пусть она сама напишет конец».
Я взяла карандаш и нарисовала два силуэта на крыше. Один – с крыльями Икара, другой – с архитектурными чертежами. Между ними – красная нить.
– Что это значит? – спросил Пабло.
– Что я остаюсь. – Я закрыла альбом. – В Санта-Лусии. Для театра. Для себя.
Пабло улыбнулся:
– Он будет ждать тебя в Берлине?
– Нет. – Я посмотрела на фреску Икара над театром. – Я научу его дышать здесь.
В кармане зазвенел телефон. Сообщение от Алехандро:
«Сегодня я рисовал дождь в Берлине. Представил, что это твои слёзы. Но вспомнил: ты больше не плачешь. Ты летишь».
Я ответила фото: пустой страницы с моим рисунком. И одного слова:
«Вместе».
Где-то вдалеке, за стенами старого театра, зазвучала гитара. И я поняла: истории не заканчиваются. Они просто ждут, когда мы добавим новые краски.
Глава 3. «Секреты под апельсиновыми деревьями»
Санта-Лусия в ноябре была похожа на акварель, написанную в дождливый день. Туман цеплялся за колокольню церкви, а узкие улочки пахли влажным камнем и жареными каштанами. Я стояла у входа в Театр Солнца, поправляя воротник свитера, и смотрела, как рабочие крепят новую вывеску. Золотые буквы «Teatro del Sol – Reapertura 2026» отсвечивали в сером свете.
– ¡Cuidado! – крикнул Пабло, подбегая ко мне. – Ступенька треснула вчера под дождём.
Я отпрыгнула как раз вовремя. Старый камень под ногами раскололся, обнажив что-то тёмное и металлическое.
– Что это? – я опустилась на колени, отчищая грязь.
– Похоже на… сейф? – Пабло засмеялся. – Может, дед Мендеса прятал здесь золото?
Но когда мы отмыли грязь, стало ясно: это старинный медный ящик с замком в форме солнца. На крышке едва различимы были выгравированные буквы: Т.Л.
– Тея Луна, – прошептала я. – Актриса, о которой рассказывала Соледад.
Пабло постучал по замку:
– Нужен ключ. Или Алехандро. Он бы взломал это за пять минут.
Сердце сжалось. Алехандро не отвечал на сообщения уже три дня. Последнее, что он написал: «Экзамены. Мир рушится. Не пиши».
Мама, как всегда, спасла ситуацию. Она нашла в архивах театральные записи 1920-х годов, где упоминался «сейф Теи Луны».
– Говорят, она прятала здесь письма от Лорки, – сказала мама, листая страницы. – Но ключ утерян после её смерти.
– Может, Соледад знает? – предложила я.
Старушка встретила нас с корзиной апельсинов и загадочной улыбкой:
– Ах, ящик Теи… Я видела его в детстве. Моя мать рассказывала: ключ спрятан там, где солнце целует землю в полдень.
– Где это? – спросила я.
– В саду за театром. Но его нет уже пятьдесят лет.
Сад за театром оказался не просто заброшенным – он будто исчез с карты города. За обрушившейся стеной лежали руины: обломки фонтана, скрученные ветви гранатовых деревьев, тропинки, заросшие плющом. Но в центре, под развалинами беседки, стояло апельсиновое дерево. И в его стволе, словно влитое в кору, блестело медное кольцо.
– ¡Dios mío! – Пабло вытащил ключ. Он был покрыт зеленью, но узор солнца на конце узнавался сразу.
Когда мы вернулись к ящику, замок открылся с тихим щелчком. Внутри лежали три предмета: потрёпанная тетрадь в кожаном переплёте, фотография в серебряной рамке и крошечный хрустальный браслет.
Фотография показала молодую женщину в костюме Икара. Её глаза смотрели прямо, полные страсти и печали. На обороте – дата: 15 октября 1926.
– Это Тея, – прошептала я, касаясь лица на снимке.
Тетрадь оказалась дневником. Первые страницы были на испанском, но к середине записи переходили на смесь русского и испанского. Мама перевела ключевые фразы:
«Сегодня Федерико подарил мне стихи. Он говорит, я – огонь в его сердце. Но огонь сжигает…»
«Мой сын родился под ливнем. Назвала его Лукас – „свет“. Но отец запрещает мне видеть его. Говорит, актриса не может быть матерью…»
– Она была матерью? – вскрикнула я. – Соледад говорила, Тея умерла одинокой!
– Люди прячут правду, чтобы защитить других, – тихо сказала мама.
Браслет оказался ключом к следующей загадке. На внутренней стороне была выгравирована надпись: «Para el alma gemela» – «Для родственной души». Когда я надела его на запястье, Соледад ахнула:
– Это браслет моей матери! Она носила его всегда. Говорила, это память о сестре…
– Тея была вашей тётей? – спросила я.
Старушка кивнула, слёзы катились по морщинам:
– Тея Луна – настоящая фамилия Кармен Солер. Она ушла из семьи, чтобы играть на сцене. А когда родила сына… отец выгнал её. Говорил, она позорит дом.
– Где её сын?
– Умер в Гражданскую войну. Но… – Соледад указала на фотографию в ящике. – Это не Тея. Это Ирен, дочь Мендеса-старшего. Она коллекционировала театральные реликвии.
Вечером я рисовала в альбоме портрет Теи, когда телефон зазвонил. Алехандро. Его голос звучал хрипло, будто он кричал сквозь шторм.
– Лена… Мне нужна ты.
– Что случилось?
– Отец… Он нашёл письма мамы. Не те, что показывал тебе. Настоящие. Она писала, что не могла остаться, потому что он угрожал убить меня, если она не уйдёт.
– Боже…
– Я уезжаю в Санта-Лусию. Сегодня. Но… – он помолчал. – Если ты скажешь «нет», я останусь в Берлине.
Я посмотрела на браслет на запястье. На солнечный узор в ящике. На фотографию Теи, которая тоже выбирала между любовью и долгом.
– Приезжай.
Поезд прибыл в Малагу в три часа ночи. Я ждала на платформе, дрожа от холода и нетерпения. Когда он вышел из вагона, сердце остановилось. Алехандро похудел, волосы были всклокочены, а под глазами залегли тени. Но в его карих глазах снова горел огонь.
– Hola, – прошептал он.
– Hola.
Он обнял меня так крепко, что я почувствовала, как дрожат его плечи.
– Расскажи о ящике, – попросил он в такси. – Пабло присылал фото.
Я описала находку, дневник Теи, историю её сына. Алехандро слушал молча, сжимая мой браслет с красной нитью.
– Знаешь, почему отец так ненавидит театр? – спросил он у порога нашей квартиры. – Его мать тоже была актрисой. Бабушка Соледад говорила, что она сбежала с актёром из труппы Лорки. Отец винит искусство в том, что остался без матери.
– Как Тея.
– Да. – Он посмотрел на меня. – И как моя мама.
Утром мы вернулись к ящику. Алехандро внимательно изучал дневник Теи.
– Здесь есть страницы на русском. Ты читаешь?
– Да. Но… – я замялась, – смысл теряется без контекста.
– Тогда давай найдём контекст. – Он достал из рюкзака старую карту Санта-Лусии. – В архиве Берлинской академии я нашёл документы о театральных гастролях Лорки. В 1936 году его труппа скрывалась здесь, в подвале театра.
– Но в дневнике Тея пишет о сыне в 1926-м…
– Возможно, это не её дневник. – Алехандро перевернул страницу. – Смотри: почерк меняется к концу.
Мама, проверяя текст через увеличительное стекло, подтвердила:
– Первые записи – женский почерк. Последние… мужской.
Соледад пришла к нам с коробкой старых писем.
– Это письма моей матери. – Она вынула конверт с почерком, похожим на записи в дневнике. – Кармен Солер (наша Тея) родила сына в 1925-м. Мальчика звали Лукас. Его отец был русским эмигрантом – архитектором, работавшим над театром.
– Русским? – переспросила я.
– Да. Его звали Михаил Соколов.
Мир закружился. Соколов. Фамилия мамы.
– Это невозможно, – прошептала мама. – Мой отец родился в 1940-м в Москве…
– Проверь, – Соледад протянула письмо. – Может, ваша семья тоже прячет тайны?
Дома мама часами рылась в семейных архивах. На рассвете она нашла фотографию: молодой мужчина с чёрными кудрями, в форме инженера, держит на руках ребёнка. На обороте надпись: «Михаил и Лукас. Барселона, 1926»
