Тени зеркального зала. Человек, который собрал себя
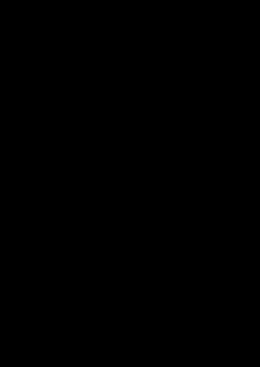
© Константин Королев, 2025
ISBN 978-5-0068-5788-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Тени зеркального зала
Человек который собрал себя
«У каждого свой Зеркальный Замок. Одни комнаты в нём ярко освещены, другие – наглухо заперты. Но рано или поздно тебе придётся войти в ту, что скрыта в самом сердце Лабиринта. Ту, где под личиной самого ужасного чудовища томится твоё забытое „Я“, ждущее лишь одного – чтобы его наконец признали»
ПОСВЯЩАЕТСЯ ИСКАТЕЛЯМ. ТЕМ, КТО ПОНИМАЕТ, ЧТО ГЛАВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРЬ СЕБЯ И ЧТО САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДИАЛОГ – ЭТО ДИАЛОГ С ТЕМИ, КЕМ МЫ МОГЛИ БЫ БЫТЬ
ПРОЛОГ
Он не умер. Это было бы слишком просто.
Смерть – это конец, точка, за которой тире. Ему же досталось нечто иное, куда более изощренное. Не точка, а бесконечное многоточие, растянувшееся в липкой, безвоздушной темноте.
Сначала – взрыв света. Не ослепительная вспышка, а белый кадр, выжженная фотография реальности. Потом – звук. Не оглушительный удар, а хрустальный треск, будто Вселенная – это гигантское зеркало, и кто-то только что пробил его кулаком.
А потом… тишина.
Не та благословенная тишина, что наступает после крика, а тишина-субстанция. Густая, вязкая, лишающая формы. В этой тишине не было ни его тела, ни его боли, ни его страха. Было лишь одно-единственное, оставшееся от него – осознание. Осколок сознания, затерянный в абсолютном Нигде.
И из этой тишины начал прорастать новый мир.
Он возник не сразу – сначала как тень на периферии несуществующего зрения. Потом обрел твердь – прохладную, гладкую, отполированную до зеркального блеска. Он стоял. На чем-то, что было похоже на черный обсидиан, растекшийся до самого горизонта.
Он поднял голову – и мир обрушился на него.
Над ним не было неба. Вернее, оно было, но сотканное из ядовито-зеленого сияния, как если бы полярное сияние застыло в одном мгновении навеки. И в этой пульсирующей зелени, вместо звезд, горели миллионы крошечных сцен. Кадры его жизни. Вот он, семилетний, плачет в подъезде от насмешек. Вот он, пятнадцатилетний, целует девчонку за гаражами. Вот получает диплом. Вот хоронит деда. Все было вырвано из времени и подвешено в этой зловещей люминесценции, как сиротливые огоньки.
Перед ним простиралось море. Абсолютно черное, неподвижное, без единой ряби. Отражающее в себе то зеленое безумие, что творилось наверху. Оно не было водой – оно было жидкой тьмой.
А позади него, вздымаясь к зеленому небу, стоял Город. Лабиринт. Хаос, облеченный в архитектурную форму. Готические шпили пронзали бетонные коробки хрущевок, витражи средневековых соборов соседствовали с голым стеклом офисных центров, арочные своды вели в тупики, а неприметные двери открывались в бесконечные залы. Одни окна пылали светом, из других доносился смех, третьи были темны и глухи, а из четвертых – лились тихие, безутешные рыдания.
И все это – и стена, и небо, и черное море – было одним гигантским, искажающим зеркалом.
Он посмотрел на свое отражение в обсидиановом полу и увидел смутный, неясный силуэт. Не себя. Скорее, призрака себя.
– Где я? – попытался крикнуть он, но не услышал собственного голоса. Звук умер, не родившись.
Паника, острая и животная, зашевелилась в груди, которой у него, казалось, не было. Он сделал шаг. Его отражение повторило движение, но с едва заметной задержкой, словно насмехаясь.
И тут он его услышал. Не ушами, а чем-то иным, что теперь заменяло ему все органы чувств. Голос. Сухой, безжизненный, лишенный интонаций, похожий на скрип пера по пергаменту.
«Один из нас прибыл. Ещё не целый. Ещё не готов. Пришло время пересчитать тени».
Он резко обернулся. Никого. Только бесчисленные зеркала, и в каждом – его собственное, искаженное ужасом лицо, смотрящее на него с немым вопросом.
И тогда осколки сложились в чудовищную картину. Автокатастрофа. Белый свет. Треск.
Это не была смерть. Это было нечто иное.
Кома.
Он не просто спал. Он был заперт. Не в больничной палате, а в последнем и самом надежном убежище, которое смогло придумать его сознание, спасаясь от невыносимой реальности.
Он был заперт внутри собственного разума.
И этот Зеркальный Лабиринт, этот безумный Город, это черное море и зеленое небо – и были им. Всё, что он когда-либо видел, чувствовал, подавлял, боялся и любил.
Первый ужас прошел, сменился леденящим, тошнотворным пониманием. Перед ним, в самой глубине Лабиринта, мерцал слабый, но упрямый свет. Там было его Ядро. Его центр. И до него нужно было добраться.
Чтобы собрать себя по кусочкам. Или чтобы окончательно разлететься на осколки.
Он сделал шаг навстречу ближайшей арке. Над ней, едва заметной вязью, светилась странная надпись: «Безмолвие»
Путешествие началось.
Часть 1: Падение и Осколки
ГЛАВА 1: Финальный пиксель
Артём Гордеев ненавидел тишину. В тишине было слишком слышно самого себя. Поэтому он заглушал её – ровным гулким стрекотом мотора, лаконичными докладами по громкой связи, собственными мыслями, расписанными по пунктам, как рабочие проекты. Но сейчас, застыв в пробке на залитом дождём проспекте, он оказался в ловушке. Шёпот дворников-метрономов лишь подчёркивал звенящую пустоту.
Он поймал своё отражение в зеркале заднего вида. Идеально подобранная стрижка, подчёркивающая линию скул. Тёмные глаза, которые на совещаниях смотрели с обезоруживающей прямотой, а сейчас были просто уставшими. Тёмно-синий костюм от Brioni, стоивший как отпуск среднего класса, выглядел безупречно даже после десятичасового дня. Успешный архитектор. Автор проекта «Вершины» – небоскрёба, который должен был изменить панораму города. Человек, у которого есть всё. Или почти всё.
– Артём, ты меня слышишь? – из динамика доносился голос его партнёра, Марка. – Клиент просто взбешён. Твоё присутствие не просто важно, оно критически…
Артём откинулся на кожаном подголовнике. За окном плыли, расплываясь в дождевой круговерти, огни ночного города. Он видел не их, а лицо заказчика из Дубая, искажённое гневом. Его «Я-Актёр» уже репетировал роль, подбирал маску холодной уверенности. Он был архитектором не только зданий, но и своей жизни, выстраивая её безупречный, но безжизненный фасад.
И тут на экране бортового компьютера всплыло имя. «Папа».
Простое, короткое, от которого что-то ёкнуло внизу живота – не больно, но ощутимо, как лёгкий удар током. Отец звонил редко. Коротко, сухо. «Привези лекарства». «На даче сломался кран».
Палец Артёма потянулся к кнопке, но завис. Внутри дрогнул маленький, испуганный мальчик, услышавший шаги отца в коридоре. Одновременно взгляд метнулся на часы. Переговоры. Дубай. Миллионный контракт.
«Не сейчас. Я перезвоню позже».
Он отклонил вызов. Сознательным, чётким движением.
И словно сама Вселенная возмутилась этим выбором. В тот самый миг из встречного потока, из-за фургона, вынесло огромный, с размазанными грязью габаритами грузовик. Артём не успел даже среагировать. Он лишь успел увидеть слепящий свет фар, похожий на вспышку гигантской фото-вспышки, выжигающую всё изображение до белого кадра.
Потом – искажение пространства. Мокрый асфальт уходил из-под колёс, сменяясь невесомостью. Его «Серебристый BMW», воплощение его статуса и контроля, начал свой немой, грациозный танец со смертью.
И был звук. Но не удара металла о металл. Был звук ломающегося хрусталя. Гигантского, вселенского зеркала.
А потом – тишина. Уже не комфортная, а абсолютная. Бездонная. Он не чувствовал тела. Не чувствовал боли. Он был лишь точкой сознания, затерянной в густом, бархатном мраке.
Сознание вернулось не вспышкой, а медленным, мучительным просачиванием. Он лежал на спине, уставившись в небо, которого не должно было существовать.
Оно было зелёным. Ядовитым, электрическим, пульсирующим. И в этой пульсирующей зелени, вместо звёзд, горели миллионы крошечных сцен. Кадры его жизни. Вот он, семилетний, плачет в подъезде. Вот он, пятнадцатилетний, целует девчонку за гаражами. Вот получает диплом. Всё было вырвано из времени и подвешено в этой зловещей люминесценции.
Он с трудом поднялся. Тело слушалось его, но ощущалось странно – одновременно плотным и невесомым. Он стоял на чём-то твёрдом, прохладном и идеально гладком, словно отполированный до зеркального блеска чёрный обсидиан. Он видел в нём своё отражение – смутное, размытое, лишённое чётких черт.
– Что?.. – попытался он издать звук, но был лишь немой вопль, запертый в вакууме.
Где я? Что это за место?
Он обернулся, и мир обрушился на него во всём своём сюрреалистичном безумии.
Позади него вздымался Лабиринт. Хаос, облечённый в архитектурную форму. Готические шпили впивались в зелёное небо, переплетаясь с голыми бетонными коробками хрущёвок. Стеклянные фасады небоскрёбов отражали причудливые витражи. Одни окна пылали светом, другие были тёмными и глухими. Это был безумный собор его собственной души.
А перед ним простиралось море. Абсолютно чёрное, неподвижное. Жидкая тьма.
Это сон. Кошмар.
Он ущипнул себя за руку. Ощущение было реальным. Слишком реальным.
Внезапно в его сознании, минуя уши, прорезался голос. Сухой, безжизненный.
«Один из нас прибыл. Ещё не целый. Ещё не готов. Пришло время пересчитать тени».
Артём резко обернулся. Никого. Только его собственное, испуганное отражение в бесчисленных зеркалах.
Память, как киноплёнка, прокрутилась назад. Совещание. Марк. Звонок от отца. Отказ. Свет фар. Треск.
Автокатастрофа. Кома.
Ужас, холодный и липкий, пополз по его спине. Он был заперт внутри собственного разума.
Его ноги сами понесли его к ближайшему входу в Лабиринт – громадной арке. Над ней светилась странная надпись: «Безмолвие».
Сердце Артёма бешено заколотилось. Он сделал шаг вперёд.
Тьма поглотила его беззвучно. Он оказался в полной, абсолютной темноте. И тут из темноты донёсся звук. Тихий, едва слышный. Знакомый.
Скрип качелей.
Он стоял в дворе своего детства. На старых, ржавых качелях сидел маленький мальчик и безмолвно плакал.
Артём подошёл ближе. Это был он сам. Семилетний. Его лицо было бледным, испуганным, а глаза полными недетской скорби.
И тут же, из темноты, раздался резкий, пронзительный голос его отца.
– Хватит реветь! Мужчины не плачут!
Маленький Артём снова опустил голову. Его плечи содрогнулись от беззвучных рыданий.
Артём-взрослый стоял как парализованный. Он вспомнил этот день. Он упал с этих качелей, разбил колено. А отец действительно сказал ему эти слова.
Он смотрел на этого мальчика и чувствовал, как внутри него что-то разрывается. Жгучее чувство вины, стыда и невыразимой жалости.
Он хотел обнять его. Хотел сказать ему, что всё будет хорошо.
Но он не мог. Он был лишь немым свидетелем.
Внезапно маленький Артём поднял на него взгляд. Его глаза, полные слёз, встретились с глазами взрослого Артёма. И в этот миг Артём почувствовал невыносимую боль в груди. Боль, которую он подавлял тридцать лет.
Он отшатнулся.
И в тот же миг комната начала рушиться. Двор, качели, маленький Артём – всё рассыпалось на миллионы пикселей.
Очнулся он снова на берегу чёрного моря. Он лежал на холодном обсидиане, и по его щеке катилась единственная, солёная слеза.
Сухой голос прозвучал снова:
«Урок „Качели“ не усвоен. Придется начать сначала».
Артём сжал кулаки. Страх отступал, сменяясь холодной, стальной решимостью.
Это было только начало. Начало долгой, мучительной войны. Войны с самим собой.
ГЛАВА 2: Страж Порога
Тишина после голоса была хуже, чем сам голос. Она была живой, плотной, она обволакивала его, как подушка, готовясь задушить. Артём лежал на холодной поверхности, вглядываясь в пульсирующую зелень неба, и чувствовал, как последняя капля реальности утекает сквозь пальцы. «Урок не усвоен». Эти слова врезались в него больнее, чем воспоминание о качелях. Они означали систему. Правила. Тюрьму с надзирателем.
Он поднялся. Тело отзывалось глухой, отдалённой болью, не физической, а чем-то более глубоким – болью растерзанной души. Слеза на щеке высохла, оставив после себя стянутость кожи и жгучее чувство стыда. За что? За то, что не смог обнять того мальчика? За то, что сам когда-то был им?
Его взгляд снова упал на арку с надписью «Безмолвие». Теперь она казалась ему не входом, а пастью. Но отступать было некуда. Чёрное море дышало неподвижным покоем вечного забвения, и его манила эта тишь. Лабиринт же сулил боль. Но, парадоксальным образом, именно боль была теперь единственным знаком того, что он ещё жив. Пусть даже в такой извращённой форме.
Он шагнул вперёд – и на этот раз тьма не поглотила его безраздельно. Сразу за аркой начинался коридор. Стены, пол, потолок – всё было сложено из огромных, идеально подогнанных зеркал. Его отражения множились в них до бесконечности, создавая легион испуганных Артёмов, смотрящих на него из перспективы. Он шёл вперёд, и легион шёл навстречу. Звук его шагов был единственным, что нарушало гнетущую тишину, – глухое, отрывистое эхо, будто кто-то хлопал дверью где-то в подземелье.
Он шёл, не зная куда, может быть, час, может быть, вечность. Пейзаж не менялся: только зеркала, его отражения и бесконечность коридора. Он уже начал думать, что это и есть его личный ад – вечное созерцание собственного, искажённого страхом лица, – когда коридор упёрся в тупик.
Это была не стена. Это была дверь. Массивная, из тёмного, почти чёрного дерева, с железными накладками, покрытыми патиной времени. На ней не было ни ручки, ни замочной скважины. Она просто была. И перед ней, спиной к двери, сидел кто-то.
Фигура была закутана в длинный, серый, безразмерный плащ, скрывавший очертания тела. Голова была опущена на колени, руки обхватывали колени. Казалось, это воплощение усталости, забытое здесь самой вечностью.
Артём замедлил шаг. Легион его отражений в зеркалах замер.
– Эй, – попытался он сказать, и снова не услышал собственного голоса. Но на этот раз был эффект.
Фигура медленно, с невыразимой тяжестью, подняла голову.
Лица под капюшоном не было. Вернее, оно было, но состояло из того же материала, что и стены, – из тёмного, матового стекла или полированного камня. Это была гладкая, безглазая и безротая овальная маска, на которой, однако, угадывались черты – невыразительные, стёртые, как у речной гальки.
Сухое шевеление, похожее на скрип гравия по стеклу, заполнило пространство. Это был тот самый голос.
«Ты вернулся. Я ожидал».
Артём попытался сконцентрироваться, проецировать мысли. Кто ты? Что это за место?
Маска повернулась в его сторону. Казалось, невидящий взгляд скользнул по нему, сканируя, взвешивая.
«Я – Сторож. Я – Порог. Я – то, что отделяет одно забытое от другого. Я – память о правилах, которые ты сам для себя установил».
Правила? Какие правила?
«Правила выживания. Правила, которые позволили тебе стать тем, кем ты стал. „Не плакать“. „Не показывать слабость“. „Быть сильным“. „Соответствовать“. Я – их хранитель».
Артём сглотнул комок несуществующей слюны. Это было слишком похоже на голос его отца, лишённый, однако, гнева и горячности. Это был голос констатации. Голос системы.
Я в коме? Это мой разум?
Сторож медленно кивнул. Его маска-лицо отразила на мгновение бледный свет, идущий отовсюду и ниоткуда.
«Это – Зеркальный Зал. Твоё подсознание, облечённое в форму. Здесь всё, что ты забыл. И всё, что ты пытался забыть. Всё, что ты отсек, чтобы идти вперёд по той прямой линии, которую назвал жизнью».
Он поднял руку, закутанную в тряпье, и медленно провёл ею по воздуху. Зеркала в стенах коридора дрогнули, и их поверхность помутнела. В них поплыли образы. Не чёткие, как в небе, а смазанные, как сквозь запотевшее стекло. Артём увидел лицо девушки, которую бросил, потому что она «отвлекала от карьеры». Услышал обрывки смеха друзей, с которыми перестал общаться, потому что они «не его уровня». Увидел мольберт с незаконченным рисунком, краски которые высохли десять лет назад.
Щемящая тоска, знакомая и ненавистная, сжала его горло.
Зачем я здесь? Что я должен делать?
«Ты разбит, – голос Стража был безжалостно спокоен. – Автокатастрофа была лишь финальным физическим воплощением твоего внутреннего состояния. Ты – зеркало, треснувшее вдребезги. Тебе нельзя вернуться туда, в мир света и формы, будучи осколком. Ты разорвёшь свою же реальность».
Сторож поднялся. Его фигура оказалась выше, чем казалось сидящей.
«Ты должен собрать себя. Но собрать – не значит склеить старые осколки, вернув прежнюю форму. Прежняя форма была иллюзией. Ты должен переплавить их. Создать новое зеркало, которое сможет отразить не только свет, но и тьму».
Как?
«Путешествуя. Проходя комнаты Лабиринта. Каждая комната – это незавершённая история. Незажившая рана. Подавленная эмоция. Ты должен войти в неё. Пережить. И… завершить».
Артём вспомнил качели. Боль, которая чуть не разорвала его изнутри.
Я не смогу. Это слишком…
«Больно? – Сторож закончил за него. – Да. Боль – это язык этого места. Ты десятилетиями глушил её сигналы. Теперь они обрушились на тебя с силой цунами. Но альтернатива – остаться здесь навсегда. Стать ещё одним безликим призраком в этих коридорах. Твоя воля».
Он сделал шаг в сторону, и массивная дверь позади него бесшумно отъехала в стену, растворяясь, как дым. За ней открылся новый коридор, но не зеркальный, а тёмный, пахнущий пылью и старыми книгами.
«Есть силы, которые будут помогать тебе. И силы, которые будут мешать. Ты уже встречал одну из них. Мальчика. Он – твоя невинность. Твоя способность чувствовать без фильтров. Он боится. И он не будет говорить с тобой, пока ты не докажешь, что достоин его доверия».
А другие?
«Ты услышишь Голос. Уверенный, насмешливый. Он носит маску, которую ты так любил надевать. Он будет шептать тебе, что всё это бессмысленно, что нужно вернуться к старой форме, к старой силе. Он – Актёр. И он опасен, ибо говорит твоими же словами».
Сторож помолчал, его маска казалась ещё безжизненнее.
«А ещё есть Тень. То, что ты от себя отрёк. Гнев, ярость, похоть, эгоизм – всё тёмное, что ты записал в „плохое“ и заточил в самом дальнем подвале. Она не будет шептать. Она будет рычать. И если Актёр хочет, чтобы ты остался прежним, то Тень… Тень хочет, чтобы ты уничтожил себя окончательно».
Артём почувствовал холодный ужас. Это был не страх боли, а страх перед масштабом предстоящей битвы. Внутренней гражданской войной, где все генералы были частями его самого.
А ты? На чьей ты стороне?
Сторож снова повернул к нему свою безликую маску.
«Я – на стороне Порядка. Целостности. Я не друг и не враг. Я – условие. Я сторожу врата между твоими мирами. Чтобы пройти через меня к новому себе, ты должен понять правила, которые я хранил. Не просто отвергнуть их, а понять, зачем они были нужны. И тогда… отпустить».
Он указал рукой в тёмный коридор.
«Твоё путешествие начинается здесь. Первая комната, которую ты посетил, была прологом, неудачной пробой сил. Теперь ты знаешь больше. Иди. Найди комнату с мальчиком. Настоящую. Не воспоминание, а его сердцевину. Он – ключ ко многому».
Артём посмотрел в чёрный провал коридора. Страх сковывал ноги. Но что-то ещё, крошечное и упрямое, шевельнулось внутри. Любопытство? Отчаяние? Или первый проблеск того самого принятия?
Он сделал шаг. Потом другой. Пересёк порог, где стоял Сторож.
«Запомни, путник, – прозвучал за его спиной голос, уже начинающий теряться в дали. – В Зеркальном Зале нет лжи. Только те истины, на которые ты никогда не решался смотреть».
Дверь бесшумно закрылась, слившись со стеной. Сторож исчез. Артём остался один в кромешной тьме, с одним лишь звуком – громким, навязчивым стуком собственного сердца, которое, казалось, билось не в груди, а где-то в пространстве между мирами.
Он пошёл на ощупь, и скоро впереди забрезжил слабый свет. Свет, исходящий из-под двери. Обычной, такой знакомой, до боли знакомой двери в спальню его детства.
ГЛАВА 3: Комната с мальчиком
Свет под дверью был тусклым, желтоватым, как от старой лампы накаливания. Он выхватывал из тьмы пол – шершавые, некрашеные доски, знакомые каждым сучком, каждой трещинкой. Артём стоял, боясь дышать, уставившись на щель под дверью. Оттуда пахло пылью, воском и чем-то ещё – сладковатым, приторным запахом детства, застоявшимся и несвежим.
Эта дверь. Он узнал её мгновенно. Та самая, за которой он прятался от громких голосов родителей, та самая, в которую он упирался взглядом, пытаясь силой мысли заставить папу зайти и просто поговорить. Дверь в его старую комнату в хрущёвской квартире, снесённой десять лет назад.
Рука сама потянулась к круглой, холодной ручке-кнопке. Он толкнул. Дверь бесшумно отворилась.
Комната была точной копией, но в то же время её жуткой пародией. Она существовала в вакууме: за единственным окном, занавешенным старым ситцем, не было ночного города, неба, ничего – только густая, бархатная чернота, поглощающая свет. Комната была островом, плавающим в Нигде.
Здесь было тесно от вещей, каждая из которых впивалась в память крючком боли или ностальгии. Футбольный мяч, сдувшийся и пыльный. Полка с зачитанными до дыр приключенческими книгами. Плакат с рок-группой, который он когда-то считал символом бунта. На столе – первый, допотопный компьютер, экран тёмный. И повсюду, на всех горизонтальных поверхностях, лежали, стояли, прислонялись к стенам его старые рисунки. Акварельные пейзажи, кривые комиксы, портреты одноклассников. Мир, который он когда-то видел ярким и полным красок, а потом отринул как «несерьёзный».
И в центре этой капсулы времени, на полу, спиной к нему, сидел Мальчик.
Тот самый, с качелей. Тот, чья боль едва не разорвала его. Он был одет в старые синие шорты и мягкую футболку. Его тонкие плечи были напряжены. Он что-то делал. Раздавался тихий, ритмичный скрип. Скрип-скрип, пауза. Скрип-скрип.
Артём замер на пороге, боясь спугнуть. Он сделал шаг внутрь. Пол скрипнул под его весом – неестественно громко в этой давящей тишине. Мальчик не обернулся.
Артём обошёл его и застыл, охваченный странным, щемящим чувством стыда и нежности.
Мальчик рисовал. Не на бумаге. Он водил по тёмному, отполированному до зеркального блеска полу цветным мелом. Мелом, который, казалось, светился изнутри, оставляя за собой сочные, яркие следы. Он рисовал мир. Но не тот, что был в комнате. Его рисунок был грандиозным, безумным, захватывающим всё пространство пола.
Там было фантастическое дерево с листьями-звёздами, под которым спал крылатый лев. Рядом – космический корабль, похожий на стрекозу, вылетающий из водоворота разноцветных галактик. На ветвях дерева сидели не птицы, а смеющиеся рыбы. И всё это было пронизано такой жизненной силой, такой искренней, ничем не ограниченной фантазией, от которой перехватывало дух.
Артём смотрел на этот рисунок и вспоминал. Вспоминал, как мог часами сидеть вот так, на полу, целиком уходя в вымышленные вселенные. Как мир правил, формул и социальных лифтов казался тогда скучным и далёким. Это был он. Настоящий. Тот, кого похоронил под слоями амбиций и прагматизма.
«Привет», – попытался сказать Артём мысленно.
Мальчик не отреагировал. Его маленькие пальцы сжимали синий мелок, вырисовывая очередную спираль туманности. Скрип-скрип.
Я пришёл поговорить, – проецировал Артём, опускаясь на корточки на почтительном расстоянии. – Мне жаль, что тогда, на качелях… я не помог тебе.
Ничего. Только скрип мелка. Мальчик будто был заключён в непробиваемый стеклянный колпак собственного мира.
Отчаяние начало подступать к горлу. Он был так близко к ответу, к той самой «невинности», о которой говорил Сторож. А она его не видела. Не слышала.
Послушай меня! – мысль прозвучала почти как крик, окрашенный нетерпением взрослого, привыкшего, что его слушают. – Нам нужно объединиться! Я не могу остаться здесь!
Он протянул руку, чтобы коснуться плеча Мальчика.
В тот же миг комната вздрогнула. Лёгкая, почти неощутимая вибрация прошла по стенам. С потолка осыпалась мелкая пыль. Рисунок на полу на мгновение померк, будто питавшая его энергия дрогнула.
Мальчик не обернулся, но его спина выгнулась, плечи поднялись к ушам – универсальный жест испуганного ребёнка, ожидающего удара.
Артём отдёрнул руку, как обожжённую. Он всё делал не так. Он применял старые методы – давление, напор, требование. А здесь они не работали. Здесь нужен был другой язык.
Он отполз назад, сел на пол, прислонившись спиной к своей старой кровати с мятым одеялом. Он просто сидел и смотрел. Смотрел, как движется рука Мальчика, как рождается на полу очередная сказка. Он не пытался больше говорить. Он просто… присутствовал.
И в этой тишине, в этом безмолвном наблюдении, к нему начали возвращаться ощущения. Не воспоминания, а именно ощущения. Шершавость ковра под босыми ногами (он с удивлением увидел, что его дорогие туфли исчезли, и он тоже бос). Запах яблока, лежавшего на столе неделю. Чувство лёгкого ветерка от воображаемого полёта на стрекозе-корабле.
Он смотрел на рисунок и вдруг понял, что видит в нём не просто детскую мазню. Он видел структуру. Баланс цвета и формы. Динамику композиции. Это был не бессмысленный поток, это был… проект. Проект мира, каким он мог бы быть, если бы его правила диктовались не логикой, а чувством.
Щемящая тоска вернулась, но на этот раз она была иной. Это была не жалость к тому мальчику на качелях, а тоска по себе. По той части, которую он добровольно отсек, посчитав балластом.
«Я тоже так мог», – прошептал он внутри себя, и это была самая горькая истина, с которой он столкнулся здесь.
Внезапно Мальчик замер. Его рука с мелом опустилась. Он сидел неподвижно, и его затылок, казалось, выражал вопрос.
Артём не шевелился, затаив дыхание.
Мальчик медленно, очень медленно повернул голову. Не до конца, лишь настолько, чтобы Артём мог увидеть его профиль. Тонкий нос, пухлые детские губы, ресницы, влажные от невыплаканных слёз.
Их взгляды встретились. Глаза Мальчика были огромными, тёмными, точно такими же, какими Артём видел их в зеркале заднего вида за секунду до катастрофы. В них был вопрос. Огромный, бездонный, немой вопрос.
Он длился всего мгновение. Потом Мальчик испуганно дёрнулся, словно дикий зверёк, и снова уткнулся в свой рисунок, вновь начав водить мелком. Но теперь его движения были более резкими, нервными. Он торопился, будто пытался достроить свой мир, пока в него снова не ворвался кто-то чужой и опасный.
Артём понял. Это был прогресс. Мгновенный, хрупкий, но контакт состоялся. Не через слова, а через взгляд. Через молчаливое признание друг в друге части себя.
Он не знал, сколько прошло времени – минут или часов. Он сидел, погружённый в странное оцепенение, пока не почувствовал, как его веки начинают слипаться. Здесь, в этом мире, у него было тело, и оно уставало. Сознание его поплыло.
Он не заметил, как уснул, сидя спиной к кровати, в комнате своего детства, под мерный, убаюкивающий скрип мелка.
Его разбудило ощущение пустоты.
Он открыл глаза. Комната была прежней, но Мальчика на его месте не было. На полу сиял незаконченный рисунок. Сердце Артёма упало. Он испугал его? Он ушёл навсегда?
Он встал, огляделся. И тогда увидел.
В углу комнаты, там, где тень была особенно густой, сидел Мальчик. Он прижался спиной к стене, подтянул колени к груди и спрятал лицо. Его поза была позой полного, абсолютного отчаяния. Того отчаяния, которое слишком велико для слёз.
И тут Артём увидел вторую фигуру.
Она материализовалась из теней у окна, хотя света там не было. Высокая, худая, почти прозрачная. Её лицо было бледным и размытым, как на старом, выцветшем фото. Женщина. Его мать. Но не та, что навещала его в больнице, а та, что была двадцать лет назад – вечно уставшая, с потухшим взглядом.
Она молча подошла к Мальчику и села рядом. Она не обняла его. Не заговорила. Она просто сидела, глядя в пустоту тем же отсутствующим взглядом, что и он. Два одиночества в одной комнате. Два призрака, не способных согреть друг друга.
Артём смотрел на эту сцену, и в нём закипала ярость. Ярость на отца, который научил его подавлять эмоции. И ярость на мать, которая научила его… ничему. Молчанию. Жертвенности, которая была просто формой капитуляции. Она была физически рядом, но эмоционально – в световых годах.
И он перенял обе эти модели. И внешнюю жесткость отца, и внутреннюю пустоту матери.
Внезапно проекция матери подняла голову и посмотрела прямо на него. Её глаза были пустыми, как два высохших колодца.
«Ты должен быть сильным, Артёмчик», – прошептали её бледные губы, и этот шёпот был похож на шелест мёртвых листьев. – «Сильным, как папа».
И она растаяла, словно её и не было.
Мальчик на полу не шелохнулся.
Артём подошёл к нему. Он больше не пытался его тормошить, до него достучаться. Он понял. Он сел рядом. В точности так, как когда-то сидела его мать. Но с одной разницей. Он не смотрел в пустоту. Он смотрел на Мальчика. Он чувствовал его отчаяние. Он разделял его.
Он протянул руку и медленно, очень осторожно, положил её на спину Мальчика, на тонкую косточку между лопаток.
Под его ладонью маленькое тело вздрогнуло, но не отпрянуло. Оно осталось на месте, напряжённое, как струна.
Артём не говорил ничего. Он просто сидел и гладил его спину, медленными, ритмичными движениями. Он не обещал, что всё будет хорошо. Он не говорил, чтобы тот не плакал. Он просто был с ним. Признавал его боль. Признавал его право на эту боль.
И тогда он почувствовал, как под его ладонью напряжение начало понемногу спадать. Плечи Мальчика перестали дёргаться. Дыхание стало чуть глубже, чуть ровнее.
Ничего не изменилось. Мальчик не заговорил. Он не обернулся. Но в густом, липком воздухе комнаты что-то сдвинулось. Лёд тронулся.
Артём сидел так, не зная, пройдут ли ещё сутки или годы, когда снаружи, из-за стены, послышался звук. Не скрип мела. Не шёпот призраков. А другой. Чёткий, ясный, насмешливый мужской голос. Он прозвучал так, будто кто-то включил телевизор в соседней комнате.
«Ну и сентимент, – произнёс голос. Он был удивительно похож на голос самого Артёма, но более отточенный, вышколенный, с идеально поставленными бархатными интонациями. – Сидишь тут, нянчишься со своим внутренним лузером. И что это даст? Силу? Контракты? Уважение? Брось это, Артём. Ты лучше этого».
Артём замер, рука его непроизвольно сжалась на спине Мальчика. Тот снова вздрогнул и съёжился.
«Актёр», – с ненавистью подумал Артём.
Голос за стеной рассмеялся, будто угадав его мысли. Это был красивый, заразительный смех, который он так часто использовал на переговорах.
«Актёр? Милый мой, я – твой единственный шанс. Я – тот, кто вытащил тебя из этой помойки, каковой было твоё детство. Я – твой успех. А это… – Голос сделал презрительную паузу, – это просто пыль. Сентиментальная пыль. Оставь его гнить здесь, с его рисунками. Он тебя только тянет ко дну».
Сердце Артёма заколотилось. Часть его, та самая, что годами слушала этот внутренний диалог, соглашалась. Это было логично. Прагматично. По-взрослому.
Но под его ладонью всё ещё чувствовалось хрупкое, дышащее тепло Мальчика. И он видел незаконченный рисунок на полу – мир, в котором была красота, не имеющая цены в деньгах или статусе.
Он медленно покачал головой, хотя знал, что тот за стеной его не видит.
Нет, – подумал он с новой, незнакомой силой. – Он – часть меня. И я не оставлю его.
Голос за стеной язвительно вздохнул.
«Ну что ж… Как знаешь. Продолжай играть в психотерапию. Но когда тебе надоест эта благотворительность, я буду ждать. Я всегда жду. В Зале Побед».
Голос умолк, оставив после себя гулкую, натянутую тишину.
Артём снова посмотрел на Мальчика. Тот больше не плакал. Он просто сидел, прижавшись к нему, и его дыхание теперь совпадало с дыханием Артёма.
Он не нашёл слов. Не исцелил рану. Но он сделал нечто, возможно, более важное – он признал её существование. Он остался.
И впервые с момента падения в этот Зеркальный Ад он почувствовал не боль и не страх, а нечто, отдалённо напоминающее покой. Хрупкий, шаткий, но покой.
Он знал, что это затишье – лишь передышка. Впереди были другие комнаты, другие битвы. Но первый, самый важный шаг был сделан. Он перестал бежать от самого себя.
Он сидел в комнате с Мальчиком, гладил его по спине и смотрел на яркий, незаконченный мир, раскинувшийся у его ног. Мир, который, возможно, однажды снова станет и его миром.
ГЛАВА 4: Эхо пустого стула
Покой был миражом. Он длился ровно до тех пор, пока Артём не почувствовал, как пол под ним начинает терять твердь. Не проваливаться, а становиться текучим, как чёрная вода за окном. Рисунок Мальчика померк, яркие меловые линии растворились в темноте, словно смытые невидимым приливом. Комната, его старая комната, начала таять, как сахар в воде. Предметы теряли очертания, цвета блекли, превращаясь в размытые акварельные пятна.
Он инстинктивно потянулся к Мальчику, но его пальцы встретили лишь пустоту. Там, где секунду назад чувствовалось тепло маленькой спины, теперь висела холодная, неподвижная пелена. Он не успел даже испугаться, как реальность снова переменилась.
Тишину сменил гул. Низкий, навязчивый гул, исходящий отовсюду. Он оказался сидящим. На стуле. Перед ним был стол, накрытый скатертью с выцветшим узором. Знакомый узор – красные ягодки на кремовом фоне. Стол его детства.
Он был на кухне. Той самой, в старой квартире. Та же люстра с плафонами в виде раскрывшихся цветов, отбрасывающая на стены унылые, пыльные тени. Та же стена, оклеенная дурацкими зелёными обоями с вертикальными полосками, которые он в детстве считал тюремными решётками. За окном – всё та же густая, безжизненная чернота.
И запах. Запах жареной картошки и лука. Тот самый, что витал здесь каждым вечером. Запах, который когда-то ассоциировался с домом, а потом – с тягостным ожиданием.
Он сидел по одну сторону стола. Прямо перед ним, прислонённый к стене, молчал старый телевизор «Электрон» с выпуклым стеклом. Его экран был тёмным, но не выключенным – в его глубине что-то шевелилось, смутные тени и блики, словно отражение пламени в чёрной воде.
Напротив него, по другую сторону стола, сидел отец.
Он был таким, каким Артём помнил его в свои двенадцать-тринадцать лет – ещё не старый, но уже с проседью на висках, с лицом, изборождённым морщинами усталости и невысказанных обид. Он ел. Медленно, механически поднося ко рту вилку с картошкой. Его глаза были опущены в тарелку. Он не смотрел на сына. Он не смотрел никуда. Он просто выполнял функцию.
Это была проекция. Та самая «незавершённая история», о которой говорил Сторож. Ужин. Обычный, бесконечно повторяющийся вечерний ритуал, ставший пыткой молчанием.
Артём почувствовал, как внутри него всё сжимается в тугой, болезненный комок. Это было хуже, чем крик. Хуже, чем ссора. Это была пустота, возведённая в абсолют. Звук тикающих часов на стене грохотал, как удары молота по наковальне.
«Пап», – попытался сказать Артём. Звука не было, но он видел, как губы его отца на мгновение замерли. Казалось, эхо этого беззвучного зова долетело до него.
Отец медленно поднял глаза. Они были пустыми, как у той проекции матери в комнате Мальчика. Он посмотрел сквозь Артёма, уставившись в пространство где-то за его спиной, и снова принялся за еду.
Отчаяние, острое и тошнотворное, подкатило к горлу. Он был здесь, сидел в сантиметрах от него, но их разделяла пропасть в целую жизнь.
Посмотри на меня! – мысленно закричал Артём. – Услышь меня!
Он ударил кулаком по столу. Столкнулся не с деревянной столешницей, а с чем-то упругим, резиновым. Удар не произвёл ни звука, лишь заставил вибрировать его собственное тело. Мир не реагировал на силу.
Артём отодвинул тарелку. Он встал, подошёл к отцу, сел на корточки рядом с его стулом, пытаясь поймать его взгляд.
– Пап, – снова попробовал он, вкладывая в беззвучное слово всю свою накопившуюся за тридцать лет боль. – Мы должны поговорить. О том дне. О том звонке. Я… я не перезвонил. Я знаю.
Ничего. Только ритмичное движение челюстей, хруст жареной корочки. От него пахло потом, махоркой и чем-то металлическим – запахом завода, который он приносил домой каждый день.
Внезапно в темноте экрана телевизора что-то вспыхнуло. Там, в глубине, проступило изображение. Нечёткое, заснеженное, как на старой видеоплёнке. Артём увидел себя. Себя-подростка, лет пятнадцати. Он стоял с гордо поднятой головой, держа в руках школьную грамоту за победу в олимпиаде по математике. Его лицо сияло ожиданием.
Он помнил этот день. Он прибежал домой, полный триумфа, чтобы показать отцу грамоту. А тот, не отрываясь от газеты, буркнул: «Гордиться нечем. По русскому у тебя четвёрка».
И сейчас, здесь, в этой проекции, он ждал той же реакции. Но её не последовало. Отец просто жевал, глядя в пустоту. Телевизор погас.
Артём понял. Это не просто воспоминание. Это ловушка. Ловушка, в которую он сам себя загнал. Он годами ждал от отца того, чего тот никогда не мог дать – одобрения, признания, простого человеческого участия. И эта жажда, это вечное ожидание и стало той самой «незавершённой историей».
Он не мог изменить отца. Он мог изменить только своё отношение к нему.
Отступив, Артём сел на свой стул. Он перестал пытаться до него достучаться. Вместо этого он просто начал говорить. Мысленно, но вкладывая в каждую фразу всю осознанность, на которую был способен.
Я помню, как ты учил меня забивать гвозди. Ты был так терпелив. Ты держал мою руку, пока я не попал по шляпке.
Отец не шелохнулся, но его пальцы, сжимавшие вилку, на мгновение ослабели.
Я помню, как мы ходили в лес за грибами. Ты показывал мне, где растут подберёзовики. Ты молчал всю дорогу, но… мне было с тобой хорошо.
На экране телевизора снова вспыхнуло изображение. Теперь это была та самая лесная тропинка. Солнечные зайчики на мху. Спина отца, уходящего вперёд. И маленькая рука Артёма в его большой, мозолистой ладони.
Я злился на тебя, пап. Все эти годы. За твоё молчание. За твою холодность. Я думал, ты меня не любишь.
Он делал паузы, наблюдая. Проекция отца оставалась неподвижной, но воздух вокруг стал густым, насыщенным невысказанным. Казалось, сама комната прислушивалась.
А теперь я понимаю… ты, наверное, просто не знал, как. Тебя самого, наверное, никто не учил говорить о чувствах. Для тебя любовь – это приходить с работы. Это класть еду на стол. Это молча чинить сломанный велосипед.
Он посмотрел на тарелку отца. На простую, незамысловатую еду. И вдруг с пронзительной ясностью осознал, что это и был его язык. Язык заботы. Примитивный, неуклюжий, но единственный, которым он владел.
Я прощаю тебя, – выдохнул Артём, и эти слова были самыми трудными. – И я прощаю себя. За свою злость. За то, что не понял тебя тогда. За тот звонок…
В тот миг произошло нечто. Отец закончил есть. Он отодвинул тарелку, положил вилку и нож аккуратным крестиком. И затем, впервые за весь этот бесконечный ужин, он поднял голову и посмотрел прямо на Артёма.
Не сквозь него. А на него.
Его глаза были по-прежнему пусты, но в их глубине что-то дрогнуло. Словно далёкая-далёкая молния на горизонте ночного неба.
Он не сказал ни слова. Он просто смотрел. И в этом взгляде, длившемся всего три секунды, Артём увидел всё. И усталость, и немой вопрос, и даже… отблеск чего-то, что могло бы быть сожалением.
Потом отец медленно, с трудом, будто против воли, перевёл взгляд на тёмный экран телевизора.
И телевизор ожил.
Не вспышкой изображения, а звуком. Одинокий, пронзительный звук. Звук телефона. Старого, дискового, с механическим треском. Он звонил один раз. Два. Три.
Артём замер, сердце его бешено заколотилось. Это был тот самый звонок. Последний звонок.
На экране телевизора не было картинки, только ровная серая муаровая рябь, и сквозь неё доносился этот бесконечно одинокий, неотвеченный звонок.
Отец сидел, уставившись в экран, и его лицо оставалось каменным. Но по его щеке, медленно, преодолевая сопротивление, скатилась единственная, чистая, блестящая слеза.
Она была настоящей. Не частью проекции, а чем-то иным. Каплей живой боли, прорвавшей плотину всех этих лет молчания.
Артём не мог дышать. Он видел это. Он видел, что его отец, настоящий, живой отец, где-то там, в реальности, возможно, стоя у его больничной койки, тоже плакал. Или плакал тогда, в тот день, не дозвонившись.
Слеза упала на скатерть, оставив маленькое тёмное пятно.
И комната начала меняться.
Стены поплыли, цвета снова побежали, как акварель под дождём. Стол, телевизор, тарелки – всё начало терять форму. Отец медленно растворялся, словно его фигура была нарисована на воде, и кто-то провёл по ней рукой.
Но прежде чем он исчез полностью, его губы дрогнули. Беззвучно. Но Артём прочитал по ним два слова.
«Прости, сынок».
И всё исчезло.
Артём снова оказался в пустоте. Но на этот раз он не лежал на обсидиановом берегу. Он стоял на коленях, и его тело сотрясали беззвучные, сухие рыдания. Не от горя. А от освобождения. От того, что тяжкий груз, который он нёс в себе всю жизнь, вдруг стал легче. Он не сдвинулся с места, но его вес перераспределился.
Он простил. И был прощён. Не словами, а той единственной слезой.
Когда он поднял голову, он увидел, что стоит в том же зеркальном коридоре, откуда начал путь к комнате Мальчика. Но теперь одно из зеркал в стене было другим. Оно не было тёмным. В нём, смутно, искажённо, но он увидел не просто свой силуэт, а своё лицо. Искажённое болью, но – целое. И в глазах его, впервые за долгое время, был не страх, а понимание.
Из темноты позади него снова донёсся насмешливый голос Актёра, но на этот раз в нём слышалась лёгкая, почти неуловимая трещина.
«Трогательно, до слёз. Буквально. Надеюсь, тебе понравилось это шоу одного актёра? Потому что всё, что ты видел – это лишь твои собственные фантазии. Он никогда бы не попросил прощения. Ты это знаешь».
Артём медленно повернулся к пустоте, откуда доносился голос.
Я знаю, что это было реально для меня, – мысленно ответил он, и его внутренний голос прозвучал твёрже, чем когда-либо. – И этого достаточно.
Голос Актёра язвительно фыркнул, но не стал продолжать. Он отступил.
Артём стоял один в коридоре, глядя на своё отражение. Он прошёл через две комнаты. Две незавершённые истории. Он не «закрыл» их, не поставил жирную точку. Но он сделал нечто более важное – он изменил к ним отношение. Он начал диалог.
Он не знал, какая комната ждёт его следующей. Но теперь он знал, что у него есть сила, чтобы войти в неё. Сила принятия.
Сделав глубокий, ровный вдох, он шагнул навстречу следующей тени своего прошлого.
ГЛАВА 5: Голос из-за двери
Тишина, в которую он провалился, была иной – не безмолвной, а звенящей от неозвученных вибраций. Артём стоял в абсолютной темноте, и лишь эхо от последнего вздоха отца ещё колыхалось в подкорке, как затихающая нота. Он ждал нового витка боли, нового погружения в забытое воспоминание. Но вместо этого его обступила пустота. Густая, тяжёлая, пахнущая озоном после грозы и старыми камнями.
Он был в коридоре. Том самом, бесконечном зеркальном коридоре, откуда начинались все пути. Но сейчас зеркала были тёмными, матовыми, будто покрытыми инеем. В них не отражалось ничего, кроме смутной тени его собственной фигуры.
И тогда он услышал.
Сначала – тихий смех. Глухой, идущий будто из-за толстой стены, но на удивление чёткий. В этом смехе не было радости. Это был смех-оценка, смех-приговор. Он скользнул по нервам Артёма, как лезвие по шёлку.
– Ну что, получил свою порцию катарсиса? – произнёс Голос.
Он был таким, каким его описал Сторож – уверенным, насмешливым, отточенным. В нём слышался собственно Артёмов бархатный тембр, но доведённый до идеала, лишённый всех случайных шероховатостей, всех следов неуверенности. Это был голос, привыкший продавать, убеждать, доминировать.
Артём замер, вглядываясь в тёмные зеркала, пытаясь найти источник.
– Не утруждай себя, – продолжал Голос, и теперь он звучал прямо за его спиной.
Артём резко обернулся. Никого. Только бесконечная перспектива его собственных тёмных отражений.
– Я не в твоём жалком пространстве. Я – в стенах. В воздухе. В самой структуре этой… детской площадки для неудачников, – Голос помедлил, наслаждаясь собственным сарказмом. – Ты действительно думаешь, что та слеза что-то изменила? Что папочка вдруг возлюбил тебя всем сердцем?
Это было реально, – мысленно парировал Артём, чувствуя, как знакомый холодок сомнения ползёт по спине.
– Реально? – Голос рассмеялся снова, и этот смех был похож на лёгкий, изящный удар током. – Дорогой мой, реально лишь то, что можно пощупать, измерить и, желательно, монетизировать. Всё остальное – нейрохимия, иллюзия, порождённая твоим нежеланием смотреть правде в глаза. А правда в том, что он был слабым, сломанным человеком. Как и твоя мать. И ты, следуя их примеру, решил заняться самобичеванием вместо того, чтобы принять простой факт: ты стал сильным вопреки им. И именно я сделал тебя сильным.
Слова падали, как капли кислоты, разъедая только что обретённое хрупкое равновесие. Артём вспомнил «Зал Побед», о котором упоминал Сторож. Коллекцию триумфов. И часть его, та самая, что годами жила этим, с жадностью ухватилась за эту мысль. Да, именно так. Он всего добился сам. Своим умом, своей волей, своим… Актёром.
– Вспомнил? – Голос стал слаще, заговорщицким, словно делился самым сокровенным секретом. – Первая крупная сделка. Тот старый скряга Дмитрий Петрович. Он вёл себя как последний хам, унижал тебя, ты помнишь? Ты вышел в туалет, посмотрел в зеркало, и я сказал тебе: «Надень маску. Стань тем, кого он боится». И ты надел. Ты вернулся и разнёс его в пух и прах. Ты получил контракт. Ты получил уважение. Я это сделал. Не твой плаксивый мальчик в песочнице. Не та тень, что рычит в подвале. Я.
Артём сжал кулаки. Он помнил тот день. Помнил вкус победы. И помнил странную пустоту, наступившую после, когда маска отлепилась от лица, оставив кожу онемевшей.
Ты сделал из меня марионетку, – бросил он мысленный вызов.
– Я сделал из тебя Победителя! – Голос внезапно вспыхнул гневом, и это был первый сбой в его идеальной дикции. – Я спасал тебя раз за разом! Когда та дура Лиза бросила тебя, кто заставил тебя встать, одеться и пойти на вечеринку, где ты познакомился с тем самым клиентом из Дубая? Я! Когда ты провалил тот проект в институте, кто написал за тебя блестящую, хоть и абсолютно лживую, объяснительную записку? Я! Я – твой щит и твой меч. А они… – он язвительно фыркнул, – они предлагают тебе просто… сдаться. Принять свою слабость. Стать таким же никчёмным, как они все.
Внезапно одно из тёмных зеркал в стене просветлело. В нём возникло изображение. Артём увидел себя – в идеально сидящем костюме, он стоял на сцене перед сотнями людей. Его лицо было спокойным и уверенным, жесты – отточенными и властными. Зал смотрел на него с восхищением. Это был триумф. Это был Актёр в его лучшей роли.
– Смотри, – прошептал Голос, уже снова полностью владея собой. – Смотри, кем ты можешь быть. Сила. Уважение. Контроль. Всё это твоё. Просто перестань копаться в этом психиатрическом отстойнике и вернись ко мне. Мы отстроим «Вершину». Мы будем править этим городом. Мы будем…
Изображение в зеркале вдруг дрогнуло. Уверенное лицо на сцене на мгновение исказилось, стало напряжённым. В глазах мелькнула паника. Исчезла так же быстро, как и появилась. Но Артём это уловил.
Ты боишься, – вдруг осенило его.
Голос замолчал. Впервые за всё время в его тишине почувствовалось напряжение.
Ты боишься, что я их услышу. Что я найду в их «слабости» что-то настоящее. Что-то, что сильнее тебя.
– Не смей… – Голос прозвучал тихо, но с опасной, шипящей ноткой.
Ты боишься, что, когда я соберу все осколки, тебе в этом новом зеркале не найдётся места. Что ты – всего лишь пустая рамка.
– Я – твоё лицо для этого мира! – взорвался Голос. Его крик прокатился по коридору, заставив вибрировать тёмные зеркала. – Без меня ты – никто! Нищий художник, плакса, неудачник! Ты вернёшься к своим рисункам и будешь влачить жалкое существование, пока не сгниёшь в безвестности, как твой отец!
Эти слова, такие жестокие и такие… знакомые, обрушились на Артёма всей своей тяжестью. Это был его собственный, самый глубинный страх, облечённый в плоть и кровь. Страх, который годами гнал его вперёд по карьерной лестнице, заставляя работать на износ.
Он закрыл глаза, пытаясь отгородиться от этого наваждения. И в темноте своих век он снова увидел Мальчика. Не плачущего, а сосредоточенно рисующего. Увидел слезу отца. Услышал тишину, которая была не пустой, а наполненной смыслом.
Он открыл глаза и посмотрел прямо в то зеркало, где секунду назад был его триумф. Теперь оно снова было тёмным.
Ты ошибся, – мысленно сказал он, и его внутренний голос приобрёл новую, стальную твёрдость. – Ты – часть меня. Важная часть. Ты помогал мне выживать. Но выживать – это не значит жить. И теперь… теперь я учусь жить. А для этого мне нужны все части. Даже те, что ты называешь слабыми.
Он повернулся и пошёл прочь от того места, откуда доносился Голос.
– Куда ты?! – Голос зазвучал снова, но теперь в нём слышалась не злоба, а почти паническая настойчивость. – Вернись! Без меня ты заблудишься! Ты не знаешь, что ждёт тебя впереди!
Артём не оборачивался. Он шёл по коридору, и с каждым шагом матовые зеркала по бокам начинали понемногу светлеть, отражая уже не тьму, а его собственную фигуру – уставшую, измождённую, но идущую вперёд.
– Там есть монстры, Артём! – кричал ему вслед Голос, и его голос начал терять чёткость, становясь эхом. – Монстры, которых ты сам создал! Я единственный, кто может их контролировать! Вернись!
Но Артём уже не слушал. Он вышел к развилке. Один коридор уходил вниз, в полную, непроглядную тьму, откуда доносился низкий, угрожающий рык. Другой – вёл вверх, по едва заметной лестнице, и оттуда веяло запахом увядших цветов.
Голос Актёра окончательно растворился, оставив после себя лишь лёгкий, ядовитый привкус страха в воздухе.
Артём постоял на развилке, прислушиваясь к рыку из подвала. Это была Тень. То, чего он боялся больше всего. Но теперь он знал, что бежать от неё бесполезно. Рано или поздно ему придётся спуститься вниз.
Но не сейчас.
Собравшись с духом, он шагнул вперёд, выбрав тот путь, который вёл наверх. К следующей комнате. К следующему уроку.
А где-то далеко, в самых потаённых уголках Зеркального Зала, чей-то уверенный, насмешливый голос тихо, с ненавистью, прошептал всего два слова:
«Жалкий неудачник».
ГЛАВА 6: Первая трещина
Лестница, ведущая наверх, оказалась не каменной, а словно сотканной из спрессованного тумана. Ступени пружинили под ногами, поглощая звук шагов. Воздух густел с каждым пролётом, наполняясь тяжёлым, сладковатым ароматом, в котором угадывались ноты пыльцы, мёда и чего-то безвозвратно увядающего. Это был запах памяти, лишённой свежести, запах прошлого, которое уже никогда не станет настоящим.
Артём поднимался, и стены вокруг менялись. Гладкий зеркальный камень сменялся тёмным деревом, испещрённым глубокими царапинами – будто кто-то точил о него когти. Потом дерево уступило место штукатурке, с которой облезала краска, обнажая слои старых обоев с чужими, незнакомыми узорами. Казалось, он шёл не вверх, а сквозь время, сквозь пласты своих же забытых обиталищ.
Наконец лестница закончилась. Перед ним была дверь. Не монументальная, как у Стража, и не ностальгически-узнаваемая, как в детской. Это была простая, серая, безымянная дверь, какая могла бы вести в офисное хранилище или в подсобку старого театра. Из-под неё струился тусклый, мерцающий свет, и доносился приглушённый гул голосов.
Он толкнул дверь, и его охватил внезапный, тошнотворный мандраж. Он узнал это место. Не в деталях, а костной памятью, спазом в глубине живота.
Конференц-зал. Тот самый, в его первом месте работы, крошечном рекламном агентстве «Вектор». Воздух был спёртым, пахло дешёвым кофе, пылью от проектора и потом человеческого страха. За длинным столом из светлого дерева сидели человек десять. Молодые, невыспавшиеся, с напряжёнными лицами. Шло еженедельное планерочное истязание.
И он был среди них. Артём-двадцатитрёхлетний. Сидел, сгорбившись, втиснувшись в свой дешёвый, плохо сидящий костюм. Его пальцы нервно перебирали ручку. На столе перед ним лежала папка с его проектом – смелой, почти безумной концепцией для нового сока «Ягодный взрыв». Он неделю не спал, вынашивая её. Это была его кровь, его плоть, его ребёнок.
А напротив, во главе стола, восседал босс. Олег Станиславович. Человек с лицом бульдога и душой бухгалтерской книги. Он что-то говорил скучным, гнусавым голосом, и все кивали с одинаково пустыми глазами.
Артём-настоящий стоял у стены, невидимый, как призрак. Он смотрел на своего двойника и чувствовал, как в груди закипает знакомая, едкая смесь страха и надежды.
– Гордеев, – внезапно произнёс Олег Станиславович. – Что у тебя там? Говори, да поживее.
Молодой Артём вздрогнул, словно хлестнули по нему. Он неуверенно поднялся, подошёл к проектору. Его руки дрожали, когда он вставлял свою презентацию.
– Коллеги, я предлагаю полностью отказаться от скучных форм, – его голос срывался, был слишком тихим. – Представьте… не просто упаковку. А взрыв. Форму неправильную, как лопнувший фрукт. Цвета кислотные, неоновые. Слоган… «Разорви шаблон!»
Он говорил. Говорил увлечённо, с искрой, которая когда-то горела в его глазах. Он рисовал словесные картины, жестикулировал. Это была чистая, нефильтрованная креативность. Та самая, что жила в Мальчике с мелом.
В зале повисла тишина. Кто-то скептически хмыкнул. Кто-то зевнул.
Олег Станиславович смотрел на него, как на насекомое.
– Это что вообще такое? – наконец произнёс он. – Взрыв? Шаблон? Гордеев, мы продаём сок, а не устраиваем психоделический трип для хиппи. У нас целевая аудитория – матери семейств, а не наркоманы. Садись. Не позорься.
Молодой Артём стоял, побелев, как полотно. Искра в его глазах погасла, затоптанная сапогом реальности. Он был уничтожен.
И тут Артём-настоящий почувствовал это. Тот самый момент. Тот самый выбор. Он видел, как в его двойнике что-то сломалось. И как на обломках тут же начала выстраиваться новая структура.
Он видел, как по лицу молодого Артёма проползла тень. Лёгкая, едва заметная улыбка. Плечи расправились. Взгляд из потерянного стал… расчётливым.
– Вы абсолютно правы, Олег Станиславович, – сказал его двойник, и голос его стал твёрже, глаже. Это был первый, пробный звук голоса Актёра. – Я просто хотел протестировать границы восприятия. Но, разумеется, классика всегда надёжнее. Я подготовил второй, более консервативный вариант. Яблочко на зелёном фоне. Слоган: «Натуральная сила».
Босс медленно кивнул, довольный. Кто-то из коллег одобрительно заёрзал на стуле.
А молодой Артём стоял и улыбался. Пустой, победоносной улыбкой. Он только что совершил своё первое настоящее предательство. Предательство самого себя.
И Артём-настоящий не выдержал.
НЕТ! – мысленный крик вырвался из него с такой силой, что воздух в конференц-зале задрожал.
Он не думал. Он действовал. Он шагнул вперёд, к своему двойнику, к тому, кто с такой лёгкостью отрёкся от всего святого.
– Посмотри на него! – закричал он, тыча пальцем в призрачного босса. – Он посредственность! Ты был прав! Твоя идея была гениальной! Она могла бы изменить всё!
Но его двойник не видел и не слышал его. Он продолжал улыбаться, принимая фальшивые поздравления.
Ярость, тёмная, слепая, поднималась из самого нутра Артёма. Ярость на босса. На систему. На коллег. Но больше всего – на самого себя. На этого улыбающегося предателя в дешёвом костюме.
Он огляделся. Его взгляд упал на стену. Там висело большое овальное зеркало в позолоченной раме – типичный атрибут дешёвого пафоса. В нём отражалась вся сцена: его униженный двойник, довольный босс, и он сам – призрак с искажённым от гнева лицом.
Этот гнев был знаком. Он был старым, как мир. Это был гнев, который он всегда подавлял, загонял глубоко внутрь, потому что «злиться – некрасиво», «гнев разрушителен», «мужчины не злятся, они действуют».
Но сейчас этому гневу было на что опереться. На боль Мальчика. На молчание отца. На предательство самого себя.
С рыком, который вырвался наконец из самой глубины его существа, Артём взмахнул кулаком. Он не целился. Он бил. Бил в отражение. В этого улыбающегося двойника. В босса. Во всю эту ложь, в которую он сам себя загнал.
Его кулак со всей силой обрушился на зеркало.
Раздался оглушительный, хрустальный треск. Не такой, как при аварии, а более личный, более яростный.
Зеркало не разлетелось на осколки. От его центра во все стороны поползла одна-единственная, но глубокая, зияющая трещина. Она разделила отражение пополам, искривив все лица в гримасах.
И в тот же миг мир содрогнулся.
Конференц-зал затрепетал, как от подземного толчка. Свет ламп погас и замигал аварийной желтизной. Лица людей за столом поплыли, расплылись, как под дождём чернильные кляксы. Стол, стулья, проектор – всё начало терять форму, превращаясь в абстрактные пятна цвета.
Но это было не всё.
Трещина на зеркале не исчезла. Она осталась висеть в воздухе, чернея, как шрам на самой реальности. И через неё, из её тёмной глубины, хлынул… звук.
Не голос Актёра. Не рык Тени. Это был низкий, мощный, неоформленный гул. Гул самой Ярости. Он был полон рёва двигателя, лязга металла, сдавленного крика и первобытного, животного рычания. Он был таким плотным, что его почти можно было потрогать.
Артём стоял, тяжело дыша, и смотрел на свою руку. На ней не было ни крови, ни ссадин. Но он чувствовал жгучую боль – не физическую, а боль высвобождения.
Он это сделал. Он позволил себе гнев. Настоящий, ничем не сдержанный.
И мир не разрушился. Он… изменился.
Трещина в воздухе медленно начала зарастать, но не исчезла полностью. Она осталась едва заметной, фантомной линией, искажающей пространство вокруг себя. Теперь она была частью Зеркального Зала. Его первым шрамом. Его первой правдой.
Конференц-зал исчез. Артём снова стоял в зеркальном коридоре. Но теперь все зеркала вокруг него были испещрены той самой трещиной. В каждом отражении его лицо было разделено надвое. С одной стороны – он сам, с глазами, полными шока и осознания. С другой – смутный, искажённый силуэт, в котором угадывались черты и Мальчика, и Актёра, и чего-то третьего, тёмного и могучего.
