Сокровища Черного Бартлеми
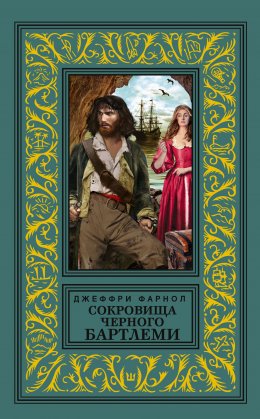
BLACK BARTLEMY’S TREASURE
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2025
Пролог
Француз рядом со мной умер еще на рассвете. Его израненное, закованное в кандалы тело при каждом взмахе огромного весла бессильно покачивалось вперед и назад, в то время как мы, его менее удачливые товарищи по галере, тянули из последних сил, чтобы попадать в такт.
Я видел, как умерли уже двое рядом со мной, но смерть до сих пор обходила меня стороной, несмотря на боль от ударов кнута, несмотря на изнурительный труд и тяжкие испытания, силы мои все прибывали. Мышцы на руках и ногах, почти почерневших от палящего солнца, сделались твердыми и узловатыми, в моем теле, покрытом рубцами от ударов кнута, все еще теплилась жизнь – моя душа не желала уступать смерти. Но казалось, я и не мог умереть – обретя тем самым блаженный покой и положив конец бесчисленным страданиям, – как сделал этот француз, который среди всех этих несчастных, что были вокруг, был единственным, с кем я хоть как-то подружился. Он умер, как я уже сказал, на рассвете, умер так тихо, что я сначала подумал, что он только потерял сознание, и мне стало жаль его, но, когда я все понял, жалость сменилась горечью.
И вот, изо всех сил налегая на тяжелое весло, я сквозь сжатые зубы произносил молитву, которую часто повторял и раньше; а молил я вот о чем:
«О Боже праведный! За все мои нескончаемые страдания, за кровавые удары кнута и горькие муки дай мне силы отомстить, отомстить, о Господи, врагу моему!»
Так я молил, хрипло и тяжело дыша, и пот катился с меня струйками, а я уставился в голую спину того, кто греб впереди меня, – когда-то это был огромный, толстый малый, а теперь кожа у него свисала бесчисленными складками повсюду, где были следы ударов кнута, местами свежие и кровоточащие, многократно пересекавшиеся между собой и образующие рисунок на манер кружева.
«О Господи! Воздай по справедливости врагу моему! И если уж мне нельзя умереть, то дай мне дожить до того, когда буду отомщен; за мои муки и страдания позволь мне увидеть его страдания. Господи! Ведь Ты справедлив. Так дай же мне, справедливый Боже, дай мне силы отомстить!»
Солнце поднималось все выше и выше над нами, обжигая наши голые спины и тем самым причиняя нам новые мучения, пробуждая боль старых ран и добавляя к ним новую, еще более острую.
То и дело раздавалось щелканье бичей надсмотрщиков, а за ним пронзительный крик содрогающейся плоти – крик, в котором не было ничего человеческого, переходящий в вой и теряющийся в шуме и суматохе, царивших на огромной трехмачтовой галере. Но сквозь гул хриплых голосов матросов, сквозь лязг оружия и тяжелый топот ног, сквозь скрип и треск длинных весел всегда был еще один звук, он то усиливался, то стихал, но никогда не прекращался, монотонный и негромкий, подобный звуку завывающего в верхушках деревьев ветра, тихий протяжный стон – это был крик нашей боли, когда мы, несчастные страдальцы, из последних сил старались вести огромный галеас «Эсмеральда» по заданному курсу.
К тому же весло, к которому я был прикован вместе с тремя другими невольниками, сильно треснуло, но матросам удалось укрепить его прочной полосой из железа шириною около шести дюймов. И вот случилось так, что я мог доставать до этой полосы и с каждым взмахом весла, день за днем, беспрестанно, так что это даже вошло у меня в привычку, тереться об этот железный обруч звеньями моей цепи, отчего они сделались гладкими и блестящими.
Губы мои еще продолжали шептать слова молитвы, когда, случайно взглянув на одно из этих звеньев, я заметил нечто такое, отчего сердце бешено заколотилось в груди и кровь забушевала у меня во всем теле; это была всего лишь крохотная, не толще волоска, едва заметная глазу черточка, выступившая на гладкой поверхности звена цепи; но, когда я коснулся его, эта черточка-волосок разрослась и увеличилась: стоило мне лишь резко дернуть – и я свободен. Это привело меня в такой восторг, что мне стоило большого труда сдержаться, и, когда я немного времени спустя поднял глаза к небесам, вспыхнувшим розовым светом зарождающегося дня, мне показалось, что Бог все же услышал мою молитву.
Вскоре в центральном проходе с хлыстом в руках появился не кто иной, как этот проклятый португалец Педро, старший надсмотрщик, и, издалека завидев поникшее тело француза, тотчас же разразился ругательствами на своем отвратительном языке и с размаху щелкнул хлыстом. Они так часто упражнялись, что теперь стали очень искусными в обращении с этими самыми хлыстами, настолько искусными, что могли одним ловким ударом нанести вам такую глубокую рану, какая бывает только от удара ножом и которую не смог бы вынести никто, не закричав при этом от жгучей, нестерпимой боли.
– Ах ты, ленивая собака! – заорал он. – Ты что же это, вздумал валяться тут и храпеть в свое удовольствие, когда Педро на борту?
И при этих словах длинный хлыст со свистом взлетел над французом и, как выстрел, обрушился на его голую спину.
И вот он (который, казалось, был мертв) вдруг пошевелился. Я видел, как дернулось покрытое рубцами тело, глаза открылись, бессознательно, невидяще вращаясь, и мертвенно-бледное лицо исказилось в чудовищной муке; но в тот же момент черты страдания на нем разгладились, безумные глаза озарил чудесный свет, и, издав протяжный радостный крик, он упал лицом вниз прямо на древко весла и повис на нем. И тут же этот проклятый Педро вновь взялся за свой хлыст и принялся бить усердно, прямо с удовольствием, но, видя, что француз не шевелится и кровь почти уже не течет, вскоре остановился и приказал всем нам прекратить грести. Этой внезапной передышки мне было достаточно, чтобы понять, как сильно затекли мои больные конечности, особенно левое запястье и лодыжка, на которых кандалы образовали огромные язвы.
Ветер почти стих, и поднялись эти жаркие тошнотворные испарения, это удушающее зловоние, подобного которому не сыскать на земле, за исключением, пожалуй, этой плавающей преисподней, такое, что если человек почувствовал его однажды, то уже не забудет никогда.
Через некоторое время вернулся Педро с одним из матросов и, убедившись разными способами, что француз и в самом деле мертв, они разрубили кандалы у него на руке и на ноге, при этом им пришлось освободить и меня (так как мы с ним были прикованы одной цепью), и, привязав к его ногам огромное пушечное ядро, приготовились бросить его за борт.
И тут, увидев, что никто не следит за мной, я разломил пополам треснувшее звено и освободился, если не считать тяжелой цепи, сковывавшей мне ногу. Наклонившись, я поднял эту цепь и затаился, готовясь броситься к фальшборту, но вдруг, в этот самый миг вспомнив, сколько страданий перенес, находясь в руках проклятого Педро, я повернулся и, обмотав вокруг руки разорванную цепь от весла, стал подкрадываться к тому месту, где он стоял и наблюдал за матросами. Он стоял ко мне спиной, и, когда повернулся, я был уже в ярде от него; увидев меня, он издал крик и занес хлыст, но прежде, чем удар успел обрушиться на меня, я прыгнул и ударил его. Мой обмотанный железом кулак пришелся ему прямо промеж глаз. Он лежал, а я смотрел на его разбитое, ставшее месивом лицо и думал, что надсмотрщик Педро больше никогда не будет истязать людей.
Затем, не собираясь быть насмерть забитым хлыстами или проткнутым насквозь, я повернулся и прыгнул к борту корабля, но цепь на ноге мешала мне и причиняла чудовищную боль, и прежде, чем я успел взобраться на фальшборт, на меня напали сзади. Так что мне пришлось повернуться к ним, чтобы встретить смерть лицом к лицу в борьбе и не дать им повалить меня на колени, не дать множеству рук схватить и тащить меня, бесчувственного от невыносимых побоев, со связанными руками и совершенно беспомощного, тащить через палубу на корму, где, открытый для всеобщего обозрения, был установлен столб для бичевания. Но я все сражался, извергая на них всевозможные проклятия, французские, испанские и английские, все самые отвратительные ругательства, каким только научился на галере, ибо для меня лучше было погибнуть сразу, чем преодолевать те муки и страдания, что выпали на мою долю. И все же они не собирались меня убивать (так как рабы были в цене, а я был здоровый и сильный), вот почему я перестал сопротивляться, позволил им разрубить мои кандалы и привязать меня к столбу, что они и бросились делать. Они еще не закончили, когда с топ-мачты раздался громкий окрик, и сразу же началась ужасная суматоха: люди забегали в разных направлениях, смеясь и крича что-то друг другу, одни застегивали на ходу доспехи, другие бросились к орудиям, и все поворачивали взоры и указывали в одном направлении; но, оглянувшись и изогнувшись, насколько мог, из-за высокой переборки я не смог увидеть никакого другого паруса.
Вдруг все голоса разом смолкли, и на корме появился капитан Дон Мигель в черных доспехах. Он долго и пристально смотрел вдаль, туда, откуда дул ветер, и облаченной в латную рукавицу рукой подал знак, по которому помощники сразу забегали: одни – чтобы обойти длинные шеренги аркебузьеров, другие – чтобы проверить, как ставят паруса и прочие снасти.
И за ужасающим щелканьем хлыстов послышались стоны и вопли и выкрикиваемые проклятия, и сразу же длинные весла заработали в более быстром ритме. Со своего места, к которому был прикован, я мог сверху видеть несчастных, обнаженных страдальцев, которые все как один раскачивались, изо всех сил стараясь попадать в такт.
В течение, наверное, получаса продолжалось преследование, и потом вдруг весь корабль содрогнулся от залпа одной из передних пушек; и сразу же, когда огромный галеас, послушный движению руки Дона Мигеля, сменил курс, я увидел на расстоянии каких-нибудь пол-лиги с наветренной стороны возвышающуюся корму корабля, который мы преследовали, чьи размеры постепенно увеличивались по мере того, как мы догоняли его, пока наконец он не стал виден совсем отчетливо. Это был небольшой корабль, и по его строению я понял, что он, без всякого сомнения, английский, даже если бы не увидел на его бизань-мачте развевающийся английский флаг. И тут меня одолела острая тоска, одолела настолько, что его высокие, побитые бурями борта, его возвышающиеся мачты и потрепанные, все в заплатах паруса приняли вдруг смутные и неясные очертания.
Уже трижды взревели наши орудия, а он (хоть и был уже настолько близко, что я мог различить каждую его снасть) никак не отвечал на наши залпы. Немного времени спустя наши пушки смолкли, и тогда, посмотрев вокруг, я увидел Дона Мигеля, стоявшего у румпеля, и его спокойный взгляд был, как всегда, направлен в сторону противника; и тут я понял его смертоносный замысел, и мне стало страшно за английский корабль, и, затаив дыхание, я принялся молиться, потому что у нас на борту было оружие куда более страшное, чем любая пушка, когда-либо отлитая, – длинный острый подводный таран.
Английское судно было теперь так близко, что я мог разглядеть зияющие дула его орудий, а его высокие закругленные борта, казалось, возвышались теперь над нами. Наблюдая за ним с полным жалости и страха сердцем, я увидел, как из-за ограждавших кормовую часть судна перил показалась голова, очень круглая голова, на которой была красная матросская шапка. Показался клуб дыма, раздался залп, и один из помощников Дона Мигеля, вскинув руки, закачался и рухнул, гремя доспехами. Когда я вновь посмотрел туда, где была красная шапка, она уже исчезла. Но Дон Мигель ждал, молчаливый и спокойный, как всегда. Вдруг он сделал знак рукой, я увидел, как зашевелился рулевой, спеша выполнить его приказ, воздух огласился громкими командами, весла по правому борту пришли в движение, левый борт сильно качнулся, и огромная «Эсмеральда», развернувшись почти во всю свою длину, двинулась прямо на борт противника.
Никогда не видел, чтобы подобное было проделано лучше, и я стиснул зубы и стал ждать оглушительного треска, от которого английский корабль должен был пойти ко дну, но… о, чудо! Его скрипящий корпус развернулся по ветру, который теперь дул изо всех сил, и, накренившись вправо, он ушел с курса под правильным углом, и оба судна, как и прежде, пошли параллельным курсом. Но мы подошли уже настолько близко, что, когда проходили мимо, я услышал ужасающий треск наших весел, которые одно за другим начали ломаться о его борт, отбрасывая тех, кто был посажен грести, в шевелящиеся окровавленные груды.
И теперь из всех английских пушек вырывалось ревущее пламя, воздух огласился криками и стонами и треском расщепляемой древесины, и сквозь клубы дыма я мог разглядеть, что многие из наших солдат лежат в искаженных, немыслимых позах, а другие, стеная, ползут на четвереньках; но на залитые кровью скамьи гребцов я не осмеливался взглянуть.
Бой делался все горячее, все громче становились шум и суматоха и непрекращающийся грохот пушек, и посреди всего этого вышагивал взад и вперед Дон Мигель, спокойный, как всегда, и клинок его длинной рапиры сверкал то там, то здесь, указывая, куда направить огонь.
В небо поднимался густой, плотный дым, но сквозь образующиеся в нем просветы я то и дело мог мельком видеть пробитый, почерневший борт английского корабля и беспорядок и неразбериху, царившие на наших палубах. Дважды ядро пробило доски прямо рядом со мной, а один раз ударило в сам столб, к которому я был привязан, и в какой-то момент у меня даже появилась надежда освободиться, потому что, как бы я ни боролся, двигаться все равно не мог, и это приводило меня в полнейшее отчаяние, потому что я был уверен, что в дыму и неразберихе мне бы удалось нырнуть за борт незамеченным и, может быть, даже добраться до английского корабля.
Медленно и постепенно наш огонь ослабевал, одна за одной пушки смолкали, и вместо их пальбы теперь были другие, более отвратительные звуки, звуки человеческих страданий. И вот когда я стоял так и глаза мои резало от горелого пороха, а в ушах все грохотало, до меня вдруг дошло, что палуба как-то странно накренилась. Сначала я не обратил на это особого внимания, но с каждой минутой крен все увеличивался, и тогда я понял, что мы тонем и, более того (судя по углу погружения), идем кормой вниз.
И вот, побуждаемый той жаждой жизни, которая сидит в каждом из нас, я изо всех сил стал стараться освободиться, но, увидев вскоре всю бесплодность этого, я поддался отчаянию и, оставив всякие попытки, огляделся по сторонам, так как дым уже рассеялся. Огромный галеас представлял собою поистине ужасающее зрелище: палубы его были разворочены, повсюду валялись груды мертвых тел, искореженные снасти и пушки, все было забрызгано и залито кровью, а на разбитых вдребезги скамьях гребцов, заваленных окровавленными трупами, среди тел большей частью уже безмолвных еще шевелилось несколько, громко и пронзительно кричащих.
На корме не оставалось никого, кроме меня и тех, кто погиб, а впереди оставшиеся в живых дрались между собой, чтобы первыми залезть в шлюпки, и везде царили смятение и беспорядок.
Так наблюдая за тем, что происходит вокруг, я заметил Дона Мигеля, лежавшего среди обломков разбитой пушки; лицо его было обращено в мою сторону и было таким же, каким я видел его сотню раз, только теперь на щеке его была кровь. И в этот момент его взгляд, прямой и открытый, встретился с моим. Какой-то миг он лежал бездвижно, потом лицо его дернулось от невероятного усилия, и он медленно приподнялся на локте, огляделся вокруг и снова посмотрел на меня. Потом я увидел, как рука его сползла вниз и стала слабо нащупывать кинжал, висевший у него на поясе, – и все же с третьей попытки ему удалось вытащить лезвие, и он пополз в мою сторону. Медленно, с большим трудом он продвигался, превозмогая боль, и я услышал, как однажды он даже застонал, но он не останавливался, пока не приблизился на расстояние удара; а поскольку он был тяжело ранен и вдобавок сильно ослаб, то был просто вынужден на некоторое время сделать передышку. И когда его спокойные глаза встретились с моими, я собрался с духом, чтобы, если нужно, не дрогнув, встретить удар. Он опять поднялся, медленно занес руку, кинжал сверкнул и опустился, своим острым лезвием перерезая веревки, которыми я был связан, я напрягся и освободился, и теперь стоял как во сне, глядя в эти спокойные глаза. Затем, подняв слабую руку, он указал на разорванные в клочья паруса английского корабля, стоявшего совсем близко, и, положив голову на руку, будто очень устал, он вздохнул; и я понял, что вместе с этим вздохом жизнь оставила его.
Я повернулся и увидел, что нахожусь в одном прыжке от перил, ограждающих кормовую часть судна, и, не взглянув назад, на кровавое опустошение, прыгнул за борт.
Обжигающая морская вода, казалось, колола меня мириадами острых игл, но ее сладостная прохлада была удивительно приятной для моего выжженного солнцем тела, когда, вынырнув на поверхность, я быстро поплыл к английскому кораблю, невзирая на боль, причиняемую мне цепью.
Подплыв к его высокой корме, я увидел свисающие оттуда спутанные снасти и канаты, по которым рассчитывал взобраться на борт, и там заметил человека в красной матросской шапочке, который сидел на обломках одной из кормовых пушек и, помогая себе зубами, завязывал рану на руке; увидев меня, он вытаращил на меня свои голубые глаза и кивнул.
– Добро пожаловать, парень! – произнес он, перевязав наконец руку так, как ему хотелось. – Понимаешь ли ты, парень, добрую английскую речь?
– Так точно, – ответил я.
– Тогда почему бы тебе не быть свидетелем, что я был само терпение и милосердие? Будь свидетелем, что я сдерживал огонь и не стрелял так долго, как только может истинно милосердный человек, ведь я знал, что может понаделать бортовой залп, попав в битком набитые гребные скамьи – сам-то я тоже был когда-то гребцом на одной из этих чертовых испанских посудин, – и я сдерживал огонь до тех пор, пока проклятый корабль не подошел совсем близко и пока меня не полоснуло, – однако и милосердию есть предел. Я Тимоти Спенс, капитан «Тигра», возвращаюсь в лондонский порт, потеряв после боя пятерых отличных товарищей. А ты парень что надо! Иди на нос к боцману, ты его сразу узнаешь – у него нет уха по правому борту. Вот что, парень, попроси у него себе какую-нибудь одежду прикрыть наготу, и… О-о! А вот и твой проклятый корабль!..
Обернувшись, я увидел, как острый нос «Эсмеральды» поднимается все выше и выше, и с протяжным булькающим ревом огромный галеас кормой вниз пошел ко дну, чтобы навсегда сокрыть там от людских глаз свой позор.
Так я, на борту «Тигра», пустился в плавание с капитаном Тимоти Спенсом, свободный человек после пяти лет мучений.
Глава 1
Что приключилось в Пэмбери-Хилл
Была ненастная ночь с дождем и ветром, который свирепо бушевал, наполняя окрестности дикими завываниями, время от времени раздавались раскаты грома, и молнии, рассекая мрак, били прямо в грязную дорогу, извивающуюся меж высоких, поросших травой и деревьями склонов. Ветер кружил сломанные сучья, которые ударяли меня в темноте, и огромные ветви простирали невидимые руки, чтобы схватить меня, но я упорно продолжал свой путь, ибо каждый шаг приближал меня к тому моменту, моменту мести, о которой я так молил и ради которой жил. И вот с непокрытой головой, радостно открытой навстречу непогоде, сжимая крепкий посох, который я сделал себе из кола изгороди, я взбирался по крутому склону Пэмбери-Хилл.
Достигнув наконец вершины, я вынужден был остановиться, чтобы перевести дыхание и укрыться, насколько это было возможно, с наветренной стороны, потому что здесь, на возвышенности, дождь хлестал меня еще больше, а ветер сбивал с ног с удвоенной силой.
И вот, стоя так в кромешной завывающей тьме, спиною к склону и обратив лицо навстречу буре, я услышал какой-то странный звук, пронзительный и прерывистый, который доносился до меня в промежутках между ревущими порывами ветра, звук, появлявшийся и исчезавший, который то был слышен отчетливо, то становился неясным и отдалялся, и я гадал, что бы это могло быть. Вдруг кривая вспышка молнии рассекла пополам ревущий мрак, и я увидел в ослепительном свете черный столб с перекладиной, на котором скрипели ржавые железные цепи, а на них висело нечто черное, сморщенное и мокрое от дождя, нечто вызывающее ужас и, болтаясь из стороны в сторону от порывов неистового ветра, казалось, так и старалось освободиться и свалиться мне прямо на голову.
И вот, вслушиваясь в этот мрачный скрип цепей, я погрузился в размышления. Этот ужасный предмет, подумал я, когда-то был человеком, здоровым и сильным, таким же, как я, но этот человек преступил закон (как намеревался сделать и я), и вот теперь его тело будет висеть здесь на цепях, пока не сгниет, как может произойти в один прекрасный день и с моим собственным телом. И когда я вслушивался в пронзительный звон его оков, меня пронизало отвращение, и я содрогнулся. Но дрожь прошла, и, исполненный тщеславной гордости, я ударил посохом о грязную землю у моих ног и поклялся себе, что ничто на свете не помешает мне осуществить мою справедливую месть, и тогда – будь что будет; и раз мой отец умер не своей смертью и принял чудовищные мучения, так пусть та же участь постигнет врага рода моего; и за те страдания, которым он подверг меня, пусть он тоже узнает страдания. Я вспомнил, какой длительной и смертельной была наша наследственная вражда, которая передавалась из поколения в поколение, мрачная, запятнанная кровью история жестоких обид, столь же жестоко отплачиваемых. «Ненавидеть, как Брэндон, и отомстить, как Конисби!» Эти слова с незапамятных времен стали поговоркой в наших южных краях; и теперь он был последним из своего рода, как я из своего, и я выбрался бы даже из преисподней, только бы сделать так, чтобы эти слова могли осуществиться. Скоро, всего через несколько часов, с враждой будет покончено раз и навсегда, и род Конисби будет навеки отомщен. Размышляя таким образом, я обратил внимание, что буря уже не свирепствует вокруг, а гремят только цепи на виселице. Я посмотрел наверх и, подняв посох, постучал им по этому черному сморщенному предмету и принялся громко и неистово хохотать, но тут все осветилось ярким светом вспыхнувшей молнии, раздался такой удар молнии, от которого затряслась земля, и налетел шквал ревущего ветра, и вдруг наступила благоговейная тишина; и в этой тишине я услышал шепот:
– О боже милостивый!
Где-то в темноте, совсем близко плакала женщина. Невольно я обернулся в ту сторону, тщетно пытаясь разглядеть что-либо в ночи, но тут снова вспыхнула молния, и я увидел завернутую в плащ с капюшоном фигуру, жавшуюся к обочине дороги, и, когда вспышка погасла и снова наступила темнота, проговорил:
– Женщина, это виселица напугала тебя или я? Если виселица, тогда иди поскорее прочь, если я – не бойся.
– Кто вы? – раздался едва слышный голос.
– Всего лишь скромный путник, столь же безобидный, как и этот бедняга, что болтается там наверху.
Темная фигура приблизилась, и сквозь неистовый шум бури до меня донесся ее голос, который страстно молил:
– Сэр… сэр, не поможете ли вы одному человеку, которому грозит страшная беда и опасность?
– Тебе?
– Нет… не мне, – задыхаясь, проговорила она, – Марджори, моей бедной храброй Марджори. Они остановили мою карету… эти пьяные люди. Не знаю, что случилось с Грегори, но я выпрыгнула и скрылась от них в темноте, но Марджори… они утащили ее… вон там на тропинке горит огонь… Я шла за ними и видела… О, сэр, ведь вы спасете Марджори… ведь вы настоящий мужчина… – И она схватила меня за изорванный рукав и стала трясти в отчаянной мольбе. – Вы спасете ее?.. Ведь это хуже, чем смерть! Скажите… скажите!
– Веди! – молвил я, подчиняясь ее настойчивой просьбе.
Пальцы, сжимавшие мой рукав, разжались, и, взяв меня за руку и не произнеся больше ни слова, она повела меня в кромешной тьме, пока мы не вышли на более защищенное от дождя и ветра место. Я заметил, что рука, так уверенно сжимавшая мою, была маленькой и нежной, и по ней, а также по ее голосу и речи я понял, что она принадлежит к высокому сословию. Но мое любопытство не пошло дальше, и я не задал ей ни одного вопроса, ибо в моем мире не было места для женщин. Так она торопливо вела меня, несмотря на темноту, словно прекрасно знала место, пока я не заметил тусклый свет, исходивший из открытого решетчатого окна, насколько я мог судить, небольшой придорожной таверны. Тут моя спутница вдруг остановилась и указала на свет.
– Идите! – прошептала она. – Идите… нет, сначала возьмите вот это! – сказала она и сунула мне в руку небольшой пистолет. – Быстрее! – торопила меня она. – Пожалуйста, быстрее… а я буду молиться, чтобы Бог сохранил и защитил вас.
Ни слова не говоря, я оставил ее и направился туда, откуда шел луч света.
Приблизившись к решетчатым створкам, я помедлил, чтобы взвести курок и проверить запал, потом, подкравшись к открытой решетке, заглянул вовнутрь.
За столом сидели трое мужчин и хмуро смотрели друг на друга. Это были отчаянного вида парни со злобными лицами, покрытыми шрамами, одежда их отдавала запахом моря; позади них, в углу жалась от страха девушка миловидной наружности, но ужасающе бледная, плащ ее был порван грубыми руками, и так она, притаившись в углу, расширенными от страха глазами не отрываясь смотрела на стакан с игральными костями, который с силой тряс один из них. Это был здоровенный волосатый детина с огромными кольцами в ушах, он стоял, гремел игральными костями и улыбался, а его приятели хрипло осыпали его бранью. Наконец волосатый детина сделал бросок, и, когда три зловещих головы склонились над костями, я перемахнул через окно, держа пистолет в одной руке, а тяжелый посох в другой.
– Что здесь происходит? – спросил я.
Все трое отпрянули в стороны и изумленно уставились на меня.
– Чего тебе? – прорычал один.
– Во-первых, ваше оружие – выкладывайте его на стол, да поживее!
Один за другим они вытащили из-за пояса оружие, и я выбросил его в окно.
– Ну что ты?! – воскликнул один из негодяев, длинный и худой, с повязкой на одном глазу и весело подмигивая мне другим. – Что ты, приятель, разве собака собаку кусает?
– Конечно, – сказал я, – и притом охотно!
– Да ну, приятель, – проговорил другой, низенький и толстый, с круглыми блестящими глазками, у которого было только одно ухо, – ты полегче, полегче. Мы всего лишь трое несчастных матросов… ну, любим маленько подвыпить да маленько подраться, приятели, одним словом… да вот для развлечения славная девчушка у нас… мы, как видишь, совсем безобидные, чтоб мне ко дну пойти! Хочешь, присоединяйся, поделимся – все будет честно.
– Конечно, я присоединюсь к вам, – вымолвил я, – но сначала ты, с кольцами, открой дверь!
Тут волосатый детина прорычал проклятие и хотел схватить тяжелую пивную кружку, но сразу получил такой сильный удар посохом под дых, что свалился на пол и лежал, с трудом дыша.
– Ну что ты, приятель, – льстивым голосом заговорил толстый, глазки его при этом так и бегали, – зачем же так грубо? Брешь мне в борт и чтоб я затонул!
– Открой дверь! – приказал я.
– Охотно… охотно! – сказал он, не сводя глаз с моей дубины, и, осторожно подойдя к двери, вытащил задвижки и распахнул ее.
– Женщина, – проговорил я, – беги!
Не говоря ни слова, девушка выпрямилась, схватила свой порванный плащ и выбежала. Тогда высокий и худой сел и принялся грязно ругаться по-английски и по-испански, толстый оскалил зубы в ухмылке, а тот, что был с кольцами в ушах, прислонившись к стене, держался за живот и стонал.
– Вот так-то, будешь знать, как задираться! Ну что теперь? – мягко поинтересовался толстый.
– А что, – сказал я, – по-моему, все было честно.
– Да, но она же убралась, отдала швартовы, как видишь, чтоб ее черти взяли! – проговорил толстый, улыбаясь, но при этом дьявольски прищурив глаза.
– Вот, посмотрите-ка, – сказал я, выложив на стол четырехпенсовик, – это все, что у меня есть, так что выворачивайте карманы.
– Карманы?! – пробормотал толстый. – Господи, да что же это? Сначала нас эта красотка обвела вокруг пальца, потом ты из Абнера вышиб весь дух, а теперь хочешь ограбить бедных, несчастных матросов, которые и руки-то на тебя не подняли! Стыдно, приятель!
– Чтоб ты сдох! – прорычал одноглазый и плюнул в мою сторону.
Я занес свою дубину, и, так как он поднял руку, удар пришелся ему по локтю, и он принялся ругаться, корчась от боли; и, пока я смеялся над его корчами, толстый бросился (причем на удивление проворно) и разбил светильник; и, отступив к окну я услышал, как грохнула решетка и раздался звон разбитого стекла. Последовала долгая напряженная тишина, когда каждый из нас затаился, сдерживая дыхание, и поскольку из разбитого окна все еще доносился шум бури, то по сравнению с ним здесь, внутри, было просто тихо. Стоя так в темноте и прислушиваясь к малейшему шороху, ожидая, не раздастся ли где-нибудь звук осторожно крадущихся шагов, чтобы направить туда очередной удар, убрав пистолет и переложив посох в правую руку, я вытащил матросский нож с широким лезвием, который всегда носил с собой, и стал настороженно ждать, но до меня доносился только отдаленный гул ветра. Вдруг слева слабо скрипнула половица, и, резко повернувшись, я взмахнул по сохом и, почувствовав, что попал, сразу же услышал неистовый крик и звук нетвердых шагов шатающегося человека.
– Защищайтесь, негодяи! – воскликнул я. – У меня просто руки чешутся с вами разделаться. Защищайтесь! – И, повернувшись спиной к стене, я стал ждать, что они набросятся на меня.
Но вместо этого послышался хриплый шепот, который тут же был заглушен пронзительным криком женщины, а за ним звучный голос:
– Эй вы, там, на борту! Ну-ка посветите! Огня, пьяные свиньи!
И тут последовала лавина самых страшных морских ругательств, сопровождающихся громким криком, еще более истошным, чем прежде. И в то время как отчаянный женский визг все еще прорезал воздух, рядом со мной началось столпотворение, вопли, крики и лавина топочущих ног, с грохотом опрокинулся стол, и в кромешной тьме вокруг меня слышались сыпавшиеся градом удары. И так они яростно дрались наощупь, а я тоже дрался, и, как мне показалось, довольно успешно, орудуя в темноте своей дубиной, пока не получил случайный удар, от которого я зашатался и полетел головой вперед прямо в выбитое окно, и упал на мокрую траву. Какое-то мгновение я лежал почти без сознания и чувствовал, как ветер с дождем приятно освежают меня.
Вдруг в кромешной тьме, где-то совсем рядом, я услышал такое, отчего сразу же вскочил на ноги. Это был шум отчаянной борьбы, хриплый мужской смех и жалобные всхлипывания и мольбы женщины. Я потерял свою палку, но все еще сжимал нож и, держа его наготове в правой руке, а левую выставив вперед, стал медленно продвигаться в ту сторону, откуда раздавались эти звуки. Мои пальцы наткнулись на волосы, длинные и мягкие женские локоны, помню, какими шелковистыми они были на ощупь, потом моя рука скользнула дальше и коснулась ее пояса, а на нем нащупала крепко обхватившую его руку. И тогда я вонзил нож прямо под эту руку и дважды повернул лезвие. Он замычал и, выпустив девушку, бросился на меня, но получил такой удар кулаком, что упал, а я навалился на него сверху и, чувствуя, что он пытается встать на колени, снова бросил его в грязь, а потом запрыгнул на него обеими ногами, как я обычно делал, когда дрался с такими же невольниками, как я, в корабельном трюме. Увидев, что он больше не шевелится, я оставил его, не сомневаясь, что его песенка спета. Но, отойдя, я почувствовал, как меня передернуло, потому что, хотя мне и приходилось драться с такими же, как я, обнаженными невольниками, которые были моими товарищами, я в жизни не убил ни одного человека.
Случайно я натолкнулся на дерево и прислонился к нему; и, вспомнив, что получил несколько увесистых ударов по ребрам, и что мне пришлось убить человека, и что почти ничего не ел сегодня, я почувствовал слабость и тошноту. И тут из темноты появилась рука, которая стала робко нащупывать мою склоненную голову, потом плечо и руку.
– Сэр… вы ранены? – спросил голос, и опять меня поразила его необыкновенная жизненная сила, его звучная глубина и нежность.
– Ни капли, – ответил я.
Тут она случайно дотронулась до ножа, который я все еще сжимал, и я почувствовал, как она вздрогнула.
– Вы… о, сэр… вы… убили его?
– А почему бы и нет? – спросил я. – И зачем называть меня «сэр»?
– Вы говорите как человек благородного происхождения.
– Да, и хожу как нищий – в лохмотьях. Я не «сэр».
– Как мне называть вас?
– Зовите меня негодяем, вором, убийцей – кем хотите, все равно. Но что касается вас, – молвил я, поднимая голову, – то вам надо уходить… посмотрите вон туда!
И я указал на мигающий среди деревьев огонек, который будто плясал в темноте, медленно приближаясь, пока вдруг не остановился. Тут воздух огласился криками и изрыгаемыми богохульствами. Моя спутница прижалась ко мне, и я почувствовал, как она снова задрожала.
– Пойдемте отсюда! – прошептала она. – Марджори, пойдем, дитя, нам надо спешить.
Мы заторопились, и, пока мы шли, эта маленькая, нежная ручка все время лежала на руке, сжимавшей нож. Так мы незаметно пробирались наугад в темноте, две девушки и я, и почти не разговаривали, так как очень спешили.
Дождь прекратился, ветер уже не бушевал, раскаты грома отдалились, и кромешная тьма сменилась смутно забрезжившим светом, а из-за почти рассеявшихся туч показалась бледная луна.
Держа эту тонкую руку, такую нежную, теплую и полную жизненной силы, я, спотыкаясь, продвигался по покрытой листьями лесной тропинке, пока постепенно деревья не поредели и сквозь образовавшийся просвет не показалась широкая дорога. Тут я остановился.
– Мадам, – проговорил я, чувствуя неловкость из-за такого непривычного слова. – Теперь вы в безопасности… и мне кажется, вот ваша дорога.
– Пэмбери всего лишь в миле отсюда, – сказала она, – и там мы сможем найти лошадей. Пойдемте, по крайней мере этой ночью вы найдете отдых и кров.
– Нет, – возразил я. – Я путник, и мне достаточно переночевать под изгородью или в стогу.
И я хотел уже было повернуться и уйти, но она удержала меня за рукав.
– Сэр, – сказала она, – кем бы вы ни были, но вы настоящий мужчина! Не знаю, кто вы, и не хочу знать, но этой ночью вам пришлось поработать, и я этого никогда не забуду, и я… мы… хотим выразить вам нашу благодарность.
– Да, это правда, – впервые за все время заговорила Марджори.
– Не надо мне никакой благодарности. – Я старался, чтобы слова мои прозвучали как можно грубее.
– Но согласитесь, что чувство благодарности так сильно, что его никто не может отвергнуть, даже такой гордый и высокомерный бродяга!
И, вслушиваясь в этот голос, низкий, нежный и необыкновенно мелодичный, я не понимал, смеется она надо мной или нет. И пока я гадал про себя над этим, она взяла мою руку, сжимавшую нож, и я ощутил твердое прикосновение теплых мягких губ; потом она отпустила меня, и я отступил на шаг, пытаясь снова обрести дар речи, но так и не смог.
– Боже мой! – вымолвил я наконец. – Зачем вы… сделали это?
– А почему бы и нет? – гордо возразила она.
– Это рука нищего бродяги, изгнанника, ночующего в канавах, – сказал я.
– Это рука настоящего мужчины, – возразила она.
– Эта рука сегодня уже совершила убийство, и не пройдет и нескольких часов, как она совершит еще одно.
Тут она тяжело вздохнула, словно чем-то встревоженная.
– И все же, – мягко проговорила она, – это не рука убийцы, и, может быть, вы бродяга и изгнанник, но не разбойник.
– Разве вы можете судить об этом, никогда не видев меня? – спросил я.
– Могу. Потому что я женщина. Господь сделал нас слабыми, но он наградил нас умением отличать правду ото лжи, благородное от низменного, если они даже не кажутся таковыми. И поэтому я утверждаю, что вы не преступник… вы сильный человек, но… несмотря на свою молодость, уже перенесли немало незаслуженных страданий; в силу своего возраста вы во всем проявляете горячность и нетерпение и готовы ожесточенно бороться со всем миром. Разве не так?
– Да, – сказал я изумленно. – Это уже похоже на колдовство… может быть, вы назовете мое имя?
Тут она рассмеялась; и как странно сейчас было слышать смех, особенно такому грубому бродяге, как я, чьи уши давно уже привыкли слышать лишь гадкие, отвратительные непристойности.
– Нет, – сказала она, – больше я о вас ничего не знаю, кроме… – здесь она остановилась, чтобы перевести дух, – кроме того, что вы убили его… это двуногое животное! Вы сделали то, что должна была сделать я… Если бы не вы, то я… я должна была убить его, несмотря на то что я женщина! Смотрите, вот кинжал, который я выхватила у него из-за пояса, когда мы боролись. Возьмите… возьмите его! – воскликнула она и сунула оружие мне в руки.
– Госпожа! – вскричала ее спутница. – Смотрите, вон там на дороге огни. Это, наверное, Грегори собрал людей и они разыскивают нас с фонарями. Не пойти ли нам навстречу к ним?
– Нет, подожди, дитя мое. Сначала нужно удостовериться, что это они.
И, встав поближе друг к другу под мокрыми деревьями, мы стали наблюдать за мелькающими в темноте огнями, которые приблизились уже настолько, что можно было слышать голоса тех, кто их нес, переходящие порой в беспорядочные крики.
– Да. Это Грегори! – со вздохом облегчения произнесла наконец моя спутница. – Он поднял на ноги всю деревню, и теперь мы в безопасности…
– Вы слышите? – вскричал я, бросившись вперед. – Что за имя они выкрикивают?
– Мое, сэр.
– Э-ге-гей! Госпожа! – доносился до нас хор хриплых голосов. – Э-ге-гей! Леди Джоан… Леди Брэндон… Брэндон… Брэндон!
– Брэндон! – вскричал я, поперхнувшись на этом слове.
– Да, сэр. Я леди Джоан Брэндон из Шин-Мэнор, и, пока буду жива, навсегда сохраню в благодарном сердце память о…
Но, не слушая больше, я повернулся и одним прыжком скрылся в густом мраке леса.
И пока я бежал, спотыкаясь и падая, с треском продираясь через кустарник, в ушах моих все звенело ненавистное имя врага, которого я собирался убить и ради которого проделал такой долгий и трудный путь: «Брэндон! Брэндон! Брэндон!»
Глава 2
Как я ночью услышал в лесу пение
Я неуклонно продвигался вперед, даже не оглядываясь по сторонам, но вскоре остановился, чтобы отдышаться и отдохнуть, прислонился к дереву и стоял так, преисполненный горьких мыслей. Буря почти прошла, но уныло завывал пронизывающий ветер, и вокруг меня мокрые деревья, словно горестно всхлипывая, роняли капли. И вот, стоя так и прислушиваясь к этим звукам, я только и мог думать о сладком и нежном женском голосе, пробуждавшем в моей памяти воспоминания о лучших днях, о голосе, который погружал меня в полные нежности, несбыточные мечты о будущем. И хотя страдания и позор, которым я подвергался, ожесточили меня, я все же не утратил человеческого лица и теперь (хотя это казалось странным) чувствовал презрение к самому себе и испытывал тоску по вещам возвышенным; и все это только потому, что услышал в ночи звук женского голоса и что ее теплые губы прикоснулись к моей руке. И вот оказывается, что она тоже Брэндон! И вот когда я ощутил всю горечь этого самобичевания, неистовый гнев охватил меня и я разразился отвратительными ругательствами и проклятьями, английскими и испанскими, самой отборной бранью, какой только набрался от разбойников, своих собратьев по несчастью; но, снова почувствовав стыд, перестал ругаться. И вот, прислонившись к дереву, я дрожал, как самый убогий и презренный бродяга, и поистине волчий голод снедал меня. Осознав наконец, что все еще сжимаю в руке оружие, я сунул нож за пояс и, так как было еще очень темно и ничего не видно, другой рукой принялся ощупывать его, чтобы понять, что он собой представляет. И насколько я мог понять на ощупь, создан он был не для честных целей. Вещь эта, сработанная чужеземными руками, с рукояткой причудливой формы и необычайно тонким и длинным трехгранным лезвием, таила в себе смерть. И поскольку у него не было ножен (а он был очень острым), я обернул его от рукоятки до острия в свой шейный платок и, сунув в кожаную сумку, висевшую у меня на поясе, продолжил свой путь, подыскивая место, где бы мог укрыться от пронизывающего холодного ветра. И тут вдруг я услышал нечто такое, что заставило меня остановиться.
Где-то совсем неподалеку пел человек. Это была странная мелодия, и слова у нее были еще более странные; голос был звучный, но густой и мелодичный, и слова были такие:
- Вот хорошо-то! Вот хорошо-то!
- Славное дело! Вот так так!
- А на грот-мачте, ветром раскачан,
- За шею привязан, висит мертвяк.
- Мачта грохочет, мачта скрипит,
- На ней мертвец, болтаясь, висит.
- Простился с жизнью один от ножа,
- Трое приняли пулю вдруг,
- Но трижды все трое встретили смерть —
- Подвешены вместе на крюк.
- Нанизаны трое на крепкий железный
- Длинный блестящий крюк.
- Вот хорошо-то! Вот хорошо-то!
- За ногу дернем его.
- Разом возьмемся, дружно все вместе
- Дружно потянем его.
- Другие отправились на тот свет
- Вплавь по морю из рома,
- И бьюсь об заклад, они все горят
- У дьявола в преисподней.
- Так вот хорошо-то! Вот хорошо!..
Не дожидаясь, когда кончится эта дикая песня, я стал поспешно продвигаться вперед и вскоре выбрался в небольшую лесистую лощину, освещенную светом весело потрескивающего костра, благодаря которому мне удалось спуститься вниз по ее крутому склону и осторожно приблизиться к огню. Подойдя ближе, я увидел, что костер горит в небольшой пещере на дне лощины, и, когда я приблизился к нему, песня внезапно оборвалась, а человек, что пел, встал и повернулся ко мне лицом, положив руку сверху на карман.
– Врет твоя песня! Брехня все это! – молвил я, стараясь говорить, как настоящий разбойник. – Здесь нет никого, кроме одного малого, которому нужно огня, чтоб согреться, да чего-нибудь перекусить.
– Ага! – произнес он, всматриваясь через пламя в темноту. – Ну и кто ты? Ну-ка развернись носом да покажись!
Я, повинуясь, встал, протянул руки к огню, и его благодатный жар начал согревать мое дрожащее тело.
– Ну что? – сказал я.
– А ты, – заговорил он, кивая, – довольно крепкий малый, и вид у тебя далеко не святой, похоже, можешь в два счета горло перерезать… Что у тебя, дело какое?
– Дело тонкое, – ответил я.
– Из каких краев будешь?
– Это не важно.
– Хочу только узнать, – насмешливо произнес он, – как тебя до сих пор не вздернули?
– А я хочу только узнать, – сказал я, – откуда моряк знает такой язык?
– Не важно, – ответил он, – но уж коль ты тоже один из Братства, давай садись к огню, здесь довольно сухо, в этой пещере.
Не заставляя долго себя упрашивать, я вошел в пещеру и поудобнее уселся возле огня. Незнакомец был приятной наружности, с живыми блестящими глазами и на вид задиристый; под рукой у него лежал короткий меч, карманы были оттопырены торчащими из них пистолетами, а между колен была зажата потертая, видавшая виды фляга.
– Ну, – проговорил он, оглядывая меня с головы до ног, – что скажешь?
– Поесть бы! – сказал я.
– Закусить совсем нечего, – ответил он, качая головой. – Вот, есть ром. Хочешь, промочи глотку… ха!
– Ни-ни, – сказал я.
– Ладно. Мне больше достанется! – кивнул он. – Ром… ха!..
- Другие отправились на тот свет
- Вплавь по морю из рома…
– У тебя довольно странная песня, – промолвил я.
– Ха! Что, нравится?
– Нет.
– Ну и почему?
– Слишком много смерти в ней.
– Смерти? – вскричал он и, схватив флягу, разразился громким смехом. – Смерть, говоришь… да, скажу я, так оно и есть, в каждой строке – смерть. Эту песню сочинил мертвец, сочинил про мертвецов, для мертвецов и для тебя! – Тут он поднял флягу, отхлебнул из нее и с удовольствием причмокнул. – Сочинил мертвец, – повторил он, – про мертвецов, для мертвецов и для тебя!
– Твоя песня нравится мне все меньше и меньше.
– Сдается мне, у тебя кишка тонка! – громко икнув, проговорил он.
– И пуста к тому же, – прибавил я.
– Эту песню придумали люди, которые гораздо лучше тебя, хоть ты и такой здоровый! – сказал он, бросив на меня свирепый взгляд, и, хотя взгляд его был твердым, я почувствовал, что он пьянеет все больше и больше. – Да, люди, которые гораздо лучше тебя! – повторил он и нахмурился.
– Какие, например?
– Ну, во-первых, есть такой Скряга. О нем ты можешь услышать повсюду в открытом море от Панамы до Святой Екатерины. Клянусь рогами дьявола, что на всем побережье среди Братства не сыскать никого, кто может держать по ветру лучше, чем Скряга. Вот так-то, мой утонченный друг!
– И кто же он?
– Да я, собственной персоной!
Он еще раз отхлебнул из своей фляги и, посмотрев на меня пьяными глазами, торжествующе заявил:
– Знаешь, разборчивый ты мой, если б ты видел смерть так часто, как Скряга, ты бы понял, что смерть не такая уж скверная штука, пока она обходит тебя стороной. По мне, так это хорошая песня и как раз для тебя!
– Ну а еще кто?
– Монтбарз, его еще зовут Истребителем, а еще молодой Харри Морган, славный он малый, потом, Роджер Трессиди и Сол Эйкен, ну, и Пенфезер, чтоб ему ко дну пойти!
– И Абнер, – вставил я наугад.
– Да, и он, это уж точно! – кивнул он, а потом прибавил: – Эй, так ты знаешь Абнера?
– Да, я встречал его.
– Где?
– В таверне, что приблизительно в миле отсюда.
– В таверне! – воскликнул он. – В таверне, чтоб им сдохнуть! А я торчу в этой чертовой дыре! В таверне! А у меня и выпить-то уже нечего!.. Чтоб меня черти задрали! Только-то и осталось, что на один глоток… ладно, выпью его за кровавую рубаху и за береговое Братство.
– Ты пьешь за буканьеров, как я понял? – спросил я.
– Ну и что из этого?
– Говорят, они не лучше пиратов…
– Хочешь сказать, я пират? – прорычал он.
– Хочу.
Во мгновение ока он сунул руку в карман, но пистолет застрял у него в подкладке, и не успел он вытащить его, как я положил на его руку свою, тут он застыл и успокоился.
– Ну-ка, подними свои грабли! – приказал я.
Он послушно поднял руки, а я взял у него пистолеты, открыл затворы и, вытряхнув из них пули, швырнул ему их обратно.
– Чтоб меня змея ужалила! – разразившись грубым смехом, воскликнул он, убирая оружие. – Какой-то паршивый бродяга стал тут на якорь, да еще мешает хорошей выпивке. Я вот что скажу: если человек не хочет глотнуть доброго рома, то это значит, что у него куриные мозги, сердце, как у трусливой собаки, и кишки, как у червя, чтоб ему сдохнуть! Бог свидетель, я видывал глотки и получше, чем твоя жалкая щель. Вот так-то, мой толстозадый приятель!
– Так ты еще, может быть, и налеты совершал, а?
– Ба-а! Да это вопрос не в бровь, а в глаз… но тс! Вот эта рука не ведает, что творит вторая… тсс, парень, тсс!
И, откинув голову назад, он снова затянул свою отвратительную песню:
- Закончили двое жизнь от ножа,
- Трое приняли пулю вдруг,
- Но трижды все трое встретили смерть —
- Подвешены вместе на крюк.
- Вот хорошо-то! Вот хорошо!
- Нанизаны вместе на крюк!
– Послушай-ка, мой дорогой приятель, если бы я даже предложил тебе все сокровища Бартлеми, чего я сделать не могу… попомни мои слова, ты все равно бы так и не понял, что это был за крюк. Ты скажешь, нет… а я скажу, тсс, парень. И все же это хорошая песня, – проговорил он, сонно моргая перед пламенем костра, – здесь тебе и про драку, и про убийство, и про внезапную смерть, и… ха-а… что еще бывает в песнях… а, и про женщин тут тоже есть!
И тут он принялся петь похабный, непристойный куплет, который я не могу здесь привести, но, разморенный ромом и навевающим дремоту теплом костра, который я все время поддерживал, он наконец зевнул, потянулся, лег и вскоре захрапел, к моему немалому успокоению. А я сидел и ждал, когда забрезжит рассвет. Костер медленно угасал, заполняя пещеру розовым светом, который падал на растянувшуюся на земле фигуру спящего и придавал его красному лицу багровый оттенок, какой мне однажды довелось видеть у человека, умершего от удушения, но, судя по его здоровому, звучному храпу, спал он, по-видимому, довольно крепко. И вот в окружающей тлеющий костер тьме показались тусклые, неясные очертания покатого склона, поросшего стоящими в тумане деревьями. Наступил холодный рассвет, клубящийся туман стелился по земле, как призрак, до краев заполняя лощину и плотно окутывая деревья вокруг. Я поднялся и, выйдя из пещеры, почувствовал, как меня охватила дрожь от холодного воздуха и сильный голод. И тут, вспомнив о своем бедственном положении, я наклонился и, всматриваясь в спящего, почти уже было собирался обшарить его карманы, но внезапно повернулся и пошел, так и оставив его распростертым в пьяном забытьи.
Глава 3
Как я украл свой завтрак
Вокруг меня стелился густой туман, но, когда я выбрался из лощины, он немного рассеялся, так что, когда забрезжил слабый свет, мне стало видно кое-что из того разрушительного беспорядка, который произвела буря; кое-где лежали вырванные с корнями деревья, и повсюду громоздились кучи спутанных сучьев и ветвей, так что мне стоило немалого труда продолжать свой путь. Но теперь, когда я продирался вперед, проснулись птицы, и тусклый мир наполнился их веселым щебетанием, переходившим в благозвучный гомон, который все нарастал и нарастал, пока темный лес не огласился дружным, радостным хором. И, увидев первый луч солнца, я почувствовал прилив сил, несмотря на то что совсем не спал и что меня терзал поистине волчий голод, и тогда я с легкостью ускорил шаг. Вскоре деревья поредели, и я вышел на прекрасный, колышущийся травами луг, окруженный цветущими живыми изгородями, а вдали виднелась широкая дорога. Я остановился, чтобы обдумать свой дальнейший путь, и глазам моим открылась поистине чудесная картина: солнце поднялось во всем своем великолепии, сияя пурпуром и золотом и розовым светом, его ровные лучи превращали окружающий меня мир в волшебный сад, зеленый и свежий, а сзади, из мрачного леса, стелясь по земле, выползал туман и постепенно рассеивался, пока наконец это пышное лиственное безмолвие не приобрело снова свое первозданное величие.
Но меня терзал такой мучительный голод, что я должен был утолить его во что бы то ни стало, и вот, наметив дальнейший путь, я поспешно пересек луг и, выйдя на большую дорогу, направился на юг. Продираясь через лес, я срезал себе крепкую, узловатую дубину вместо той, что потерял, только покороче и весьма удобную, и, вынув свой матросский нож, собрался немного обработать ее, но вдруг остановился, увидев, что лезвие моего ножа, которое я заострил и отточил до предела, сделалось изогнутым, и острие, таким образом, теперь походило на крюк. Продолжив путь и видя, как лучи утреннего солнца играют на его блестящей поверхности, я стал гадать, как такое могло случиться, и вспомнил о тех двух смертельных ударах, которые я нанес в кромешной тьме. Я принялся пристально разглядывать нож от лезвия до рукоятки, но так и не обнаружил на нем следов крови, а это значило, что на том парне была защитная одежда (ведь кольчуги были достаточно распространены, а некоторые разбойники под шляпами носили металлические шлемы). Так что, похоже, этот парень еще жив, и, несмотря на то что он был отпетым разбойником, я ощутил смутную радость от того, что если он и отправится на тот свет, то, во всяком случае, не от моей руки.
Я все еще прокручивал в мозгу этот случай, когда услышал веселое громкое насвистывание и, подняв глаза, увидел деревенского малого, шедшего по узкой тропинке по направлению ко мне. На нем была широкополая шляпа, а на свежевыстиранной рубахе не было ни единого пятнышка; но что сразу же приковало мой взгляд и заставило меня внезапно остановиться, так это чистенький, опрятный, обернутый в белую тряпицу узелок, что он нес в руках. И вот, не сводя с него глаз, опершись на свой необструганный посох, я стоял и ждал, когда он подойдет. Случайно повернув голову, он заметил меня, приостановил свой шаг и, искоса взглянув на меня, продолжил свой путь. Это был небольшого роста человечек с румяным лицом, маленькими веселыми глазками и изогнутыми кверху уголками рта.
– Доброе утро, господин… какая ужасная буря была сегодня ночью!
– Да, – произнес я, и на сердце у меня стало теплее от его доброй кентской речи, какой мне давно уже не приходилось слышать за долгие годы моих скитаний, но при виде этого опрятного беленького узелка у меня потекли слюнки и голод набросился на меня с новой силой. – Что у тебя здесь? – спросил я, дотронувшись до узелка посохом.
– Здесь только мой обед, господин. Как обычно.
– Нет, – проговорил я, нахмурясь. – Не думаю.
– Да. А что же еще там может быть, господин? – закивав, продолжал он. – Хлеб с мясом да головка сыра, как обычно.
– Хлеб! – воскликнул я. – Мясо! Сыр! Ах ты, лжец! Это вовсе не твой обед!
– Но, господин! Это и вправду так! – воскликнул он, уставившись на меня. – Мой собственный обед, который завернула мне моя собственная дочь. Мясо, хлеб и головка сыра… Клянусь Священным Писанием, что так оно и есть!.. Хлеб, мясо, сыр…
– Покажи!
С заметной поспешностью он развернул узелок и показал полкаравая хлеба, здоровый кусок жареной говядины и головку желтого сыра.
– Ха! – проговорил я сквозь зубы. – Значит, ты все-таки лгал мне.
– Лгал вам, господин? – переспросил он испуганно.
– Ты сказал, что здесь твой обед.
– Да, так оно и есть, так оно и есть, клянусь… мясо, вот, видите, и головка…
– Нет, – проговорил я, забирая у него еду, – это мой завтрак.
– Как?.. – вымолвил он, недоумевающе глядя на меня.
– Да. А ты что, будешь отрицать это?
– Нет-нет, никогда! – произнес он, посмотрев на мою дубину и сверкающий на поясе нож. – Только откуда мне было знать, господин, что он ваш… когда моя дочь завернула его мне своими собственными руками…
– Век живи – век учись! – сказал я, собираясь уходить. – Ну и как тебя зовут?
– Весельчак Такер, господин.
– Вот что, Весельчак, раз уж ты потерял то, что я приобрел, почему бы тебе не найти утешение в том, что благословен дающий, а не берущий, а? Более того, хоть ты и лишился обеда, зато у тебя есть дочь и крыша над головой, а у меня, несчастного, голодного бродяги, нет ни того ни другого… Если сравнивать твою и мою жизнь, то мне кажется, твоя лучше.
– Эй, господин, послушайте-ка, – проговорил он, скребя бритый подбородок, – раз уж вы все равно взяли свой завтрак, не хотите ли пойти со мною вот по этой тропинке в мой дом, я дам вам кувшин доброго эля запить его.
Увидев, с каким мужеством произнес он эти слова, я бросил свою дубину и протянул ему руку.
– Весельчак, – сказал я, – изголодавшийся человек вынужден добывать себе еду всеми правдами и неправдами, но если ты можешь подать свою честную руку вору – то вот тебе моя!
Человек посмотрел сначала на мою руку, потом мне в глаза, его широкий рот расплылся в улыбке, и мозолистой рукой в белоснежном рукаве он сжал мои пальцы и сердечно потряс их – это было чистосердечное, искреннее рукопожатие, какого я не ощущал уже очень давно.
– Пойдете со мной, господин? – спросил он.
Я покачал головой и промолвил:
– У тебя дочь, а я неподходящая компания для милой, славной девушки и никогда для этого не подойду!
С этими словами я отпустил его руку, повернулся и зашагал по дороге с его узелком под мышкой; и когда я наконец оглянулся, то увидел, что он стоит там, где мы расстались, и, подперев рукой подбородок, смотрит мне вслед. И вот, сойдя на обочину, я уселся возле изгороди и, греясь в теплых, ровных лучах солнца, принялся с величайшим удовольствием уплетать свою еду, и, хотя она была краденая, я в жизни не пробовал ничего вкуснее. Поглощенный этим приятным занятием, я вдруг услышал чье-то жалобное хныканье и, оглядевшись по сторонам, заметил за изгородью одетое в грязные лохмотья существо, которое голодными глазами смотрело на мою еду и в мольбе протягивало ко мне свои костлявые руки.
– Ради Бога, дайте корочку несчастной, умирающей от голода старухе! – заскулила она. – Ради Господа Бога, всего лишь кусочек…
– Пошла прочь! – с силой выкрикнул я, – Что ты знаешь о голоде? Прочь, ведьма!
И я было взялся за свою дубину. Она заскулила и, подхватив свои отвратительные лохмотья, стеная и причитая, бросилась бежать.
Но теперь, когда мои челюсти вновь заработали, еда потеряла для меня вкус, и, задыхаясь от гнева и чертыхаясь, я вскочил на ноги и бросился за ней, но, увидев, что я догоняю ее, она закричала от страха, и отчаянно пытаясь спастись от меня бегством, вдруг упала.
– Проклятая старая ведьма! – промолвил я. – Ты испортила аппетит голодному человеку и отнимаешь у него то, что ему самому с трудом удалось отобрать для себя!
И, сунув в ее крючковатые пальцы завернутую в салфетку еду, я заторопился прочь, а вслед мне неслись ее восторженные вопли.
Медленно и с трудом я брел по грязной дороге, чувствуя безмерную усталость от того, что давно уже не спал, и, совершенно безучастный к прекрасному, дышащему утренней свежестью, радостному миру вокруг меня, думал лишь о своем теперешнем жалком положении. И вот, свернув на обочину, я опустился на траву и, обхватив руками отяжелевшую голову, предался крайнему отчаянию, овладевшему мною.
Усталый и полный горестных раздумий, я сидел так и вдруг услышал скрип колес и цокот копыт и, подняв наконец голову, увидел большую телегу, доверху нагруженную свежескошенным сеном, а на ней, развалившись, спал человек. Это был тучный малый, чей мощный храп заглушал позвякивание конской сбруи и скрип колес. Прислушиваясь к его храпу, я разглядел, какой он был здоровенный и откормленный детина (а я был изможден и умирал от голода), и тут моя грусть сменилась внезапной горячей злостью, и, когда телега, громыхая, поравнялась со мной, я запрыгнул на нее сзади, взобрался на сено и уже было занес свою палку, чтобы хорошенько привести его в чувство, но остановился, заметив притороченную к сиденью пухлую и соблазнительную котомку внушительных размеров. Схватив, я тотчас же открыл ее и обнаружил внутри свежеиспеченный каравай, зажаренного до румяной корочки каплуна и кувшин некрепкого пива. И, удобно расположившись на сене, я принялся работать зубами и ногтями, и, хотя ел я с жадной поспешностью, все равно никогда прежде не доводилось мне отведать ничего более вкусного и изысканного, чем эта украденная еда. Я уже почти разделался с каплуном, когда тостяк перестал вдруг храпеть, вздохнул, что-то невнятно промычал, лениво приподнялся на локте и, увидев меня, разинул рот от изумления. Пока он смотрел так на меня с открытым ртом, я покончил с каплуном и выбросил кости за изгородь.
– Господи! – жалобно воскликнул он. – О господи! Мой обед!
Рот у меня был набит, и я не ответил.
– Ах ты, вор несчастный! – вскричал он. – Ах ты, грабитель с большой дороги!
– Ну и что?
Я кивнул и сделал большой глоток пива.
– Клянусь Господом Богом, он съел и выпил все, что было на обед у честного человека! – возмущался он, сжимая здоровые кулаки. – Ах ты, разбойник! Чтоб тебе гореть в преисподней!.. Гнусный мерзавец, паршивая ты собака! Высечь бы тебя хорошенько да поставить к новому позорному столбу сэра Ричарда!
Тут я, не переставая есть хлеб, вытянул ногу и лягнул его (весьма ловко) в живот, он раскрыл рот от изумления, сразу приумолк и принялся с грустью наблюдать, как я доедаю его обед.
– Если тут осталось еще что-нибудь поесть, – проговорил я, – так покажи мне.
– Клянусь Господом Богом, отличный был каплун! – произнес он с тяжелым вздохом.
– Сущая правда, – ответил я и растянулся на сене.
– Эх! – сказал он как бы сам себе. – Какая жалость!.. Такая славная птица и так грустно закончила свою жизнь!
– Нечего хныкать! – оборвал его я. – Лучше скажи мне, далеко ли отсюда Ламберхерст?
– Не больше шести миль, – со вздохом ответил он, взобравшись на сиденье.
– Тогда почему бы тебе не отвезти меня туда?
– Господи! – застонал он. – Значит, какой-то разбойник будет спокойно красть еду у честного человека… а такой человек, как я, должен всю жизнь быть рабом, и утром, и днем, и…
– Рабом! – сказал я, нахмурившись. – Что тебе известно о рабстве? Ты лжешь, несчастный жирный глупец!
Я лежал и, наблюдая за ним, заметил, как он украдкой взялся за свой тяжелый кнут, но прежде, чем он даже успел бы повернуться и ударить, я вскочил и нанес ему такой удар чуть пониже уха, что он полетел прямо на широкие спины своих лошадей и оттуда, пыхтя и стеная, спустился на землю. Увидев это, я взял вожжи и стегнул лошадей, чтобы они ускорили шаг, так что, чтобы не отстать, ему пришлось бежать за лошадьми по грязной дороге.
– Подожди! – кричал он. – Что ты делаешь с моей телегой?
– Еду в ней!
– Подожди! Позволь мне тоже сесть, я задыхаюсь…
– Отлично! Я тоже задыхался!
– Имей хоть каплю жалости, господин! – простонал он, едва дыша.
– Меня никто никогда не жалел!
– Но что плохого сделал тебе я?..
– Пожалел еды, когда я умирал от голода!
– Это был мой обед, а мне нужно много еды, чтобы насытиться. Господи! Я обливаюсь потом! Прошу тебя, господин, пусти меня в телегу. Я не заслужил этого.
– Ты называл меня разбойником и вором!
– Да, называл… на свое горе. Да, я называл тебя разбойником и еще… паршивым мерзавцем… и теперь раскаиваюсь в этом!
– И за это тебе теперь придется немного попотеть! – сказал я.
И так мы двигались какое-то время, я – удобно расположившись наверху, а толстяк, задыхаясь, бежал рядом с колесом, и оба не говорили больше ни слова, но, наконец, измученный страхом потерять свое добро, грязью под ногами, жарой и страшно обливаясь потом, несчастный глупый толстяк вымотался так, что выглядел изнуренным (хотя мне приходилось видеть и не такие мучения, причем людей гораздо лучших, чем он). Тогда я остановил телегу и протянул ему руку, чтобы растормошить его, а он стоял в полуобморочном состоянии, прислонясь к колесу.
– Послушай-ка, дурень, не знаешь ли ты тут поблизости кого-нибудь по имени Брэндон из Шина?
– Да, знаю… правда знаю! – проговорил он, с трудом дыша. – Я знаю сэра Ричарда… он чрезвычайно хороший человек. Господи, все кишки себе растряс, и все пересохло у меня от жажды.
– Ну ладно, залезай, – сказал я и помог ему взобраться на сиденье.
Усевшись, он вздохнул и тоскливо посмотрел на свою котомку.
– Умираю от жажды! – простонал он.
– Я тоже умирал от жажды! – ответил я и, одним глотком допив остатки его пива, бросил кувшин на дорогу, а он горестно ударил себя в грудь.
– Мое пиво! – захныкал он. – А я должен страдать от жажды! О, мое пиво!
– Вон в том ручье прекрасная вода, – заметил я.
– У тебя нет ни капли сострадания! – вскричал он. – Какой же ты жестокий человек!
– Мы живем в жестоком мире, – возразил я, – но это сейчас не имеет значения, расскажи-ка мне лучше о сэре Ричарде Брэндоне.
– Ну вот, должен тебе сказать, что меня зовут Майлз Трумэн…
– Это имя тебе подходит, но сейчас это тоже не важно… Ну так что сэр Ричард?
– Я еду к нему, – угрюмо сообщил Трумэн. – Я работаю на него… Суровый он человек, знаешь ли, но справедливый.
– Ишь ты! Еще один суровый человек!
– Да, справедливый… и благочестивый! Он починил наш церковный флюгер и сделал еще многое другое, а еще установил замечательный позорный столб на лужайке возле пруда. Лучшего нигде не сыскать. Такой, знаешь, с цепями, даже с сиденьем, ну просто загляденье!
– И что, находит он, кого пригвоздить к нему?
– Да, находит. При сэре Ричарде здесь не стало ни бродяг, ни цыган, ни нищих. Ни один из них теперь и близко не осмелится подойти. Да и ведьмы почти перевелись в этих краях, с тех пор как утопили мамашу Мотридж. Сварливых горластых баб тоже наказывают на столбе, вот и их стало меньше. Так-то!
– Хм, – произнес я, – вот уж истинный джентльмен!
– Да, – сказал Трумэн, закивав так, что толстые щеки его затряслись, – он терпеть не может бродяг и прочий сброд…
– Как я, да? – спросил я.
Но Трумэн не ответил, а снова стал обмахиваться шляпой, осторожно наблюдая за мной.
– Ты чужой в этих краях? – поинтересовался он.
– И да и нет.
– А встречал ты сэра Ричарда?
– Встречал!
– Так, – произнес он, кивая. – Он, должно быть, тебя высек?
– Да.
– Должно быть, за то, что ты стащил жирного каплуна, как и у меня?
– Нет, совсем по другой причине. Так он что, так же здоров, богат и всеми почитаем? У него по-прежнему много друзей и он имеет влияние при дворе?
– Нет, – сказал Трумэн, погоняя едва передвигавших ноги лошадей. – Ни то ни другое.
– Как это нет? – удивился я. – Это почему?
– Потому что он умер…
– Умер?! – воскликнул я, вскочив. – Умер?
– Да послушай, если бы он не умер… тогда бы, по крайней мере…
Но тут я схватил его за горло, крепко сдавил и начал так сильно трясти, что он захрипел.
– Разбойник… проклятый разбойник! – выдавил я сквозь зубы. – Ты еще будешь смеяться надо мной!
– Нет… нет! – проговорил он, задыхаясь.
– Тогда скажи, что ты лгал… признайся!
– Да, да… признаюсь… во всем… во всем, что прикажете, господин!
– Итак, сэр Ричард здоров и преспокойно живет в своем поместье Шин – так или не так? Да или нет?
– Да… да, в поместье Шин… Шин!
Тут я отпустил его и, повалившись снова на сено, почувствовал, что задыхаюсь и меня трясет, как в лихорадке. Дрожь била меня, как внутри, так и снаружи, потому что из-за лживых слов толстяка я на мгновение усомнился в Божьей справедливости, ибо мне показалось, что мои бесконечные страстные мольбы о мести моему врагу оказались напрасными, а трудный путь, который я для этого проделал, – тщетным. И вот я (не знавший, что такое прощение), склонив голову, покорно просил прощения у Господа за то, что позволил себе усомниться в Нем, и страстно молил Его сохранить врага моего в здравии, ибо хотел собственноручно уничтожить его.
– Его жизнь, о Господи… отдай жизнь этого человека в мои руки! – Так молил я (в своей тщеславной гордости и безрассудной эгоистичной слепоте), трясясь в телеге в это солнечное утро, но постепенно дрожь моя утихла, и, растянувшись на сене, я погрузился в счастливую, блаженную дремоту.
Для тех, кто, читая мое повествование, станет презирать и ненавидеть меня за то, что я, несчастный, отчаявшийся недальновидный глупец, живущий только ради того, чтобы совершить убийство, взываю к Господу о крови такого же человека, как я, – всем тем, кто так думает, я скажу, что никто не может презирать меня глубже и сильнее, чем я сам, пишущий эти строки. Ибо жизнь многому научила меня, и в некоторых вещах я стал мудрее.
Но поскольку я был невероятно горд и упрям, а ненависть всегда порождает ненависть и зло, то я дошел до того, что стал водить знакомство с пиратами и прочими разбойниками, и претерпел на своем пути немало трудностей и опасностей, попав в сражение, в кораблекрушение, в тюрьму и был совершенно одинок, пока, благодаря безграничному милосердию Божьему, не сделался совсем другим человеком, лучшим и в некотором смысле более достойным. И вот я полностью и без утайки записал мою историю для тех, кто найдет в себе силы прочесть ее до конца.
Вернемся же к нашему повествованию.
Глава 4
Как я познакомился с неким Адамом Пенфезером
Проснувшись, я обнаружил, что телега остановилась и хозяин хмуро смотрит на меня, толстыми пальцами с удовольствием играя рукояткой кнута, но, когда я поднялся, он сразу же отдернул руку и принялся перебирать складки своего жирного подбородка.
– Ламберхерст вон там, – угрюмо проговорил он и кивнул туда, где внизу, в долине, расположилась деревушка, а перед ней зеленая лужайка с тихим прудиком, окруженным тенистыми деревьями. Вокруг лужайки выстроились беленые домики, почти до самых соломенных крыш утопавшие в зелени и цветах роз и жимолости (картина, весьма радующая глаз), а за ними виднелись плоские и остроконечные крыши амбаров и сушилен. – Ламберхерст! – снова проговорил Трумэн, и я, зевая и потягиваясь, спустился с телеги на землю.
– Ну? – спросил я, видя, что он наблюдает за мной, обхватив рукой тройной подбородок.
– Вот что, – решительно произнес он, – хотелось бы мне знать, чего таким, как ты, может быть нужно от таких людей, как сэр Ричард Брэндон из Шина.
– Только одного, – сказал я, отряхивая сено со своего разорванного плаща. – Я пришел, чтобы увидеть, как он будет умирать, а умирать он будет, скорее всего, медленно и мучительно!
И с этими словами я сжал загорелую руку в крепкий кулак. Увидев эту сжатую в кулак руку, Трумэн заморгал и, не говоря ни слова, стегнул лошадей, и тяжелая телега, скрипя колесами, загромыхала по дороге. Но, отъехав на какое-то расстояние, он оглянулся и, осклабясь, что-то прокричал, но до меня донеслись только два слова: «напрасный труд». Я уже было собирался броситься за ним и, догнав, заставить его повторить эти слова, но передумал и, повернувшись, побрел вниз по склону, погруженный в раздумья.
Подойдя к деревушке, я обнаружил, что она еще не проснулась – башенные часы на церкви показывали только половину пятого; и, оперевшись на посох, я стоял и смотрел на новый флюгер церковной башни, отливавший золотом на утреннем солнце, а потом перевел взгляд туда, где прямо у пруда, на зеленой лужайке, высились мрачные очертания позорного столба, недавно воздвигнутого сэром Ричардом. Сейчас он пустовал, и я подумал, кто же будет следующим несчастным, обреченным на страдания здесь. Так я стоял какое-то время и взирал на это безмятежное селение, где все (за исключением меня одного), забыв на время свои заботы, спали благословенным сном. Широкая дорога, крытые черепицей и соломой домики, сушильня и душистые скирды сена – все осталось таким же, как и пять лет назад: все здесь осталось по-старому, за исключением лишь отвратительного позорного столба сэра Ричарда, и, проклиная того, кто установил его, я ударил по нему посохом, повернулся и пошел.
Теперь неподалеку от церкви стояла большая таверна с потрепанной вывеской, болтавшейся над дверью, на ней было нарисовано подобие спящего леопарда, а ниже надпись, гласившая:
НЕ БУДИ МЕНЯ,
а еще ниже:
ГЕРБ КОНИСБИ
Я перевел взгляд на средний палец своей руки, на котором был потертый перстень с печаткой, а на нем изображение другого спящего леопарда и такая же надпись. И, переводя взгляд со спящего леопарда на вывеске на спящего леопарда на моем перстне, я погрузился в глубокие и мрачные мысли. Но, очнувшись наконец от своих раздумий, я заметил деревянное корыто, из которого поят лошадей, почти доверху наполненное чистой водой, и подошел к нему, чтобы смыть с себя дорожную пыль и пот. Но, наклонившись, я замер и изумленно уставился на лицо, хмуро смотревшее на меня с поверхности воды, лицо худое и осунувшееся, с горящими из-под сросшихся бровей глазами, с выступающим носом, с жестокой складкой рта, квадратным подбородком и короткой, остроконечной золотистой бородкой; непривлекательное лицо, обрамленное нечесаными, выгоревшими волосами. Я стоял и удивлялся, каким же дурным изменениям подвергли меня злые обстоятельства и тяжелые испытания, выпавшие на мою долю.
Так я впервые увидел себя после пяти лет рабства.
Насмотревшись вволю, я кивнул своему отражению и окунул голову в корыто, сразу же ощутив приятную свежесть, и кое-как вытерся своей рваной рубахой. Потом подошел к широкой дубовой скамье, что стояла возле дверей таверны, сел и погрузился в размышления. Но вдруг, движимый внезапным порывом, я развязал сумку, что была у меня на поясе, и, вынув из нее чужой кинжал и размотав шейный платок, в который он был завернут, принялся изучать оружие со все возрастающим интересом и любопытством. Лезвие (как я уже говорил) было трехгранной формы, очень узкое, приблизительно восьми дюймов в длину и чрезвычайно острое, но взгляд мой приковала рукоятка кинжала. Мне часто доводилось видеть и держать в руках красивое оружие, но никогда еще я не видел вещи такой редкой работы и мастерства, с каким была отделана эта рукоятка. Она была сделана из серебра, в виде стоящей женщины, ноги которой упирались в небольшую, искусно выточенную гарду, а голова образовывала верхушку рукоятки; она стояла обнаженная, в томной позе, подняв кверху руки и обхватив голову. Искусно вырезанные черты отчасти стерлись из-за постоянного употребления, но даже и в теперешнем виде зловещая красота этого лица оставалась очевидной: в нем была порочная томность продолговатых глаз и насмешливая, жестокая улыбка. И чем дольше я смотрел на него, тем очевидней становилась его невыразимо зловещая сущность, и у меня возникло непреодолимое желание бросить кинжал в пруд и покончить с ним навсегда. Но, вспомнив о своей крайней нужде и не сомневаясь, что без труда смогу выгодно продать столь редкую вещь, я снова завернул его и убрал в сумку, а потом растянулся на широкой скамье и вскоре уснул.
Но даже во сне меня мучили воспоминания. Мне казалось, что я снова слышу щелканье хлыстов, грубые окрики надсмотрщиков, пронзительные крики и проклятия, хриплое, прерывистое дыхание; треск и скрип огромных весел, беспрестанно взмахивающих вперед и назад; более того, я даже чувствовал древко весла, ускользающее из моих слабеющих рук. Все это было как наяву, и, застонав, я проснулся (подобное случалось со мной уже не раз) и обнаружил, что все вокруг залито ярким солнечным светом и где-то рядом сладко заливается дрозд, а передо мной стоит невысокий, худой человек в широкополой шляпе с высокой тульей и, пристально глядя на меня прищуренными глазами, тычет в меня тростью.
– Куда ветер дует, приятель? – спросил он.
Я сел и хмуро посмотрел на него, а он, сунув трость под мышку, наблюдал за мной, взявшись за подбородок.
– Уж больно крепко ты спал, – произнес он. – Я стоял тут и все тыкал тебя своей тростью, но ты только еще громче храпел… а может, это были стоны?
– Вот за это тыканье мне бы сейчас взять да бросить тебя в пруд…
– Да-а… ты, я вижу, можешь! – сказал он и отступил на шаг. – Только не обижайся, приятель.
– Тогда оставь меня в покое.
И я снова лег.
– Ты спишь больно крепко, – продолжал он, – а постель у тебя не очень-то мягкая!
– Я видывал постель и пожестче!
– Да… это, наверное, была гребная скамья в какой-нибудь плавучей испанской преисподней, так ведь, приятель? А?
Тут я вздрогнул и уставился на него. Он был, как я уже сказал, небольшого роста, одет в опрятный камзол красно-коричневого цвета, на боку у него висела длинная шпага или тонкий меч, а в ушах, которые были довольно странным образом обрезаны по краям, – огромные золотые кольца, какие обычно носят моряки; лицо его было худое и острое, с большим ртом и блестящими живыми глазами, быстрый, молниеносный взгляд которых, казалось, успевал схватить все. Шрам, рассекавший его лицо от брови до подбородка, придавал ему несколько разбойничий вид; а что касается его возраста, то ему могло быть и тридцать, и сорок, и шестьдесят лет, так как, хотя лицо у него было гладкое и без единой морщинки, а сам он казался сильным и подвижным, зато волосы у него были совершенно седыми.
– Ну как, приятель, – обратился он ко мне, встретив мой испытующий взгляд, – нравлюсь я тебе?
– Нисколько!
– Чтоб мне ко дну пойти! По крайней мере, откровенно! – сказал он и грустно улыбнулся. – Значит, по-твоему, во мне нет ничего привлекательного?
– Нет!
– Жаль. А у меня возникло такое чувство, что мы еще сходим с тобой в море под одними парусами.
– Откуда тебе известно, что я был гребцом на испанском корабле?
– Да на тебе есть кое-какие следы, приятель. Пока ты тут лежал и стонал во сне, я воспользовался случаем и взглянул на тебя, ясно? На запястьях у тебя рубцы, зажившие совсем недавно, кожа обгорела на солнце, а вид у тебя такой отчаянный, что либо пан, либо пропал, – вот из этого-то я и заключил, что ты только что вырвался из рабства; а испанский галеас я назвал просто так, наугад. Вот так-то.
– Похоже, ты наблюдательный человек, – сказал я, нахмурясь.
– Просто я умею сопоставить одно с другим… и знаешь, время от времени это срабатывает.
– Ага! – насмешливо воскликнул я. – Так, может, ты и имя мое назовешь?
– А, это-то? – сказал он, задумчиво пощипывая свой длинный, гладко выбритый подбородок. – Конисби подойдет?
– Проклятый шпион! – вскричал я и крепко схватил его, но он даже не вздрогнул, и было что-то устрашающее в этом его спокойствии.
– Суши весла, приятель! – мягко проговорил он, глядя мне прямо в глаза. – Я человек тихий, с добрым сердцем и никого не хочу обидеть. И ты будь добр ко мне.
– Как ты узнал мое имя? Что тут за чертовщина?
– Ничего подобного, да простит тебя Господь! Тут опять-таки мое умение складывать одно с другим, понимаешь? У тебя кольцо на пальце, а над головой вывеска.
– А зачем подглядывать за спящим человеком?
– Потому что я человек одинокий и ищу товарища. Потому что, как только я увидел тебя, меня сразу потянуло к тебе, а заметив рубцы у тебя на запястьях, сразу узнал в них следы от кандалов – и между нами установилась связь.
– Какая еще связь?
– Отпусти меня, приятель, и я покажу тебе.
Я отпустил его, и он обнажил длинную мускулистую руку, на которой были видны старые раны от оков, такие же, как у меня.
– Так ты тоже был рабом на веслах? – изумился я.
– Да, брат!
– И выносил позор побоев, наготы и издевательств?
– Да, брат. И более того, мне пришлось бороться за жизнь на Смертном Камне инков, что видно по моим ушам, если тебе, конечно, что-нибудь известно об индейцах майя.
И, не спрашивая, как полагается, разрешения, он сел на скамью рядом со мной и, наклонившись, принялся лениво выводить в пыли фигуры своей тростью.
– Знаешь, приятель, – проговорил он, – я человек тихий…
– Как змея, – промолвил я, – и такой же опасный!
Тут он перестал рисовать и, искоса посмотрев на меня, вздохнул и покачал головой.
– Ты неверно судишь обо мне, – произнес он, – скажем, я осторожный… осторожный человек с чистой душой и добрым сердцем, который страстно хочет найти себе друга.
– Да, и при этом держит с обеих сторон за пазухой пистолеты!
– Верно! – кивнул он в ответ. – Я мог сразу застрелить тебя, но не сделал этого, а это еще раз подтверждает мои слова, что я еще никогда никому не навредил… без причины, конечно… кроме одного случая, и это… – тут он вздохнул, – было очень давно. И я до сих пор одинок. Вот и ищу себе товарища – верного человека, такого, что всегда в ладу с удачей и со всем миром и с которым можно пойти на отчаянное дело, такого, кто знает цену страданиям и поэтому презирает трудности и опасности, такого, кто знает море. Пусть этот человек побратается со мной кровью, пусть он верно будет помогать мне, что бы ни случилось, и я помогу ему получить богатство, большее, чем все богатства Индии, Маноа или Эльдорадо. Ну, что скажешь, друг?
– Я так скажу: исчезни и дай мне поспать, иначе плохо будет.
– Ага, значит, ты не жаждешь богатства?
– Чем дольше я с тобой говорю, тем меньше мне все это нравится.
– Жаль, – сказал он и покачал головой. – Да, жаль, потому что ты мне нравишься все больше и больше – такой славный малый, крепкий, отчаянный, по виду настоящий разбойник – болтаясь на виселице, украсишь любой перекресток, как никто другой; вот этим-то ты мне и понравился. Видишь ли, я человек тихий…
– И пират, каких поискать!
– Ну что ты, приятель, не надо так. Не надо так говорить. Я ведь одинокий человек, который просто ищет товарища…
– И я одинокий человек, который просто любит одиночество, и, кажется, мне сейчас придется отправиться поискать его! – сказал я и поднялся.
– Погоди, приятель, опусти паруса и послушай, что я тебе скажу! – проговорил он, положив на мою руку свою. – Помоги мне во что бы то ни стало, и я предложу тебе… несказанное богатство… настоящее сокровище, целое состояние…
– Тьфу ты! – ответил я. – Пустые слова.
Тут он еще крепче сжал мою руку и посмотрел на меня проницательным взглядом.
– Более того, – медленно проговорил он, – я предлагаю тебе высокое положение, почести, власть и, может быть… любовь, приятель.
– Ну, хватит! – промолвил я. – Я не хочу того, что ты предлагаешь.
– Так чего же ты тогда, черт возьми, хочешь?
– Мести! – ответил я и, стряхнув с себя его руку, повернулся и направился своей дорогой.
Глава 5
Как я прибыл в Конисби-Шин
Было еще рано, я направился к роще и обнаружил там небольшой ручей, весело журчащий между ивами, и, усевшись под этим зеленым сводом, принялся наблюдать за бегущим потоком и вслушиваться в его навевающее дремоту журчание. И так я лежал, окруженный этим прекрасным зеленым миром, где воздух был напоен солнечным светом и сладкоголосым щебетанием птиц, а приятный ветерок шелестел листьями у меня над головой, – и думал лишь о том, как пролью кровь врага моего, как уничтожу его. Мысли эти не давали мне покоя, и, достав из ручья камень, я вытащил из-за пояса свой нож и принялся затачивать лезвие.
Я был увлечен этим занятием, когда вдруг на противоположном берегу ручья раздвинулись листья и появилась девочка. Мы долго не отрываясь смотрели друг на друга через ручей, потом она улыбнулась.
– Дитя, – обратился к ней я, украдкой сунув нож за пояс, – ведь ты не боишься меня?
– Не-е, – ответила она, все еще улыбаясь и качая золотистой головкой.
– Почему?
– Мне нравятся твои глаза, большой человек, они у тебя добрые!
– Правда? – произнес я, переводя взгляд с ее улыбающегося невинного лица на ручей.
– Да, и твой голос… Он мне тоже нравится… такой тихий и приятный, как у моего отца.
– А кто твой отец?
– Он кузнец.
– А сколько тебе лет?
– Семь, и я уже большая девочка. Поможешь мне перебраться через ручей?
Я перенес ее, и мы уселись рядышком: она смеялась и что-то говорила, а я с непостижимым удовольствием вслушивался в ее детское лопотание. Через некоторое время я осмелился и прикоснулся к ее нежной щечке, потом погладил ее локоны и, увидев, что она не противится, собрался с духом, наклонился и поцеловал ее.
Как долго мы сидели так, не знаю, но вдруг я услышал резкий, пронзительный голос и, обернувшись, увидел немолодую костлявую женщину, пристально наблюдавшую за нами из-за ветвей.
– Сьюзан Энн! – закричала она. – Ах, Сьюзан, пойдем отсюда! Пойдем скорее, не то я побегу за твоей матерью.
– Вообще-то ребенок в безопасности! – проговорил я, нахмурившись, и еще крепче сжал руку девочки.
– В безопасности? – в бешенстве вскричала она, обращаясь ко мне. – В безопасности… да, это уж точно, особенно с таким отпетым, отъявленным разбойником, как ты! Отпусти ее… отпусти сейчас же, не то я закричу и подниму на ноги всю деревню, и тогда берегись, проклятый цыган, отпетый ты мерзавец!
И тут старая карга принялась бранить меня так, что ребенок испугался и захныкал, и даже я опешил от свирепого вида и сварливой ругани старухи. И пока она осыпала меня бранью, этим непрекращающимся потоком ругательств (даже не останавливаясь, чтобы перевести дух), я поцеловал девочку в мокрую от слез щечку, перенес ее обратно через ручей и стал смотреть им вслед, пока обе не скрылись из виду. Тогда я сел и, нахмурившись и подперев кулаком подбородок, уставился в бегущие воды ручья, ибо мое мрачное настроение, которое было развеяла детская наивная вера в меня, теперь снова вернулось, только теперь к нему прибавилось чувство горечи. Все еще хмурясь, я вытащил нож и, схватив посох, принялся обстругивать его, чтобы придать ему вид внушительного оружия. При этом я все время проклинал эту женщину, хотя в душе понимал, что она права, ибо я действительно был разбойником, бездомным бродягой с непривлекательной наружностью и грубыми манерами, эдакий отчаянный малый, совершенно неподходящая компания для людей порядочных, и тем более для невинного ребенка. И вот, извергая проклятия, я вспомнил бесстрашный взгляд этих детских глаз и этот чистый поцелуй, и у меня вырвался глубокий вздох.
Обстругав хорошенько свою дубинку, я отложил ее в сторону и сидел, задумавшись, держа нож между колен; вдруг прорвавшийся сквозь листву луч солнца упал на его широкое лезвие, и оно заиграло и засверкало. Я посмотрел на нож, потом на свою руку, и мне было приятно видеть свои сильные пальцы и мышцы, выпиравшие на моем загорелом предплечье, и, вертя сверкающий стальной клинок то так, то эдак, я с радостью подумал, что уже близок час расплаты с моим врагом.
«Сегодня вечером! – сказал я себе. – Смерть, как и все ужасы, всегда приходит с темнотой! Сегодня вечером!» Но постепенно моя радость сменилась нетерпеливым гневом, так как нужно было еще долго ждать наступления ночи; и, подняв глаза кверху, я проклял солнце, потому что из-за него стоял яркий и радостный день, а не черная, мрачная ночь. И тогда к моей злости прибавился растущий страх: я боялся, что врагу в последнюю минуту удастся удрать от меня, что, может быть, прямо сейчас, в этот самый момент, он ускользает из моих рук. И при этой мысли весь я покрылся испариной и, вскочив на ноги, собрался разыскать его во что бы то ни стало и покончить с ним раз и навсегда. «Зачем ждать ночи? – спросил я себя. – Несомненно, радостный свет дня придаст смерти добавочный оттенок горечи. Так зачем же тогда ждать ночи?»
Так я стоял какое-то время и колебался, затем, схватив свою узловатую дубинку, я пустился по тропинке, по которой не раз шагал еще мальчишкой, по тропинке, пролегавшей сквозь густые заросли, тенистые лощины и зеленые перелески, залитые солнечным светом и звенящие птичьими трелями; но перед глазами моими снова и снова возникала одна картина – человек, извивающийся и умирающий в крепких тисках моих рук, а в ушах моих – звуки его предсмертных мучений. И пока я пробирался вперед, деревья простирали ко мне руки, словно пытаясь остановить меня, и кусты тянули ко мне свои колючие пальцы, хватая меня за одежду, как бы желая не дать мне достичь моей цели. Но я отмахивался от них исхлестанными поцарапанными руками и бил по ним тяжелым посохом, я перепрыгивал через канавы, заросли и поваленные деревья, пока, наконец, не выбрался на большую дорогу; и в этот момент часы где-то вдалеке пробили десять. Я ускорил шаг и шел, играя посохом, так что двое или трое путников, что попались мне навстречу, старались обойти меня стороной, окидывая меня подозрительным взглядом. Так прошел я милю или около того; теперь вдоль дороги шла стена, высокая и местами поросшая мхом; пройдя вдоль нее, я очутился возле ворот с каменными колоннами, на каждой из которых возвышался вырезанный из камня лежащий леопард. Теперь эти ворота были железные, очень высокие, прочные и накрепко закрытые, но тут же был боковой вход – небольшая деревянная калитка прямо рядом со сторожкой, возле которой стоял здоровенный малый в роскошной ливрее и, уставившись на квадратные мыски своих башмаков, ковырял в зубах соломинкой. Услышав мои шаги, он поднял глаза и, нахмурившись, покачал головой и движением руки преградил мне путь.
– Таким, как ты, сюда нельзя! – заявил он, когда я был еще на некотором расстоянии от него. – Иди отсюда!
Но, видя, что я все приближаюсь, он бросился к воротам и, опустив засов, грубо обругал меня через решетку.
– Мне надо к сэру Ричарду Брэндону! – сказал я.
– Не таким, как ты. Так что иди отсюда, да смотри у меня!
– Открой ворота, – сказал я.
– Чтоб тебя повесили, душегуб, разбойник, вор паршивый, проклятый висельник! – выпалил он.
– Что ж, все верно! – проговорил я. – А теперь открой ворота!
– Смотри у меня, ворюга, цыган… О господи! Да я отправлю тебя на позорный столб, черномазая образина!
– Отопри! – сказал я. – Или тебе придется худо, когда я войду.
Тут он плюнул на меня через решетку и засмеялся. Оглядевшись вокруг, я заметил поблизости камень величиною в человеческую голову и, положив посох, высоко поднял камень над головой и с силой швырнул его; внезапно ворота распахнулись и так ударили его, что он упал на спину и распластался, а когда попытался подняться, я прижал его посохом к земле и от души ударил его ногой.
– А теперь, – сказал я, – вставай и веди меня к своему хозяину.
Но он только стонал и тер ушибленные места, и тут я услышал приближающийся стук копыт и, обернувшись, увидел превосходно державшуюся в седле даму, которая стремглав неслась по аллее по направлению к нам. Подскакав почти вплотную к нам, она повернула своего могучего коня и, сдерживая его сильной рукой, стала разглядывать меня из-под полей своей украшенной перьями шляпы.
– Что здесь происходит? – требовательно спросила она и окинула меня взглядом огромных серых, бесстрашных глаз. – Кто… кто вы?
Ее голос, глубокий и удивительно нежный, привел меня в неожиданное замешательство, и, не найдя, что ответить, я отвернулся и хмуро посмотрел вниз, на человека, придавленного к земле моим рваным башмаком.
– Кто вы? – снова спросила она. – Отвечайте!
– Бродяга, – проговорил я, не поворачивая головы, – ночующий под изгородью!
– А, так это вы? – сказала она, смягчившись. – Я немного разглядела вас при вспышке молнии там, возле виселицы. Вы мой лесной незнакомец, и, сэр, я ваша должница… большая должница, безусловно, сэр, если только…
– Я не сэр, – резко возразил я.
– Грегори, – обратилась она к парню, лежавшему у меня под ногами. – Грегори, вставай!
– Грегори, – сказал я, – не двигайся!
– Сэр, что вы собираетесь сделать с моим слугой? – спросила она, нахмурив тонкие черные брови.
– Клянусь, – сказал я, – этот разбойник и грубиян вынудил меня выломать ворота.
– Но что вам здесь нужно? Кто вы? Как ваше имя? – вскричала она, задыхаясь, и меня удивило, как пристально она смотрит на меня.
– Грегори, – произнес я, убрав с него свою ногу, но грозя ему посохом, – я пришел сюда не для того, чтобы торговаться с барышнями, так что поднимайся и веди меня к своему хозяину.
– Нет, – простонал тот, поднимая глаза, – это совершенно невозможно, здесь только моя госпожа…
– Но мне нужен твой хозяин… он дома?
– Нет, – ответил Грегори, уворачиваясь из-под моего посоха, – вот и госпожа скажет вам то же… его нет здесь.
– Ах вот как! – промолвил я. – Тогда я хочу сам в этом убедиться.
Я повернулся и хотел было направиться по аллее к дому, но леди стегнула лошадь и преградила мне путь.
– Куда вы направляетесь? – спросила она, глядя мне прямо в глаза.
– В дом. Поискать сэра Ричарда. Мне пришлось приложить кое-какие усилия, чтобы добиться встречи с ним.
– С какой целью?
– Ну, по правде говоря, – ответил я, опершись на посох и глядя ей в глаза, – у нас с ним неотложное дело, ну… так сказать, вопрос жизни и смерти.
Стоя рядом, я не мог не заметить ее яркой красоты, ее благородной осанки и той изящной легкости, с какой она управляла каждым движением своей беспокойной лошади. И мне, одетому в лохмотья, она казалась не женщиной, а какой-то богиней, гордой, безупречной и такой невероятно далекой; и все же эти гордые губы могли бы стать мягкими и нежными, а эти ясные глаза, что так бесстрашно смотрели на меня…
Тут Грегори вскочил на ноги и, вырвав из моей вдруг ослабевшей руки посох, принялся наносить мне один за другим такие удары, что я зашатался, и при этом он все время кричал:
– Эй… Питер! Роджер! Вилли! Эй, все сюда! Спускайте собак… ради всех святых, ко мне!
Сбитый с толку его ударами, я все же яростно бросился на него, крепко схватил за горло и стал трясти. Я уже почти задушил его, но тут увидел всадника, скачущего прямо на меня. Тогда я отбросил задыхавшегося Грегори в сторону и повернулся, чтобы встретить нового противника. Это был молодой, щеголеватый кавалер, и элегантность была во всем его облике, от вьющихся локонов до испанских сапог. Помню, как я грубо выругался, когда его хлыст настиг меня, и прежде, чем он успел хлестнуть меня снова, я одним прыжком очутился прямо под ржущей мордой его лошади и, схватив поводья поближе к уздечке, изо всех сил принялся тянуть за них. Я слышал крики и испуганные женские вопли, но продолжал еще яростнее тянуть, а лошадь вставала на дыбы, храпя от ужаса и отчаянно брыкалась передними ногами; и над ее вздымавшейся гривой на меня сверкали глаза всадника; и тогда, разразившись диким, ликующим хохотом, я так дернул за уздечку, что обезумевшее от боли и ужаса животное, дико заржав, потеряло равновесие и задом рухнуло наземь. Отпрыгнув подальше от этих отчаянно бьющих копыт, я увидел, что со всех сторон окружен людьми, которые все были вооружены палками и, подступая все ближе и ближе ко мне, что-то кричали; и поверх них, широко раскрыв глаза и плотно сжав нежные губы, на меня смотрела моя леди, и, встретившись с ней взглядом, я засмеялся, и тут же ее люди набросились на меня:
– Ах ты, мой ягненочек, иди, я тебя приласкаю!
Но даже тогда, когда, ошеломленный и оглушенный градом ударов, я зашатался и упал на колени, я все равно пытался подняться, раздавая удары голыми кулаками. Искры сыпались у меня из глаз, во рту был вкус крови, и все звуки вдруг сделались неясными и отдаленными. Спотыкаясь, словно слепой, я вскинул руки, упал и начал погружаться в окутавшую меня темноту и больше уже не помнил ничего.
Глава 6
О том, как я испытал позор и мучения и как потом был освобожден
Очнувшись, я услышал звук, походивший на шум набегающей волны, звук этот все нарастал. Прислушиваясь к нему, я попробовал пошевелиться и очень удивился, когда смутно почувствовал, что это невозможно. Тогда я попытался поднять правую руку – ее что-то держало, попробовал поднять левую – то же самое было и с ней, потом я понял, что горло мое тоже чем-то сжато, и тогда мое удивление и смутное предчувствие возросли еще больше. Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, была лужица крови, чуть дальше валялась разбитая репа, еще дальше дохлая кошка, а еще дальше я увидел пару украшенных пряжками туфель, хлопчатобумажные носки, просторные брюки и широкий ремень, на котором висел тонкий меч или рапира с невероятно длинным клинком. Тогда, подняв глаза еще выше, я увидел худое лицо, ото рта до брови рассеченное шрамом, загорелое лицо с живыми, очень подвижными глазами и странными ушами, которые по краям были обрезаны, как у собаки. И вот когда я смотрел на него, мне смутно показалось, что я уже где-то и когда-то видел это лицо раньше. Тем временем шум, который я принял за шум моря, становился громче, так что я начал различать голоса и даже слова и, подняв голову (насколько мне позволяла эта штука, что сжимала мое горло), я увидел вокруг множество лиц – они окружали меня со всех сторон и заполняли собою все пространство до самого церковного двора.
И тут вдруг я понял, где нахожусь: я был прикован к позорному столбу.
– Смотрите! Он приходит в себя! – кричал голос.
– Давно пора! – заорал огромный рослый детина, что стоял ближе всех. – Просто грех тратить такие хорошие тухлые яйца на этого мерзавца, который даже не знает, что в него летит! В такого грех не попасть – тут и ребенок не промахнется!
И, сказав это, верзила запустил в меня яйцом, которое ударилось о доску в дюйме от моего лица, и воздух заполнился удушающим зловонием.
Это послужило сигналом, и тут в меня полетели все отбросы, которые нашлись в деревне. И мне теперь нужно было быть благодарным своей отросшей шевелюре, потому что она хоть как-то защищала меня от ссадин и ушибов, и все же лицо мое вскоре превратилось в сгусток крови и грязи.
Бесполезно было бы рассказывать, какая неистовая ярость охватила меня, когда я стоял вот так, беспомощный, перед ревущей толпой моих мучителей. Главным у них был тот верзила, о котором я уже упоминал, и (так как он был выше всех и у него были самые длинные руки) ему чаще других удавалось попадать в меня. Впрочем, один раз (вне себя от ярости) я поднял голову и обругал его, и тогда он с такой силой запустил в меня чем-то отвратительным, что рот мой наполнился кровью.
– Господи, приятель, ты стойко держишься! – раздался голос где-то совсем рядом со мной. – Держись от них по ветру, не давай им обстреливать тебя – погружай нос ниже. Ниже, приятель, держи ниже и верь своему товарищу Адаму Пенфезеру – я здесь. Терпение, только терпение!
Посмотрев туда, откуда раздался этот голос, я увидел человека, с которым беседовал сегодня утром; наши взгляды встретились; медленно закрыв один глаз, он дважды кивнул мне, повернулся и стал пробираться через толпу, локтями прокладывая себе путь. Не очень-то большую симпатию испытывал я к этому человеку, но, когда он ушел, меня охватило чувство безысходного одиночества, и я, подняв голову, смотрел ему вслед. Но тут тухлое яйцо попало мне прямо в бровь, вызвав поистине невыносимую боль; в этот момент верзила схватил дохлую кошку за хвост и принялся раскачивать ее из стороны в сторону, но прежде, чем он успел запустить в меня свой омерзительный снаряд, чья-то рука отвесила ему сзади такую хорошую затрещину прямо в самое ухо, что шляпа слетела у него с головы; с бешеным ревом он обернулся и изо всей силы ударил того, кто стоял рядом с ним, той омерзительной вонючей штуковиной, что предназначалась мне. И тут же вокруг этих двоих поднялся такой шум и гам, что толпа, напрочь забыв обо мне, плотно обступила их со всех сторон. Некоторое время продолжалась ожесточенная драка, и я, всеми забытый, всматривался в колышущуюся толпу, надеясь увидеть Адама Пенфезера, но он исчез.
Наконец, убедившись, что верзила уже достаточно наказал своего противника, толпа вновь обратилась ко мне и с новой силой принялась мучить и истязать меня. И вот когда я висел так, подвергаемый страданиям и позору, ослабев от боли и сжигаемый нестерпимой жаждой, взгляд мой упал на маленького, худого человечка с веселыми глазами и загнутыми кверху уголками рта, который все время смеялся и жестикулировал; он наклонился, ища, чем еще можно было бы запустить в меня, и тут взгляды наши встретились, и в этих живых глазах я прочел внезапную жалость.
– Слушай, парень, – хрипло проговорил я, – глоток воды…
– Сейчас, приятель, – подмигнул он мне, – я мигом!
Тут он повернулся и исчез в толпе, а я, сгорая от нестерпимой жажды, стал ждать его возвращения, напряженно всматриваясь в толпу; но он все не возвращался, и я, застонав, поник головой. И вдруг – о счастье!.. – в этот самый момент он появился передо мной, неся оловянную кружку, наполненную водою. Держа ее в руке, он поднялся на ступеньки перед позорным столбом и, не обращая внимания на глумящуюся, улюлюкающую толпу, поднес живительную влагу к моим потрескавшимся губам, как вдруг к нему подскочил тот самый верзила и мощным ударом кулака выбил у него из рук кружку.
– Не бывать такому, коробейник! – прорычал он.
Я стонал и распухшим языком облизывал окровавленные губы, а маленький человечек быстро повернулся, и, споткнувшись о расставленные ноги верзилы, бросился прочь, пробираясь сквозь ревущую толпу, которая расступилась, чтобы дать ему пройти.
Нескончаемо долго тянулся день; удушающее зловоние отвратительной грязи, налипшей на меня, жара, пыль и изнуряющая жажда – все это сделало мои страдания невыносимыми; меня охватила ужасающая тошнота, и я почти терял сознание. Я уже находился на последней грани, как вдруг откуда-то позади толпы раздался пронзительный крик: «Пожар!» Крик этот был сразу же подхвачен остальными, наполняя воздух паникой; словно по волшебному мановению, толпа растворилась, так что лужайка и дорога сразу же опустели. Все это я видел лишь смутно (ибо был скорее мертв, нежели жив), и тут я осознал, что кто-то стоит рядом со мной и шепчет мне что-то на ухо:
– Приготовься, приятель, приготовься! Здесь не осталось ни одного из этих мерзавцев – все убежали на пожар. Приготовься отдать швартовы!
– Брось ты, – простонал я, – я мертвец!
– Тут у меня такое, от чего ты сразу зашевелишься, – проговорил Пенфезер, помахав у меня перед глазами огромным ключом. – Вот оно, освобождение из твоей дьявольской ловушки! Мне пришлось изрядно постараться, чтобы достать его.
– Тогда, ради бога, выпусти меня, – простонал я.
– Суши весла, приятель! – сказал он, вертя ключ на пальце. – Вот посмотри-ка, я ведь тихий, робкий человек, а мне за последние полчаса пришлось пойти на немалый риск, и все это ради тебя. Но уговор дороже денег, так ведь?
– Ну… – с трудом проговорил я.
– Тогда, если я освобожу тебя, приятель, ты поклянешься быть моим верным другом? Ну так как – да или нет?
– Нет! – сказал я. – Скверное это дело – вступать в уговор с человеком, который, того и гляди, умрет. Нет.
– Зачем же тогда все это, – со вздохом проговорил он, – и горящая скирда, и проломленная голова Джона Ферди, церковного сторожа, я весь взмок от пота, и все это – увы! – напрасно, потому что тебе хочется остаться в кандалах.
– Дай мне только глоток воды, – попросил я.
– Воды нет ни капли! – сказал он, вертя ключ на пальце перед самым моим носом. – И представь, нет даже кружки доброго пенящегося кентского эля… такого темного эля…
– Ах ты, негодяй! – выдохнул я сквозь пересохшие губы. – Я еще отомщу за эти мучения… я буду жить!
– Человеческие законы, – сказал он, – пустая штука, человеческая сила тоже, а что касается мести, приятель, то как она может быть для тебя важнее, чем богатство?
Тут он помолчал, и поскольку я не отвечал, то он продолжил:
– Ну вот, прежде ты был такой могучий и сильный, настоящий сорвиголова; и что теперь? А теперь ты висишь вот так, беспомощный, жалкий глупец, и умираешь от жажды… Так ведь?
Тут я снова застонал.
– Да к тому же еще и воняешь! – произнес он, зажимая нос.
Тут я выругался, правда несильно, и он подошел на шаг ближе.
– Говорят, леди Брэндон и ее галантный кавалер, сэр Руперт Деринг, – это его ты сбросил с лошади – собираются прийти и взглянуть на тебя; для тебя это, конечно, позор, зато вот будет зрелище! Чтоб мне провалиться!
Тут мною овладела внезапная ярость, и я начал отчаянно пытаться освободиться, так что дьявольское приспособление, к которому я был привязан, закачалось и затрещало; но все мои усилия были напрасными, и я снова бессильно повис, израненный и задыхающийся, а Пенфезер все вертел ключ вокруг пальца, а потом, вздохнув, проговорил:
– Не надоело тебе, приятель, быть связанным? Скажи только слово, и я освобожу тебя, отведу в надежное убежище и угощу отменным элем. Можешь не сомневаться.
– Вот что, – простонал я, – дай мне только до завтрашнего дня покончить с моим делом, и тогда я твой!
– Решено! – ответил он и тотчас же вставил ключ в замок; но едва успел он освободить мне шею, как вдруг негромко выругался. – Спокойно, приятель! – прибавил он успокаивающе. – Потерпи еще немного… вон возвращается этот здоровый балбес, так что я сделаю вид, будто поношу тут тебя последними словами, пока он не уйдет.
Что он тотчас же и принялся делать, называя меня «презренным негодяем» и другими подобными словами. И, подняв голову, я увидел все того же длинного верзилу, главного моего мучителя, который направлялся в нашу сторону по лужайке.
– Всего-то скирда у Фармера Дарелла загорелась, – сообщил он Пенфезеру, – а я сказал: ну и пусть горит, Фармер Дарелл не мой друг. Пойду-ка лучше поразвлекусь немного с этим вот бродягой.
И он наклонился, чтобы поискать, чем можно запустить в меня; а я поднатужился, колодка у меня на шее поддалась, и прежде, чем верзила успел что-либо понять, я быстро подкрался к нему. Он был сбит с толку таким неожиданным нападением, а я, прыгнув на него, повалил его на спину и придавил коленями, сжав пальцами его горло. И так я душил его (и надо сказать, не без удовольствия), пока Пенфезер не схватил меня за руку.
– Бог ты мой! – вскричал он. – Ты что, хочешь задушить насмерть этого дурня?
– Именно этого я хочу!
– И чтоб тебя из-за него вздернули?
– Нет, вряд ли он этого заслуживает.
– Тогда, черт побери, отпусти его глотку!
Я разжал руки и, не обращая внимания на его слабое сопротивление, потащил по траве.
– Ну, что теперь, приятель? – спросил Пенфезер. – Теперь-то что, чтоб мне провалиться?
– Сейчас увидишь!
Я подтащил верзилу к позорному столбу и там приковал его вместо себя, а потом вырвал у Пенфезера ключ и запер замок. Проделав все это, я пнул его пару раз, а потом, подобрав дохлую кошку, повесил ее ему на шею; потом я выбросил ключ в пруд и, повернувшись, направился прочь, оставив его, стонущего, висеть там.
Глава 7
Как я узнал о сокровищах Черного Бартлеми
Покинув деревню, я почувствовал, как меня снова охватила тошнота и головокружение, я спотыкался и почти падал, а Пенфезер поддерживал меня, подставляя плечо. Только так и удавалось мне кое-как передвигаться, а он не давал мне даже остановиться, чтобы передохнуть (несмотря на мою слабость), пока наконец, идя вдоль ручья, он не привел меня под зеленый уединенный свод леса.
Тут я припал к ручью и принялся пересохшими, потрескавшимися губами втягивать прохладную, сладкую воду; и пил, пока Пенфезер не остановил меня, иначе я мог навредить себе. Силы постепенно возвращались ко мне, я промыл раны (которые хотя и причиняли мне сильную боль, но, к счастью, были немногочисленными) и принялся чистить, как мог, свое испачканное платье.
– Ну все, теперь-то мы товарищи! – произнес Пенфезер, сидя рядом и наблюдая за мной.
– Да… с завтрашнего дня.
– Думаешь, тебе удастся отомстить, приятель?
При этих словах я повернулся к нему и сжал кулаки.
– Погоди ты, тише едешь – дальше будешь, – проговорил он, даже не пошевелившись.
– И если из-за своего безрассудного желания отомстить ты впадешь в грех, то твой товарищ Адам Пенфезер снова придет к тебе на выручку. Так что суши весла!
– Так, значит, это ты поджег скирду?
– А кто же еще?
– Я слышал, за это вешают!
– А что, если человеку непременно надо пойти на риск ради товарища? А?
– Тогда я твой должник, Адам Пенфезер!
– Нет, – возразил он, – между товарищами из Братства не может быть никаких долгов, между ними все честно, все поровну!
И с этими словами он вытащил кошелек и вытряхнул из него все, что там было, на траву, прямо между нами, так что образовалась куча монет; потом поделил ее на две равные части и придвинул горку серебряных и медных монет ко мне.
– Что это? – спросил я.
– Все поровну, друг!
– До завтра я тебе не друг!
– Ага! – сказал он, пощипывая подбородок. – Опять за свое!
– Забери деньги, я их еще не заслужил! – тихо проговорил я.
– Черт возьми! А ты, оказывается, гордый! – сказал он. – Гордость пустая штука, а месть и более того. Господи, приятель, несмотря на твои лохмотья, сразу видно, что ты из знати… голубая кровь, благородное происхождение, noblesse oblige и всякое такое.
– Придержи язык! – сказал я, нахмурясь.
– То, что я сказал, ясно как божий день, – спокойно продолжал он. – Что касается меня, то я всего лишь простой, незнатный человек, и мне нет дела до какой-то там мести, и у меня нет ни капли гордости относительно собственной персоны. Вот что я тебе скажу – забудь ты про эту месть… просто вышвырни ее за борт, приятель, и тебе станет легче; да поищи чего-нибудь более полезного, золота например. Я слышал, это нужная штука, золото… Ну, как, с местью покончено?
– Нет! – сказал я, нахмурясь. – Нет, нет и еще раз нет. Ни за какие сокровища Бартлеми!
– Ага! – вкрадчиво произнес он. – Значит, ты все-таки слышал о них?
– Я слышал о них от моряка прошлой ночью в пещере.
– Как? – удивился он, острым взглядом окидывая окрестности. – Моряк? Здесь?
– Да, здесь, будь я проклят! – воскликнул я. – Эта местность просто кишит моряками!
– Ты так считаешь? И как он выглядел?
– Пришлый бродяга, который пел странную песню.
– А-а! – сказал Пенфезер, прищурив глаза. – Песню, говоришь? Странную? А какую?
– Вся она была про мертвецов и про убийства.
– А помнишь ли ты, приятель, хоть строчку из нее?
– Да. Слова у нее были примерно такие:
- Расстались с жизнью одни от ножа,
- Одни приняли пулю вдруг.
- Но…
Но тут я остановился в растерянности, потому что мой спутник почти неосознанно подхватил мотив и негромко продолжил:
- И трижды все трое приняли смерть,
- Нанизаны вместе на крюк.
– Друг, – сказал он все тем же тихим голосом, – не видел ли ты среди этих моряков однорукого человека, такого высокого человека с крюком вместо левой руки… с таким сверкающим острым крюком?
С этими словами он схватил меня за руку, и меня поразило, какой железной была его хватка.
– Нет, – ответил я.
– Нет… – повторил он, отпустив мою руку. – Как ты думаешь почему? Потому что он мертв вместе с другими, такими же, как он. С ним покончено… с ним и с его крюком, чтоб его черти припекли!
- Нанизаны трое на прочный, железный,
- Длинный и крепкий крюк!
– А! – вскричал я. – Так вот что это был за крюк!
– Да, – кивая, ответил Пенфезер. – Такой вот. Пуля – плохо, нож – еще хуже, но стальной крюк, приятель, очень и очень острый… знаешь, такой смерти не пожелаешь никому. Знаешь, приятель, я видел, как много людей погибло от этого самого крюка… много людей – разодраны и пропороты насквозь, будто собачьими клыками! Много смертей я видел раньше, но такая… это зрелище не для хлюпиков!
– Так он, этот человек с крюком, вроде мертв, ты сазал?
– Да. И горит у дьявола в преисподней!
– Ты уверен?
– Я сам убил его, приятель!
– Ты?!
– Я, приятель. Мы дрались на выступе скалы высоко над морем, мой нож против его ножа и крюка – именно от этого самого крюка остался у меня шрам на лице, – мы дрались, и я все теснил и теснил его к обрыву, пока он не свалился в море. И еще три дня я наблюдал там за берегом, питаясь одними моллюсками, все искал его, чтобы убедиться, что покончил с ним навсегда.
– А те, другие разбойники?
– Как они выглядели, приятель?
Тут я описал (насколько мог полно) троих матросов, с которыми дрался в придорожной таверне (конечно же не упоминая о девушке), а Пенфезер слушал, то и дело кивая и пощипывая свой вытянутый подбородок.
– А тот, другой человек, – произнес он, когда я закончил, – тот, что пел? Не знаешь, его, случайно, звали не Скряга? А, приятель?
– Так точно! – воскликнул я.
– Странно, – промолвил Пенфезер и, мрачно уставившись в журчащие воды ручья, сидел так некоторое время в задумчивости. – Интересно, – проговорил он наконец. – Интересно.
– Как ты думаешь, что бы могло их заставить забраться так далеко от побережья? Чего они здесь ищут?
– Меня, приятель!
– Тебя?! – переспросил я, удивляясь его странному спокойствию. – И что им может быть от тебя нужно?
– Моя жизнь, приятель. И еще кое-что. А что это за штука, я расскажу тебе, когда мы побратаемся кровью. Но, кажется, мне нужно идти. Когда будешь искать меня (а ты ведь будешь искать, приятель), спроси обо мне в таверне под названием «Кружка эля». Это тихое местечко на дороге в Беджбери-Кросс. Стоит тебе прийти туда в любое время дня и ночи и сказать только два слова: «Верный друг», и ты найдешь там надежное убежище. Помни, друг, нужно сказать только два слова: «Верный друг», и еще: лучше приходить ночью.
С этими словами он поднялся.
– Подожди! – проговорил я, указывая на монеты, все еще лежавшие на траве. – Забери свои деньги!
– Они не мои, – сказал он, покачав головой. – Оставь их себе или выброси – мне все равно.
И он скрылся в лесу; и, видя, как он удаляется, я почувствовал, что в его походке появилась некая настороженность.
Глава 8
Как я познакомился с неким Годби Дженкинсом, коробейником
Приближалась ночь, когда я добрался до небольшой пивной, что стояла возле самой дороги, уютно окруженная деревьями. В нее-то я и вошел, перебирая в кармане деньги Пенфезера, и был настроен решительно. Но вдруг остановился, потому что, проходя мимо открытой решетки, услышал громкий смех и веселый голос.
– И тут, можете мне поверить, – молвил этот голос, – это так же точно, как вот этот кусок мяса, что лежит передо мной, – да-да, и притом хорошего мяса, зажаренного как раз в меру, хозяюшка, – так вот, там был этот здоровенный верзила, первый задира в деревне Том Баттон, прикованный к позорному столбу, и клянусь вот этим добрым элем, вид у него был прежалкий: под глазами синяки, нос разбит в кровь, камзол порван, а на шее дохлая кошка. Ха-а! Том Баттон, этот горлопан, у которого вечно кулаки чешутся, дай ему только подраться, Том, который наводит страх на всю округу, и вдруг висит, привязанный за шею, и стонет, поверите ли, громко-прегромко! И самое смешное, что ключ куда-то пропал, это так же верно, как и то, что я грешен. Так что им пришлось сломать замок, чтобы выпустить его. И это здоровяк Том, которому нет равных по силе во всей округе!
Но тут веселый голос и смех прервались, и в окне показалась улыбающаяся пышногрудая, румяная женщина, лицо ее (как и голос) было приветливым, и она обратилась ко мне:
– Чего угодно, молодой господин?
– Немного поесть, хозяюшка, – сказал я и надвинул свою видавшую виды шляпу пониже, чтобы прикрыть свое разбитое и распухшее лицо.
– Тогда заходите, господин, заходите… Здесь нет никого, кроме моего Роджера да Годби, коробейника, его все знают.
Я вошел в небольшую, чистую комнату и, усевшись в самом темном углу, ответил на приветствия обоих мужчин, а миловидная хозяйка засуетилась вокруг меня, и вскоре на столе передо мной появился отменный кусок жареной говядины, хлеб и пиво, и я с жадностью набросился на еду.
Оба мужчины уселись, подперев руками подбородок, в дальнем конце стола, один – здоровяк с красным, румяным лицом, другой – невысокий, костлявый человечек, который без конца смеялся и ел, ел и смеялся и при этом все время заводил разговор, так что за ним было очень забавно наблюдать.
– Вы направляетесь в Ламберхерст, господин? – обратился он вдруг ко мне.
– Да, – кивнул я в ответ, не отрываясь от мяса.
– А не довелось ли вам видеть, как развлекались там с цыганом, что был на позорном столбе… с тем, что напал на леди Брэндон?
– Да, – кивнул я в ответ и еще ниже склонился над тарелкой.
– Скверное это развлечение, травить вот так беспомощного беднягу. Я думаю… Не знаю, но я сам там был и, должен сказать, сам запустил в него разок-другой… В свое время я любил это дело, да уж!.. А вы швырялись в этого бродягу, господин?
– Нет!
– И почему?
– Потому что, – сказал я, отрезав себе еще мяса, – я и есть этот самый бродяга.
Тут Роджер, хозяин, изумленно уставился на меня, а его толстушка-жена отпрянула назад, и даже разговорчивый коробейник вдруг замолчал ненадолго, внимательно глядя на меня своими веселыми, проницательными глазами.
– Ах, вот оно что! – произнес он наконец. – Значит, это был ты?
– Да, я!
– Ну и зачем тебе понадобилось нападать на знатную леди?
– Я этого не делал!
– А Грегори клянется, что так оно и было.
– Твой Грегори лжец!
– Что верно, то верно! – кивнув, подтвердил хозяин.
– И притом жестокий и безжалостный человек, – прибавила его жена. – Но бог мой, молодой господин! Что они с вами сделали! Лицо у вас все разбито, даже распухло!
– Да-да! – кивнул Роджер. – Как будто порезано! Вам, наверное, больно. И я, как тут говорил Годби, не смог бы бросаться в вас, если бы был там, хотя в таких случаях это всегда естественно. Как вы думаете?
– Вполне естественно! – согласился я.
– Тогда зачем было, – спросил щупленький коробейник, – выламывать калитку?
– Чтобы войти!
– Так-так! – сказал Годби-коробейник, хитро подмигнув мне. – Наверное, хотел своровать что-нибудь или, может быть, ходил высматривал, а? Скажи уж честно, тут все свои.
– Я не вор, – сказал я, – а также не мошенник, и не соглядатай, и не какой-нибудь там беглый.
– Тише, приятель, тише! Я тоже, знаешь ли, не вор, хотя не испытываю любви к судебным исполнителям, вот и Роджер подтвердит. Я коробейник, и притом, удачливый, чтоб мне пусто было! Да, все любят доброго Годби, особенно женщины и дети… Конечно, ведь у меня всегда найдутся ленты, кружева, подвязки, булавки, пряничные человечки, позолоченые свинки и слоны – все это всегда имеется у доброго Годби, все это для них! И все равно у меня и товар грозят отобрать, и ходят за мной по пятам проклятые судебные приставы, пропади они все пропадом! А все из-за этого проклятого Грегори Брэгга, чтоб ему сдохнуть!
– Чего не знаю, того не знаю, – сказал я, – но в чем я могу поклясться, так это в том, что ты хороший человек, коробейник Годби, и в груди у тебя храброе и доброе сердце.
– Как это? – спросил он, и в глазах его загорелись огоньки. – Как это, мой храбрец, а?
– А кружка воды?
– Которая тебе не досталась, дорогой мой забияка!
– Однако это было весьма мужественно с твоей стороны – поднести ее мне. – Да уж. А Том Баттон разлил ее!
– А ты сбил его с ног за это!
– Клянусь Священным Писанием, Роджер и Сайсли, ловко я это проделал – Том тогда здорово треснулся… да-а, а ведь он не привык валяться вот так, распластанным на глазах у всех, чтоб меня черви съели!
– Давай-ка, – предложил я, отрезав себе еще мяса, – выпьем с тобой пива за все это!
– С удовольствием! – вскричал коробейник.
– Тогда, – продолжал я, выкладывая на стол деньги, – давайте все выпьем за дружбу, потому что пиво, как и дружба, хорошая штука, а хороших вещей не так уж много в этом мире!
– Это точно, сказать по чести! – улыбнулась добродушная пышногрудая Сайсли.
– И лучшего пива, чем наше, не сыскать! – промолвил Роджер.
– В этом я могу поклясться! – рассмеялся коробейник. – Чтоб мне пауков наесться!
Они принесли пива, и Годби, подняв большую пивную кружку с пенящимся напитком, улыбнулся и произнес:
– Чтоб их колики пробрали, всех этих приставов и судебных исполнителей и прочий сброд, всех, отсюда и до самого Лондона! – проговорил он и поднес кружку к губам; но вдруг, так и не отпив из нее, поставил ее и вскочил. – Братцы, я, кажется, попался! – промолвил он. – Вон они, смотрите!
В этот момент узкий дверной проем заслонили собою двое свирепого вида молодцев, у каждого из них в руках было по внушительной дубине.
– Так, – сказал один из них, что поздоровее (голос у него был грубый). – Нас двое, ты один, так что лучше сразу сдавайся – и смотри без фокусов!
– Спокойно, ребятки, тише едешь – дальше будешь! – отвечал Годби, нимало не смутившись. – Годби кроткий, как ягненок… Да что там! Все ягнята, голуби и младенцы просто рычащие львы по сравнению с Годби, так что тише едешь – дальше будешь. Ну, и что на этот раз? Чудаки вы, ей-богу!
– А вот что: четыре часа на позорном столбе, три – под палками и месяц в Мэйдстоунской тюрьме.
– Ну хватит! – прорычал хозяин Роджер, сжимая волосатые кулаки и украдкой поглядывая на ржавый меч, висевший над очагом.
– Да брось ты, Роджер, я само послушание! – со вздохом проговорил коробейник. – И я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня неприятности. И потом, у тебя здесь так чисто и опрятно – совсем неподходящее место для мордобоя! Так что до встречи, друзья!
И он повернулся и встал между двух своих поимщиков, готовый идти с ними, но в какое-то мгновение его блестящие глаза встретились с моими, и в них я прочел мольбу.
Едва они вышли за дверь, я тут же вскочил на ноги, и хозяин тоже.
– Что теперь делать? – спросил он, переводя тоскливый взгляд с меня на ржавый меч.
– Вот что, – сказал я, быстро прикинув, как действовать дальше, – ты оставайся здесь ради твоей доброй жены.
– Да, пожалуйста, Роджер! – взмолилась та. – Для нас это будет полное разорение!
– Кроме того, – сказал я, взявшись за свою дубину, – их только двое, так что оставайся здесь.
Я вышел из таверны и вскоре догнал этих двоих, они вели своего пленника, обступив его с обеих сторон, а он шагал довольно смиренно. Когда я приблизился, все трое остановились.
– Что тебе нужно? – грубо спросил один из них.
– Вы!
– И чего тебе от нас надо?
– Вашего пленника.
– Зачем он тебе?
– Он мне нужен!
– Ишь ты! Надо же!
– Да. Так я заберу его?
– Да провались ты пропадом, грязный бродяга!
– Это не ответ!
– Это все, что ты получишь от нас, не считая, конечно, хорошей взбучки, – сказал он и, поплевав на ладони, крепко схватился за свою дубинку.
– Так, значит, я могу его забрать? – спросил я.
– Попробуй, будь ты проклят! – заревел детина. – Эй, Джим, давай живее!
И, подняв дубину, он сломя голову бросился на меня, но я отпрыгнул в сторону, так что он пронесся мимо и мой ответный удар пришелся ему прямо между запястьем и локтем, дубина выпала у него из рук и полетела в придорожные заросли. Изрыгая проклятия, он бросился на меня, чтобы схватиться в рукопашной, но, не подпуская его к себе, я ударил его (весьма удачно) и продолжал бить, куда придется, пока он (с висевшей беспомощно рукой), совершенно забитый моею дубиной, не видя в моих глазах пощады и смекнув, что дело его плохо, не бросился наутек. Я повернулся и увидел, что его приятель лежит на земле, а маленький коробейник, взобравшись на него сверху и придавив ему горло, держит кулак у самого его носа.
– А ну-ка понюхай, понюхай вот этого, Джоб, – говорил он. – Понюхай, приятель. Это кулак человека, который, ей-богу, добрался бы до твоей печенки, если бы не уважение к твоей старушке-матери… разрази меня гром! Так что скажи спасибо своей старушке, приятель, во-первых, за то, что у тебя есть печенка, а во-вторых, за то, что тебе удалось спасти эту самую печенку. А теперь вставай, Джоб, да проваливай поживее, беги, догоняй своего дружка и всем расскажи, какой добрый Годби, потому что хоть и было у него сильное искушение запустить тебе пальцы в самую печенку, но он не сделал этого, и все благодаря твоей старенькой матери… ну, давай, уноси ноги!
Тот вскочил на ноги (вид у него был плачевный) и бросился догонять своего товарища.
– Друг, – сказал маленький коробейник, протягивая мне руку, – теперь мы полностью в расчете за ту кружку воды, которая тебе так и не досталась! Ну, что скажешь?
– Скажу, – ответил ему я, – что надо нам вернуться и выпить доброго эля!
– Друг, – промолвил коробейник, сверкая зубами в улыбке, – с радостью!
Мы вернулись в таверну и увидели, что хозяин стоит и в одной руке держит ржавый меч, а жена его крепко вцепилась в другую. Увидев нас, он уронил оружие и радостно взревел, а Сайсли, бросившись к нам навстречу, простерла руки для сердечного приветствия. Все четверо уселись за столом, и, пока мы потягивали пиво, Годби со всеми подробностями описывал нашу недавнюю стычку.
– Друг, – сказал он некоторое время спустя, через стол протягивая мне руку для рукопожатия, – как твое имя?
– Мартин.
– А что, Мартин, есть у тебя друзья или родственники?
– Нет!
– И у меня нет. Послушай, после того, что случилось сегодня, нам с тобой тут нечего делать. Так я вот что скажу: давай с тобой отправимся странствовать, друг, бродить по дорогам, по чудным, просторным дорогам. А? Что скажешь, Мартин?
– Нет!
– Почему, друг?
– Потому что если после сегодняшней ночи я останусь жив и не попаду в тюрьму, то отправлюсь в море.
– Скверная это жизнь, друг!
– Жизнь вообще скверная штука! – ответил я.
– Нет, друг. Иногда жизнь может быть очень даже хорошей штукой… Да, брат, бывают времена… хорошие времена!
– Какие еще времена?
– Знаешь, Мартин, бывает, лежишь где-нибудь уютненько под кустом, на небе звезды, и костер твой мирно потрескивает, и звезды поблескивают из-за листьев, моргнешь – они задвигаются, и так моргаешь, моргаешь, пока, наблюдая за ними, не забудешь на время обо всех своих тревогах и думаешь только о чем-нибудь светлом. Да-да, много раз лежал я вот так под звездами, они мигнут мне – и все мои волнения долой. Потом наступает время, когда просыпаются птицы, встает солнце, роса блестит на траве, и жизнь пробуждается внутри тебя и снаружи, а птицы – ох, эти птицы, Мартин! Весь мир вокруг заполняется их веселым пением, провозглашающим надежду зарождающегося дня. Сколько раз будили они меня вот так по утрам, и душа моя наполнялась светлой радостью – благослови Господь их клювики и крылышки! А еще есть время душистого запаха сена и трав, вечернее время, когда повсюду разливается нежный, сладкий аромат, сладкий, как первый поцелуй; есть полуденное время, когда до ушей доносится легкий скрежет косы о точильный камень; а есть ночь, Мартин, и длинная, окутанная во мрак, дорога, когда дует ветер, и лишь один луч света падает сверху, да, друг, это добрый свет, напоминающий, что путь окончен и что рядом с тобой приятный спутник, а может быть, и глаза, полные любви, которые…
– Отличный эль! – промолвил Роджер, ставя перед нами три огромные полные кружки. – Нигде нет лучше, чем у нас! Правда, жена?
– В этом я могу поклясться, Роджер! – со смехом проговорил коробейник. – Чтоб мне поперхнуться! Но что касается моря, знаешь, друг Мартин, это собачья жизнь, я тебе скажу.
– Так ты знаешь море?
– Как свои пять пальцев, Мартин. И все из-за того, что отец мой был такой благочестивый. Набожный он был, но и жизнь любил тоже. Когда я появился на свет, ему нужно было как-то назвать меня. Ох, друг, ну и имечко же он мне дал! Такое ни одному путному человеку не пришло бы в голову! Благодаря своему имени я связался с такой отпетой шайкой на побережье, что отец выпроводил меня в море. И если ты спросишь меня, что это было за имя, я отвечу тебе честно и без утайки: Годби Дженкинс-Господь-Свидетель к вашим услугам, а друзья называют меня просто Годби.
Чем больше смотрел я на маленького коробейника, тем больше он мне нравился. Был уже поздний час, и, превосходно поужинав, я поднялся, чтобы снова отправиться в путь.
– Если вам пора уходить, молодой господин, – проговорила толстушка Сайсли, – то знайте, что здесь вам всегда рады. Правда, Роджер?
– Это уж точно! – кивнул хозяин. – Уж такие вещи, как кружка эля да чего-нибудь закусить, у нас всегда бесплатно для друзей!
– Послушай-ка, друг Мартин, – молвил коробейник, сжимая мою руку, – помни, что всегда есть широкая дорога, которая ведет к лучшей жизни, так что если случится тебе передумать, то ищи меня здесь с вечера до рассвета, если завтра не услышишь о Годби в Фокс-Спелмондон. Ну, будь счастлив, мой дорогой друг!
– А ты, – сказал ему я, – если надумаешь плыть со мной, приходи в «Кружку эля», что на пути в Беджбери-Кросс. Нужно сказать «Верный друг» и спросить Адама Пенфезера.
Вскоре я вышел из небольшой таверны, где нашел такой радушный прием, и, свернув с узкой тропинки, направился через поле.
Была приятная теплая ночь, луна еще не взошла, я шагал вперед и любовался сияющими на небе звездами. И, глядя на эти удивительные небесные огни, я не мог не вспомнить слова маленького коробейника, когда он размышлял вслух о «лучших временах» – о временах звезд на небе и пробуждающихся птиц, жаркого полдня и вечерних сумерек, о временах радушного гостеприимства и глазах, полных любви.
И вдруг мною овладела острая тоска и страстное желание, чтобы и у меня наступили такие времена. Но, перелезая через ограду, отделявшую дорогу от полей, я нечаянно коснулся ножа, что висел у меня на поясе, и, усевшись прямо на ограде, я вытащил его и принялся вертеть в руках, понимая при этом, что подобные времена никогда не настанут для меня. И, сидя так с ножом в руках, я почувствовал, что тоска по этим временам прошла у меня и ее сменило яростное и мрачное отчаяние.
Глава 9
Как я в третий раз побеседовал с леди Джоан Брэндон
Луна была уже высоко, когда, выбравшись из мрачного леса, я достиг стены, высокой и прочной, поросшей мхом и лишайниками; идя вдоль нее, я обнаружил то, что искал – место, где несколько кирпичей выпали из кладки, образовав пролом, благодаря которому можно было без труда взобраться на стену; сколько раз многие годы тому назад случалось мне по ночам забираться по нему наверх ради моих мальчишеских проказ. Какое-то время я стоял и смотрел на этот пролом, а потом, крепко ухватившись за массивную кирпичную кладку, взобрался на стену и спрыгнул в сад. Идя вдоль аккуратных, ухоженных клумб, я вдыхал воздух, напоенный ароматом чабреца и лаванды и тысячами других запахов, воздух, в котором витали воспоминания о солнечных днях моей радостной юности; и при этих воспоминаниях я еще крепче сжал кулаки и ускорил шаг. Я спешил мимо темных деревьев с громадными стволами и ветвями; мимо тихих прудиков, где в отражающемся лунном свете плавали кувшинки; мимо мраморных фавнов и дриад, что выглядывали, словно призраки, из темной листвы; мимо резной скамьи с солнечными часами, мимо заботливо подстриженных зеленых изгородей и извилистых аллей, пока не остановился перед большим красивым домом, и скрытый тенью, задержался, чтобы рассмотреть его. И, стоя на обсаженной зеленью аллее и глядя на его черепичную крышу, я услышал, как вдалеке башенные часы пробили десять.
Огромный темный дом был погружен в безмолвие, и ни одного огонька не светилось в его окнах, кроме самого нижнего. Я терпеливо ждал, не отрывая взгляда от этого огонька, а ласковый ночной ветерок шевелил листья у меня над головой, и шелест этот был похож на чьи-то горестные вздохи.
Так я стоял какое-то время, а свет все горел, и терпение мое иссякло, и, продолжая держаться в тени, я стал осторожно красться вперед, потом, сойдя с тропинки, приблизился к увитому разросшимся плющом крылу дома. Ощупывая поросшую листьями стену, я нашел то, что искал, – прочную скобу, глубоко вбитую между кирпичами, над нею еще одну, а еще выше – третью, которые вместе образовывали нечто вроде лестницы, по которой еще мальчишкой я ночью и днем спускался и поднимался, когда хотел.
Цепляясь за плющ, я тотчас начал взбираться вверх по этим скобам, пока наконец пальцы мои не ухватились за каменный подоконник; и так как оконная решетка была открыта, мне удалось (правда, с большим трудом) забраться в комнату. Это была просторная спальня; искоса падающий лунный свет освещал огромную резную кровать с роскошным тканым пологом. Сейчас эти шелковые занавеси были подняты, и я увидел на постели расшитую всевозможными лентами и кружевом одежду, при виде которой я внезапно остановился. Потом взор мой обратился туда, где на стене вместе с поясом и ремнями висела большая рапира; ее серебряный эфес, гарда и изогнутый клинок поблескивали под лучами лунного света. Я подошел, протянул руку, вынул из ножен рапиру и увидел, что на ухоженном заботливой рукой клинке выгравирован герб Конисби и надпись:
НЕ БУДИ МЕНЯ
Я стоял и смотрел, как лунные лучи играют на длинном клинке; внезапно мелькнул свет, и я услышал звук быстрых шагов, спускающихся по лестнице за дверью, и голос (тихий и мелодичный), который вдруг запел:
- Бедняжка, вздыхая под зеленью ив,
- Сидит, на колени главу опустив.
- О, ивы! О, ивы! О, ивы!
- Вздыхает он, руку к груди приложив:
- Пусть будет венок мой из зелени ив!
Пение приближалось, а я стоял с мечом в руке и ждал; вдруг песня оборвалась, и нежный голос позвал:
– О, Марджори, разбуди меня пораньше, завтра мне нужно выйти с восходом солнца… Доброй ночи, милое дитя!
Я спрятался за пологом; щелкнула дверная задвижка, и комната заполнилась слабым, мерцающим светом свечи. Вскоре опять послышался голос:
– О, Марджори, утром я надену зеленое платье из тафты. Да, и не нужно мне помогать, я сама разденусь сегодня.
Свет переместился в другой конец комнаты; осторожно приблизившись к двери, я закрыл ее и прислонился к ней спиною. Услышав легкий шум, она повернулась и, заметив меня, отпрянула назад; и я увидел, как свеча дрожит у нее в руке; потом она поставила свечу на резной столик.
– Кто здесь? Кто это? – спросила она, едва дыша, пристально всматриваясь в мое разбитое, распухшее лицо.
– Бродяга, которого вы, бездыханного и безжизненного, втащили на позорный столб!
– Вы? – изумленно выдохнула она. – Вы! Так они приковали вас к позорному столбу? Это было не по моему приказу.
– Это не имеет значения, леди. Такой бродяга, как я, заслуживает этого, – сказал я. – Но сейчас я ищу сэра Ричарда…
– Но… но вы не найдете его здесь.
– В этом я хочу убедиться сам! – проговорил я и положил руку на задвижку.
– Сэр, – произнесла она, все так же едва дыша, – почему вы не хотите мне поверить? Ищите его, если хотите, но говорю вам, сэр Ричард два года тому назад отправился в открытое море и пропал.
– Пропал? – переспросил я и, встретив ее правдивый взгляд, почувствовал охватившую меня дрожь. – Пропал, говорите? Как это – пропал?
– Его судно было захвачено испанцами с «Эспаньолы».
– Захвачено? – переспросил я в крайнем изумлении. – Захвачено?.. С «Эспаньолы»?
И тут, осознав всю жестокость насмешки судьбы, я почувствовал, как неудержимый гнев овладел мною.
– Вы лжете! – вскричал я. – Клянусь Господом Богом, лжете! Должна же быть хоть капля всевышней справедливости! Ричард Брэндон должен быть здесь!
– Кто вы? – спросила она, пристально разглядывая меня широко раскрытыми глазами. – Кто вы, такой сильный, такой молодой, но уже поседевший и так страшащийся слова правды? Кто вы? Отвечайте!
– Вы солгали, чтобы спасти его от меня! – вскричал я. – Вы солгали… да? Признайтесь!
И, сжимая в дрожащей руке длинный сверкающий клинок, я направился к ней.
– Вы собираетесь убить меня? – произнесла она, даже не дрогнув. – Неужели вы сможете убить беззащитную девушку, Мартин Конисби?
Рапира упала на ковер к моим ногам, а у меня захватило дыхание, и так мы стояли какое-то время, не отрываясь глядя в глаза друг другу.
– Мартин Конисби мертв! – произнес я наконец.
Вместо ответа она указала на стену прямо у меня над головой, и, посмотрев туда, я увидел портрет молодого, богато одетого кавалера, серые глаза и мягкие губы которого светились радостной, свойственной юности беззаботной улыбкой; а чуть ниже были начертаны слова:
МАРТИН КОНИСБИ, ЛОРД ВЕНДОВЕР
в возрасте 21 года
– Мадам, – молвил я наконец, повернувшись спиною к портрету. – Этот невинный юноша был насмерть запорот кнутами на борту испанского галеаса много лет назад; вот почему я, несчастный бродяга, пришел сюда, чтобы найти того, кто уничтожил его.
– Сэр, – сказала она, в отчаянии заламывая руки и с тревогой глядя на меня. – О, сэр… о ком вы говорите?
– Я говорю о том, кто, убив отца, продал сына в рабство, где в кромешном аду испанской темницы и под ударами кнута на гребной скамье тот прошел через немыслимые позор и страдания, о том, кто справедливостью Божьей должен теперь быть отдан в мои руки, – я говорю о Ричарде Брэндоне.
– О боже милосердный! Мой отец! О нет! Нет!.. Этого не может быть! Мой отец? Тут, должно быть, какая-то чудовищная ошибка.
– Вы его дочь и должны прекрасно знать, что это правда! Вы из семьи Брэндон, и вам должно быть известно о той непримиримой вражде, что с незапамятных времен ведется между нашими родами, об этом нескончаемом кровавом раздоре!
– Да, – прошептала она. – Я это знаю.
– Так вот, мадам, пять лет тому назад или около того мой отец по ложному обвинению в государственной измене был приговорен к смерти и умер в тюрьме, а меня, подмешав мне в пищу снотворное, хитростью затащили на корабль и продали в рабство на плантации, откуда мало кто возвращается… а Ричард Брэндон, обогатившись за наш счет и став влиятельным при дворе, вообразил, что окончательно уничтожил род Конисби и что с вековой враждою покончено раз и навсегда.
– Господи, – произнесла она, гордо вскинув голову. – Я отрицаю все это! Таким подлым и необоснованным подозрением вы позорите сами себя. Вы осмелились ворваться в мой дом посреди ночи, а теперь… О! Теперь вы клевещете на моего отца в его отсутствие, обвиняя его в чудовищных преступлениях… И все это вы говорите мне, его дочери! Достаточно! Не желаю больше слушать! Убирайтесь, или я позову прислугу, и вас вышвырнут вон!
С этими словами она схватилась за висевший на стене шнурок колокольчика и повернулась ко мне лицом. Грудь ее высоко вздымалась, плотно сжатые руки побелели, а пристально смотревшие на меня глаза выражали презрение.
– Звоните! – проговорил я и сел на стул рядом с ее огромной постелью.
– Осталась ли у вас хоть капля стыда?
– Нет, мадам, его выбили из меня кнутами на борту «Эсмеральды». Звоните, мадам! Но я не уйду, пока окончательно не узнаю, здесь ли сэр Ричард или нет.
Тут шнурок выпал из ее рук, и, закрыв лицо руками, она стояла так некоторое время.
– Господи, помоги мне! – со стоном произнесла она наконец. – Я не могу забыть, как вы спасли меня от…
Тут она содрогнулась, затем снова заговорила, но уже едва слышно, почти шепотом:
– Вы смотрели на меня с этого портрета по утрам и вечерам все эти два года и… О, Мартин Конисби, я вас себе не таким представляла!
– Я бродяга, только что вырвавшийся из рабства! – проговорил я.
– Да, – вдруг закричала она, подняв голову и снова окинув меня полным горького презрения взглядом, – и который к тому же оклеветал человека в его отсутствие!
– Оклеветал?! – вымолвил я, поперхнувшись на этом слове. – Оклеветал, мадам? Тогда… откуда же здесь взялся мой портрет… и мой герб вон там, над камином, и щит Конисби на ваших воротах? И что вы делаете здесь, в Конисби-Шин?
В глазах ее вдруг появилось сомнение, растущий страх; затаив дыхание, она отпрянула назад, к стене, и прислонилась к ней, а тревога в ее взгляде все росла.
– Ну, моя милая леди? – продолжал я. – Можете вы ответить?
– Мне сказали… я слышала… что не осталось никого из рода Конисби.
– Даже если так, все равно как достался сэру Ричарду этот… наш дом?
– Нет… нет, я… я мало знаю о делах отца, он всегда был молчаливым человеком, а я… я жила в Лондоне и за границей. Но вы… скажите, зачем вы ищете моего отца?
– Это дело касается только его и меня!
– Вы что, хотите убить его? Значит, это месть? О господи!
Я не отвечал. Она подошла ко мне и положила мне на плечо тонкую руку; я хотел подняться, но не смог.
– Говорите! – прошептала она. – Вы хотите отнять у него жизнь?
Встретив взгляд ее больших, нежных глаз, я молчал какое-то время, не зная, что ответить; потом молча кивнул.
Я почувствовал, как рука ее задрожала на моем плече, потом она отдернула ее, и, подняв глаза, я увидел, что она стоит, сложив руки и склонив голову, словно в молитве.
– О, Мартин Конисби, – шептала она, – слава Господу, что в милосердии Своем Он остановил тебя и не дал совершить убийство!
Так она стояла какое-то время, потом подошла к резному столику, вынула из него какие-то бумаги и подала их мне.
– Читайте! – приказала она.
Изучая эти бумаги, я нашел неопровержимые доказательства тому, что весь свой путь сюда я проделал в самом деле напрасно, что корабль, на котором сэр Ричард уплыл в западном направлении, был захвачен испанцами с «Эспаньолы», а сам он, попав в плен, исчез неизвестно куда.
Прочтя эти бумаги, я порывисто отложил их, поднялся и, спотыкаясь, направился к открытому окну.
– Господи, что же это? – как-то странно и едва дыша, произнесла она. – Что же теперь?
– А что теперь? – устало проговорил я. – Месть пока не совершилась, и, похоже, поиски мои продолжаются.
– Месть? – вскричала она. – Пощади вас Господь! Неужели у вас в жизни не осталось ничего другого?
– Ничего!
– Но месть – это всепожирающее пламя!
– Поэтому я и ищу ее!
– О, Мартин Конисби, одумайтесь! Ведь месть – всего лишь безумие… это как изнуряющий недуг…
– Поэтому я и ищу ее!
– Но для того, кто живет лишь ради мести, этот прекрасный мир блекнет и теряет смысл.
– Мне нужна только месть и ничего больше в этом мире!
– О, несчастный… какой же вы несчастный человек! Мне жаль вас!
– Мне не нужна ничья жалость.
– Но я женщина и буду жалеть вас всегда!
И когда я уже намеревался взобраться на оконную решетку, она заметила меч, который все так же лежал там, где я уронил его, наклонилась, подняла его и вложила в ножны.
– Говорят, когда-то он был вашим, – произнесла она. – Возьмите его, Мартин Конисби, уберегите его от бесчестья и предоставьте вершить вашу месть Господу.
– Ну нет! – сказал я, качая головой. – У меня есть нож, и он больше подходит к моим лохмотьям!
С этими словами я перелез через решетку, так же как и пришел сюда. Спустившись на землю, я поднял голову и увидел, как она в лучах лунного света, склонившись, стоит и смотрит на меня.
– Неужели вы живете лишь ради мести? – мягко спросила она.
– Да поможет мне Бог! – молвил я.
– Тогда мне всегда будет жаль вас, Мартин Конисби! – повторила она и, вздохнув, исчезла.
Я медленно повернулся и снова пустился в свой одинокий путь.
Глава 10
Как я вступил в Кровавое Братство
Луна ярко светила, когда я добрался до травянистой лужайки (или это была просто дорожная колея) и увидел перед собой небольшую, уютного вида таверну с дощечкой на двери, на которой была надпись:
КРУЖКА ЭЛЯ У ДЖОЭЛЯ БИМА
Оглядев ее всю от чистеньких белых ступенек перед дверью до аккуратной соломенной крыши, я подивился ее процветающему виду; ибо она стояла здесь, вдалеке от дорог и человеческого жилья, такая затерянная и укрытая среди деревьев (ее окружала небольшая рощица), и трудно было даже представить, что какой-нибудь путник может отыскать дорогу сюда.
В доме было тихо, нигде не было видно ни огонька, и дверь была крепко заперта, и в этом не было ничего удивительного, так как час был поздний. Поднявшись на крыльцо, я громко постучал в дверь посохом, ответа не последовало; тогда я постучал еще раз, и грубоватый голос из-за двери спросил:
– Кто там?
– Верный друг! – ответил я.
Тут дверь внезапно распахнулась, и в самое лицо мне сунули фонарь; я, ослепленный, отшатнулся, но потом, постепенно привыкнув к яркому свету, смог различить в дверном проеме фигуру – это был здоровенный малый с такой косматой гривой волос, что за нею трудно было разглядеть черты лица, и видны были только два круглых глаза да большой крючковатый нос.
– И кого же ты ищешь, Верный друг? – спросил он.
– Господина Адама Пенфезера.
– Тогда проходи, Верный друг! – сказал он и, посторонившись, чтобы пропустить меня, закрыл дверь (которая, как я заметил, была довольно крепкой); заперев ее и опустив засов, он укрепил ее прочным железным бруском, вставив его в основательные углубления, проделанные в стенах по бокам от двери.
– Вы, я смотрю, неплохо тут укрепились! – сказал я.
– Вот что, петушок, – проговорил великан, медленно оглядев меня с ног до головы, – не надо бы тебе кудахтать так много, а будешь кудахтать – мы тебя любить не станем. Так-то, петушок.
– Ладно, – сказал я и тоже оглядел его. – Мне не нужно, чтобы меня любили!
– Ого, петушок! – молвил он, запустив огромную ручищу в косматую бороду и дернув за нее. – Таким ты мне больше нравишься. Никогда бы не подумал. Сюда, петушок.
И он повел меня по широкому, выложенному плитами коридору, потом вверх по просторной лестнице с массивными резными перилами; и, следуя за ним, я понял, что помещение оказалось гораздо более обширным, чем мне показалось на первый взгляд, на стенах здесь была обивка, из чего я сделал вывод, что когда-то это было частью знатного дома. Наконец мы подошли к двери, в которую мой провожатый осторожно постучался и тут же вежливо пропустил меня в просторную комнату, залитую светом восковых свечей, где за столом с разложенными перед ним бумагами и пером в руке сидел Адам Пенфезер.
– А-а, приятель, – проговорил он, указывая мне на стул, – ты пришел даже раньше, чем я ожидал. Позволь, я покончу с этим делом… садись, друг, садись! А ты, боцман, принеси-ка бутыль испанского вина… с черной печатью.
– Слушаюсь, кэп! – ответил тот и, убрав рукой волосы со лба, вышел из комнаты, затворив за собою дверь.
Наблюдая, как Пенфезер сидит, склонившись над письмом, видя его худое лицо с орлиным профилем, такое гладкое и молодое по сравнению с седыми волосами, я был поражен, как изменился весь его облик: теперь он казался не отпетым морским разбойником, каким он представлялся мне раньше, а прилежным студентом, несмотря на пистолеты, что торчали у него за поясом, и длинную рапиру, покачивавшуюся рядом со спинкой стула; и кроме того, во всем его облике чувствовалась какая-то скрытая сила, которой я не замечал в нем раньше.
Вскоре, закончив писать, он встал и потянулся.
– Ну что, приятель, готов побрататься со мною?
– Да! – ответил я. – Когда мы отплываем?
Тут он быстро искоса посмотрел на меня.
– Э-э, вот оно как! – быстро проговорил он, пощипывая подбородок. – Похоже, ветер сменился, ты становишься нетерпеливым… что это с тобой?
– Не важно.
– Знаешь, приятель, – проговорил он, качая головой, – ведь мы с тобой поплывем как братья и как хорошие товарищи, и между нами не должно быть никаких секретов. Так что рассказывай!
– Ну, как хочешь! – сказал я, откинувшись на спинку стула. – Я узнал, что ты будешь капитаном на судне, которое отплывает в открытое море на поиски сэра Ричарда Брэндона, захваченного испанцами два года тому назад. Сэр Ричард Брэндон – тот человек, которого я ищу с тех пор, как вырвался из этого чертова рабства, куда я был продан по его милости. А теперь слушай, Адам Пенфезер, – проговорил я, вскочив и схватив его за руку, – слушай… помоги мне найти этого человека, помоги мне добраться до него, и тогда я твой, и душой и телом… до скончания века! В этом я могу поклясться!
Голос мой охрип от сильного душевного волнения, пальцы крепко вцепились в его руку, а Пенфезер стоял, пощипывая подбородок и наблюдая за мною из-под черных бровей; когда я закончил, он повернулся и принялся расхаживать взад и вперед по комнате, словно это была узкая корма корабля.
– Ах вот оно что! Бог ты мой! Теперь мне кое-что понятно! – сказал он, внезапно остановившись передо мной. – Я моряк и, наблюдая, как ты стонал во сне там, возле «Герба Конисби», я по твоему кольцу догадался, что ты из этого рода, а так как я родился и вырос здесь, в Кенте, то очень хорошо помню местную поговорку «Ненавидеть, как Брэндон, и отомстить, как Конисби», и клянусь Господом Богом, ты, похоже, и впрямь настоящий Конисби! Месть! – проговорил он, и острые черты его лица сделались жестче и суровее. – Да, немало повидал я мести на пиратском судне и на диких островах в Карибском море! Приходилось мне видеть зверства испанской, португальской и кровавые ужасы индейской мести, но чтобы такая хладнокровная, свирепая жестокость, такая неискоренимая жажда мести, только и ждущая своего часа и питаемая смертельной ненавистью, жила в сердце потомка знатного рода, в сердце дворянина!!!
Тут он отвернулся и медленно прошел в конец комнаты, а когда снова повернулся ко мне, от суровости на его лице не осталось и следа, и теперь на нем, как и прежде, было жесткое и в то же время хитроватое выражение, свойственное морским бродягам.
– Черт возьми! – сказал я, нахмурившись. – Ты пригласил меня сюда, чтобы читать мне проповеди?
– А-а, приятель, – произнес он с печальной улыбкой, – то говорил молодой, прилежный студент богословия, много лет назад совершивший грех, ушедший под парусами на Золотой Запад и ставший впоследствии неким Адамом Пенфезером, моряком, о котором можно услышать повсюду – и в Санта-Кит, и в Тортуге, и в Санта-Каталине, и еще во многих и многих местах на самых дальних берегах. А что до тебя, приятель, ну что ж, месть так месть. С ней рано или поздно будет покончено, и тогда… только ветер будет свистеть в парусах! А вот и боцман! Входи, Джо, дружище, входи. Это именно он, мой верный Джоэль Бим, дал мне первый урок по мореходству. Так ведь, Джо?
– Так точно, кэп, – прорычал косматый великан, – клянусь петухом, то-то были времена! Попутный ветер, зоркий глаз, и никаких тебе никчемных любезностей. Да-а, славные были времена, клянусь петушиной головой!
С этими словами он поставил на стол бутыль вина и изящный серебряный бокал и по знаку Пенфезера оставил нас одних.
– А теперь, приятель, – обратился ко мне Пенфезер, наполняя бокал, – бери стул и делай, как я.
Мы сели друг против друга, Пенфезер засучил левый рукав и, выхватив нож, сделал им себе на запястье разрез и выдавил из него несколько капель крови в вино; проделав это, он передал мне нож, и я (хотя это было мне не очень-то приятно) все же сделал то же самое.
– Мартин, – сказал он, – дай мне свою руку. А теперь повторяй за мной слова клятвы!
И вот, сжав друг другу руки, мы торжественно поклялись в Братстве:
1. Ничего не скрывать друг от друга.
2. Всегда и во всем содействовать друг другу и держаться вместе в любом противостоянии.
3. Утешать и поддерживать друг друга в любом несчастье.
4. Быть преданным друг другу до самой смерти.
Потом по его знаку я отпил вина, в котором перемешалась наша кровь, и он сделал то же самое.
– Ну, – произнес он, откинувшись на стуле и глядя на меня с задумчивой улыбкой, – теперь, когда мы побратались, скажи, нравлюсь я тебе?
– Больше, чем раньше, – ответил я под действием внезапного порыва, – хотя ты, конечно, самый необыкновенный плут, которому когда-либо удавалось избежать виселицы.
– Ага, – проговорил он, пощипывая подбородок, – но меня пока еще не вздернули и не убили, и в один прекрасный день, Мартин, ты увидишь меня почтенным членом магистрата, совета старейшин или кворума – custos rotulorum. Вот такие у меня планы на будущее. А что до тебя, Мартин, лорд Вендовер, то что у тебя есть, кроме твоего врага да кровавых замыслов? Что у тебя есть, кроме мести?
– Ну, это уж мое дело! – возразил я резко. – И послушай, раз уж мы теперь друзья, забудь, кто я такой и каков я!
– Хорошо, Мартин, я так и сделаю. Для меня ты несчастный, отвергнутый бродяга, который мог бы быть знатным и богатым, если бы не эта немыслимая затея отомстить во что бы то ни стало. Но теперь ты мой друг и побратим, и я должен верить тебе, верить до самой смерти, Мартин.
– Да, и считать меня достойным, Адам… несмотря на твой проклятый язык.
– Смерть скверная штука, Мартин!
– Так уж? – сказал я и рассмеялся.
– Да-да, – кивнул он, – скверная штука для тех, кто, кроме животных инстинктов, имеет еще и другие желания в жизни. Вот посмотри-ка! – И, расстегнув камзол, он показал мне кольчугу, которая была надета у него под рубашкой. – Она спасет от любого самого острого оружия и прекрасно отразит пулю, насколько мне известно.
– Это уж точно, – произнес я с легкой насмешкой в голосе, – ты же признался мне, что человек предусмотрительный…
– Да, это правда, Мартин. У меня есть и другая такая же кольчуга для тебя. А что касается предусмотрительности, то без нее, друг, никак нельзя, как видишь. Стрела, выпущенная днем, довольно скверная штука, но нож, который разит в ночи, еще хуже. Эта кольчуга уже трижды отразила смертельный удар – один раз в грудь и дважды в спину. Я человек, отмеченный смертью, Мартин, убийца крадется за мною по пятам, он давно выслеживает меня повсюду и, кажется, нашел меня здесь, в Кенте. И знаешь, друг, теперь сталь, предназначенная для меня, похоже, может сразить и тебя.
– Но кому и зачем нужна твоя жизнь?
– Потому что я знаю одну тайну; вот почему (если не считать моего единственного верного друга Николаса Франта, который… который погиб) я был таким одиноким и недоверчивым человеком. Это потому, Мартин, что мне известна тайна сокровища, о котором вот уже многие годы с вожделением мечтает столько искателей приключений, скитающихся по морям. И этому сокровищу нет цены. Многие тщетно пытались найти его, боролись, страдали и погибали из-за него, прошли через сражения и болезни, кораблекрушения и голод, умирали в страшных муках под пытками индейцев, томились в испанских темницах и на галерах, и все это в бесплодной надежде обрести сокровище Бартлеми. И только один человек знает, где это сокровище, и этот человек – я, Мартин. Сокровище это запрятано таким непостижимым образом, что без меня оно так и будет лежать ненайденным, пока не настанет Судный день. Но теперь мы побратимы и настоящие товарищи, и я не могу не поделиться с тобою сокровищем и его тайной.
– Нет, нет, Адам, – сказал я. – Не надо. Оставь свою тайну при себе.
– Все поровну! – ответил он. – Это закон Братства.
– Все равно мне не нужно!
– Таков закон, – повторил он, – и, более того, обладая таким несметным богатством, человек может купить все, что угодно, Мартин, даже месть! Вот посмотри-ка, это и есть тайна нашего сокровища.
С этими словами он сунул руку за пазуху и вытащил небольшой непромокаемый мешочек, висевший у него на шее на тонкой стальной цепочке, и вынул из него небольшой пергаментный свиток.
– Вот то, Мартин, – вкрадчиво проговорил он, – из-за чего множество здоровых и полных сил людей нашли свою смерть. В этом невзрачном, разорванном и испачканном куске пергамента, Мартин, сокрыто целое состояние, слава, почести, все человеческие пороки, все земное зло, и главное среди них – месть!
С этими словами он развернул передо мной свиток, и я увидел, что это была грубо набросанная карта.
– Возьми ее, Мартин, и рассмотри хорошенько, пока я буду рассказывать тебе свою историю.
Глава 11
Рассказ Адама Пенфезера
История эта, Мартин, странная и невероятная, но я не могу не поведать ее тебе хотя бы в нескольких словах. Пятнадцать лет назад (или около того) я вступил в союз, известный как Береговое Братство, и побратался с неким Николасом Франтом, который, как и я, был уроженцем Кента. Несмотря на свою молодость, я был осторожным человеком и, питая врожденную ненависть к испанцам, всегда старался действовать против них и участвовал во многих отчаянных стычках на море и на суше. Однажды мы с моим верным другом Ником Франтом и еще с шестнадцатью бравыми ребятами вышли в море на открытом баркасе и захватили нагруженный богатствами галеон «Долорес дель Принсипи», следовавший из Картахены. И благодаря этому, Мартин, а также тому, что я получил кое-какое образование, да благодаря моему умению вовремя смекнуть, что к чему, мне удалось выдвинуться среди членов Братства, да так успешно, что я, который еще совсем недавно был беден и одинок, вдруг сделался богатым и имел теперь под своей командой почти тысячу здоровенных головорезов. Вот тогда-то я и познакомился с этим сущим дьяволом, с этим отпетым разбойником, наводившим ужас повсюду в открытом море, где только появлялся. Человек этот был кровожаднее любого испанца, вероломнее любого португальца и гораздо более жестокий, чем все индейцы инки, москито, майя и ацтеки, вместе взятые, а был он англичанином, и к тому же из знатного рода, и скрывался под именем Бартлеми. Впервые я встретил его в Тортуге, откуда мы, состоявшие в Братстве, собирались направить шесть крепких кораблей и почти четыре сотни матросов, чтобы совершить набег на Санта-Каталину, потому что, во-первых, это был необычайно богатый город, а во-вторых, мы хотели спасти несколько человек из Братства, приговоренных к сожжению заживо и томившихся там в ожидании казни. И вот однажды вечером этот Бартлеми пришел ко мне на корабль в сопровождении своего приятеля по имени Трессиди. Никогда не видел я двух более непохожих людей: Трессиди был здоровенный, свирепого вида малый, а вместо левой руки у него был стальной крюк; а Бартлеми – стройный, элегантный джентльмен с дружелюбной улыбкой на лице, с приятной речью и манерами, и одет он был по последней моде, начиная от завитого парика и кончая роскошными пряжками на туфлях.
– Капитан Пенфезер, – обратился он ко мне, – я ваш покорный слуга, только бы мне не задохнуться здесь до смерти от этого проклятого, несносного запаха дегтя!
И с этими словами, Мартин, он поднес надушенный платок к своему чувствительному носу.
– Думаю, вы слышали обо мне, капитан, – сказал он, – и о моем судне, которое называется «Женская прелесть»?
Я весьма резко (что было вполне уместно) ответил, что слышал, тогда он рассмеялся, раскланялся и предложил нам свою помощь в набеге на Санта-Каталину, которую я сразу же отверг. Но мой военный совет, зная, что его корабль мощнее любого из наших, гораздо лучше вооружен и укомплектован людьми, не согласился с моим решением, и, в конце концов, мы пустились в плавание – шесть кораблей Братства и это проклятое пиратское судно.
Ну вот, Мартин, все шло по плану; губернатор Санта-Каталины и городской совет согласились заплатить выкуп; я собрал своих людей, мы разбили лагерь за стенами города и стали ждать, когда они наберут необходимую сумму. Должен тебе сказать, что женщины в этом городе были удивительно хороши собою, особенно жена губернатора. И вот на вторую ночь в городе вдруг поднялись шум и крики, я отправился туда и застал проклятого Бартлеми и его негодяев, сгорающих от нетерпения, за их жутким занятием. Бросившись к губернаторскому дому, я обнаружил, что он опустошен и охвачен пламенем, а сам губернатор, которого застали врасплох и вытащили из постели, лежал, бездыханный, с перерезанным горлом, и тело его было искромсано, да-да, Мартин, искромсано, словно клыками какого-то ужасного чудовища! Так я впервые увидел дьявольскую работу стального крюка. А что касается жены этого несчастного джентльмена, то она бесследно исчезла. Тогда моя команда вступила в схватку с пиратской шайкой, и мы дрались при свете охваченных пламенем домов (ибо они подожгли город), и вдруг, заметив этого дьявола Бартлеми, я бросился к нему, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Он отлично владел рапирой, но и я сражался не хуже, Мартин, к тому же я был моложе, и мне удалось проткнуть ему руку. Я бы, несомненно, прикончил его, но проклятый Трессиди и остальные пираты подхватили его и унесли, а поскольку была темная ночь и все окрестности до самого берега поросли лесом, то ему с остатками шайки удалось добраться до своего корабля «Женская прелесть» и отплыть восвояси. Многие разбойники были убиты нами в сражении, двенадцать человек мы взяли живыми и сразу же повесили их. Неделю спустя мы вышли в открытое море и отправились в Тортугу, увозя на борту более девяноста одной тысячи золотых монет; но ни мне, ни моим товарищам так и не удалось потратить ни одной из них, ибо мы попали в такой шторм, какого я не видывал за всю свою жизнь в этих морях. Трое суток мотало нас по бушующему океану, а буря все не стихала; я не покидал палубы, но я был ранен и на третью ночь, испытывая невероятную слабость и находясь в горячке, впал в забытье. Очнулся я от того, что Ник Франт орал мне в самое ухо, чтобы перекричать неистовый рев бури.
– Адам! – кричал он. – Мы все пропали! Мы и все наши деньги! Мы напоролись на риф, Адам, и теперь нам конец, нам и нашим денежкам!
Поскольку судно наше лежало на боку, я начал карабкаться вверх по палубе, чувствуя всю безысходность положения и не видя ничего в темноте, кроме белой пены разбивающихся о наш корабль волн. Тем не менее я приказал обрубить мачты и бросить за борт пушки, чтобы облегчить судно. Но в это время из темноты нахлынула гигантская ревущая волна и, обрушившись на нас, смыла меня за борт; и, несомый на гребне громадного свистящего водяного вала, я уже больше не сопротивлялся, не сомневаясь, что настал мой последний час. Так несло меня, застилая мне глаза и рот, и вдруг я почувствовал, что нахожусь в воде такой тихой и спокойной, словно это была мельничная запруда. Обнаружив, что меня вынесло в небольшую лагуну, и различив в темноте рощицу карликовых пальм, полуживой, я выбрался на сушу, лег на землю и начал молиться, чего не делал уже многие годы. Когда рассвело, я увидел, что огромной волной меня перебросило через риф в небольшую лагуну, а за рифом на воде плавало то, что осталось от моего славного корабля. Я все еще наблюдал эту печальную картину, страшно удрученный потерей своих спутников, а особенно моего побратима Николаса Франта, когда услышал сзади какой-то звук и, обернувшись, увидел женщину. Лицо ее (хотя и прекрасное) было скорбным, а в глазах, полных слез, я прочел ужас. И все же я узнал ее, ибо это была жена зверски убитого губернатора Санта-Каталины.
– Уходите! – сказала она по-испански, указывая на прибой, разбивающийся о риф. – Уходите! Здесь дьявол, так что уходите, если можете! В море вы будете в большей безопасности!
Но тут она вдруг запнулась и задрожала, потому что до нас донесся голос, зычный мужской голос, певший:
- Ха! Вот хорошо-то! Вот хорошо!
- Песню сложили, вот хорошо!
- А на грот-мачте, ветром раскачан…
И, узнав этот голос, я огляделся вокруг, ища, чем можно защититься, ибо я был совершенно безоружный и почти нагой, и, схватив увесистый камень с острыми неровными краями и крепко зажав его в руке, стал ждать его приближения. Он шел вдоль берега, видимо в веселом расположении духа, в своем пышном наряде, правда несколько бледный, очевидно, по причине неумеренности, а также из-за раны, которую я ему нанес. И знаешь, Мартин, чертами лица он был похож на тебя, но не телосложением. Увидев меня, он снял свою украшенную кружевами шляпу и, раскланявшись, с улыбкой приблизился.
– А-а, – весело проговорил он, – это капитан Пенфезер из Братства беседует тут с моею новой женой! Не правда ли, она настоящая жемчужина, ну просто образец женской утонченности, а, капитан? Ну, разве не лакомый кусочек? Страстная, гордая, так и просится, чтобы ее укротили! И знаете, капитан, она смирилась. Вот сейчас увидите. Ну-ка, встань на свои изящные коленочки, женщина! На колени!
И хотя говорил он это мягко и с улыбкой, она склонила свою гордую голову, опустилась на колени и распласталась перед ним на земле. А он смотрел на нее, и дьявольский огонь горел в его глазах, а украшенные драгоценностями пальцы теребили кинжал, что висел у него на поясе. Какой-то необычный это был кинжал с искусно отделанной рукояткой, вырезанной в форме обнаженной женщины…
– Как? – вымолвил я, склонившись над столом. – Ты говоришь, женщины, да, Пенфезер?
– Да, приятель! Я стоял, насторожившись, не сводя глаз с его кинжала, в любую минуту готовый выхватить его и вонзить негодяю в сердце, как только представится возможность.
– Не знаю, – обратился он к бедной женщине, – не знаю, как долго продержу я тебя при себе, моя мадонна, – неделю, месяц, год… Одному Амуру это известно, ведь ты развлекаешь меня, сладость моя. Ну, поднимайся, поднимайся, моя Долорес, моя Печальная радость, поднимайся и помоги мне советом, ибо я не знаю, что нам делать с этим несчастным, неловким капитаном, который сдуру ворвался в наш любовный рай, на этот сладостный островок, созданный лишь для нашей страсти. Он все еще здесь, этот человек, осквернивший наши радостные забавы своим грубым материальным присутствием. Так как же нам защититься от подобного оскорбления? Ножом – моим излюбленным оружием? Пулей? Или ну его, этого несчастного, полуголого бродягу, ведь через два дня сюда прибудет моя «Женская прелесть» и Трессиди со своим крюком. Вот что, Долорес, пусть эти два дня он будет нашим рабом, а потом, ради твоего удовольствия, покажет тебе, моя дорогая, как надо умирать, а уж каким образом, ты сама выберешь – или он будет разорван, привязанный между двух перечных деревьев, или крюком Трессиди. Ну открой, открой свое желание, моя богиня, какую…
Да, Мартин, мой камень пришелся ему чуть пониже уха, он закачался, готовясь нанести ответный удар. Но тут вдруг замученная им женщина, гибкая и быстрая, как пантера, прыгнула на него, и я увидел, как сверкнула сталь, прежде чем вонзиться ему в грудь. Но и тогда он не упал, а, шатаясь, подошел к перечному дереву, прислонился к нему и расхохотался. Это был странный, пронзительный, переходящий в хрип смех, и серебряная рукоятка кинжала в виде женщины колыхалась и дрожала вместе с ним, вонзенная в его грудь. Потом, не переставая смеяться и не обращая внимания на меня, он вдруг выхватил пистолет, прицелился и выстрелил, а когда дым рассеялся, я увидел, что храбрая испанка замертво лежит, распростертая на песке.
– Замечательный, лакомый кусочек, капитан! – проговорил он, задыхаясь, а потом обратился к ней: – Ты ушла, моя богиня… я… иду за тобою!
И он упал на колени и пополз в ее сторону, но смог добраться только до ее ног (ибо был уже очень слаб), обхватил их и принялся целовать, а потом положил на них голову и закрыл глаза.
– Пенфезер! – прохрипел он. – Мое сокровище… спрятано… кинжал…
Я подбежал к нему, поднял его голову (ибо я уже не раз слышал об этом сокровище), но в этот момент жизнь покинула его. Я оставил их лежать так, а сам пошел к берегу и долго сидел там, погруженный в раздумья, наблюдая, как разбиваются о прибрежный риф волны, а на них качается все, что осталось от моего корабля. День был уже в разгаре, а я все сидел там, Мартин, пока, гонимый жаждой, голодом и полуденным зноем, не отправился на поиски их жилища, потому что по их виду я мог судить, что у них, очевидно, был неплохой кров и пища. Но вот загадка, Мартин, как я ни искал, я так и не мог найти никакой лачуги или убежища, за исключением лишь тех, что были созданы самой природой, – пещер и деревьев. И я был вынужден утолить голод и жажду плодами, которые произрастали там в изобилии, ибо этот остров, Мартин, был сущим земным раем.
Той ночью луна светила ярко, я направился к той песчаной косе возле лагуны, где лежали они оба, бледные и уже застывшие, и, хотя у меня не было никакого другого орудия, кроме его кинжала и обломка древесины, прибитого морем к берегу, мне все же удалось похоронить их под огромным перечным деревом у подножия скалы, похоронить обоих в одной могиле. Покончив с этим, я укрылся в сухой пещере рядом с водопадом, который с шумом обрушивался в озеро, и провел там ночь. На следующий день, тщательно исследовав остров и кое-как пообедав моллюсками, которые водились там в больших количествах, я уселся там, откуда было хорошо видно море, и принялся разглядывать этот кинжал с посеребренной рукояткой.
