Тот, кто был мной
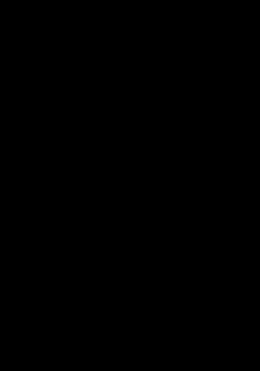
Я – мёртв.
Тело давно отработало своё, люди, которые меня знали, уже научились произносить моё имя в прошедшем времени. Но то, что осталось от меня, не исчезло. Я очнулся в пустоте без стен и часов – в странном междумирье, где нет ни рая, ни ада, ни даже покоя. Есть лишь тишина… и один человек напротив.
Он сидит за столом, дышит, нервно трёт пальцами край чашки, кусает губы, спешит жить, потому что уверен: всё ещё впереди.
Он – я.
Тот, кем я был в один из поворотных дней своей жизни. День, после которого всё медленно и незаметно пошло не туда.
Это не воспоминание. Не сон.
Это – последний собеседник, оказавшийся со мной в этой немой сцене, где разыгрывается единственный спектакль, – судебный процесс надо мной самим. Я – обвинитель. Я – защитник. Я – свидетель. Я – приговор.
Мы вдвоём идём по коридорам прожитых лет: по комнатам, где мы молчали, когда надо было говорить; по перекрёсткам, где боялись свернуть; по кроватям, где любили вполсилы. Каждый его вопрос рвёт старые шрамы, каждое моё признание крушит его уверенность в завтрашнем дне.
Что для него – ещё не совершённый выбор, для меня – уже камень, навсегда вмурованный в фундамент судьбы. Но если судьба уже свершилась, зачем мне дали этот разговор? Чтобы оправдаться? Чтобы покаяться? Чтобы, возможно, впервые по-настоящему сказать себе правду?
Это книга о человеке, который разговаривает сам с собой за гранью последнего утра.
О том, где именно мы предаём свои мечты.
О том, что страшнее – вина или бессилие.
И о том, остаётся ли хоть какая-то свобода, когда всё уже закончено, а ты сидишь напротив самого дорогого и самого обманутого человека – себя прежнего.
Прочитав эту историю до конца, вы вряд ли сможете так же легко отмахнуться от собственных промолчанных «потом». Потому что однажды каждый останется наедине с тем, кто был им. И вопрос будет только один: о чём вы тогда поговорите?
Глава 1. Вопрос, на который не было времени при жизни
Когда я умер, первое, что меня поразило, – не боль и не страх.
Меня поразила тишина.
Не та ночная, когда просто выключили телевизор, соседи наконец перестали сверлить стену, а за окном только редкие машины шуршат по мокрому асфальту. Нет. Это была другая тишина – как если бы кто-то вырвал из мира сам звук, ожидание, дыхание «ещё чуть-чуть, и…».
Знаете, какой вопрос первым приходит в голову человеку, который осознал, что больше никогда не вдохнёт?
Не «где я?», не «что дальше?», не «а есть ли Бог?».
Первый вопрос был странным и до смешного земным:
– И это всё?
Я не произнёс его губами – губ у меня уже не было. Я просто сформулировал его так чётко, как не формулировал ни один вопрос при жизни. Без суеты, без надежды на ответ, почти спокойно.
И именно в этот момент я понял: что бы это ни было, «всё» ещё не кончилось.
Потому что мне ответили.
Голос не грянул с неба, не загремел басом из-под земли, не запел ангельским хором.
Он прозвучал так, как звучат мысли, которые ты ещё не успел испугать себя.
– Нет, – сказали мне. – Это не всё.
Тогда у меня появился второй вопрос:
– А что осталось?
И тут тишина чуть дрогнула. Как если бы тёмная вода разошлась лёгкими кругами от брошенного камня. И из этой ряби начал проступать контур.
Стол.
Прямоугольный, не новый, с поцарапанной поверхностью.
Тот самый дешёвый стол, который когда-то стоял у меня на кухне. С облупившейся кромкой, с одним шатающимся ножком, который я подклинивал сложенной вчетверо газетой.
На столе – две чашки. Одна – с трещинкой у ручки, другая – моя любимая, с потёртым рисунком: не то город, не то абстрактные пятна, купленная когда-то на распродаже «просто потому что нравится».
Из обеих чашек поднимался пар.
– Садись, – сказал тот же голос.
Теперь он прозвучал отчётливее. Изнутри. И одновременно – оттуда, из-за стола.
Я изумился не тому, что мог двигаться, – я просто не задумывался об этом. Не тому, что мог «сесть» за стол, не имея тела. Изумление накрыло меня, когда я увидел, кто уже сидит напротив.
Я узнал его сразу.
Чуть всклокоченные волосы, которые никак не укладываются. Сутуловатая спина, привычка стягивать пальцами переносицу, будто пытается стереть усталость. Нервное постукивание ногой под столом.
И взгляд – ещё живой, но уже уставший, как у человека, который внезапно понял: юность не спасает от безденежья, одиночества и тревоги за завтрашний день.
Он был моложе меня – того, последнего, – лет на двадцать.
Но я помнил хорошо: это тоже был я.
Не «примерно похожий парень».
Не картинка из юности.
Не обобщённая «моя молодость».
Это был конкретный день. Конкретный я. Конкретный возраст.
Двадцать семь.
Я знал, какое сейчас число. Знал, в каком городе он живёт. Знал, чем закончится этот день.
И от этого стало невыносимо холодно, хотя воздух здесь вообще не должен был иметь температуры.
Он, живой, потёр ладонями колени, вздохнул и глотнул из чашки. Поморщился – обжёгся.
Я смотрел на него с той странной, пронзительной нежностью, которую человек умеет испытывать только к тем, кого поздно спасать.
Он поднял глаза – прямо на меня.
И спросил:
– Ты кто?
Я мог ответить по-разному.
«Твоя совесть». «Твой ангел-хранитель». «Тень будущего».
Я мог начать с пафоса, с иносказаний, с загадок.
Но я уже был мёртв.
И мёртвым, оказывается, врать себе куда сложнее, чем живым.
– Я – ты, – сказал я. – Тот, кто был тобой. И тот, кем ты станешь.
Он усмехнулся. Улыбка вышла нервной, почти некрасивой.
– Шизофрения, – пробормотал он. – Да. Вполне ожидаемо. Чего ещё ждать после недели без нормального сна.
Он потянулся за сигаретами, нащупал в кармане пустую пачку, поморщился. Потом вдруг насторожился, наклонился вперёд.
– Погоди. Если ты – это я… – он замолчал, глядя куда-то мимо меня. – Ты из будущего?
– Я – из конца, – ответил я. – Ты ещё жив. Я – уже нет.
Он смотрел на меня очень долго.
Так смотрит человек, который впервые в жизни осознал: его «когда-нибудь» тоже превратится в «никогда больше».
– И что, – тихо спросил он. – Всё так плохо?
Я вспомнил свою смерть.
Не детали – они уже начали стираться, как старые фотографии.
Я вспомнил ощущение «поздно».
Тот самый вкус, когда понимаешь: ты уже не успеешь сказать главное. Уже не успеешь попросить прощения, поменять работу, обнять, позвонить, уехать, вернуться. Не успеешь перестать бояться – придётся умирать вместе со своим страхом.
– Вопрос не в том, плохо или хорошо, – ответил я. – Вопрос в том, зачем тебе дают возможность поговорить со мной.
Он сжал пальцы в кулак.
– Так зачем?
Я посмотрел на него – на себя – и понял: мне тоже страшно. Даже здесь.
Потому что на кону было не его будущее – оно уже свершилось.
На кону было моё оправдание. Или… моя последняя честность.
– Затем, – произнёс я, – чтобы ты узнал, где именно ты потеряешь себя.
И чтобы я, наконец, перестал прятаться от ответа: когда я предал тебя первым.
Он замер.
Наш разговор начался.
Глава 2. Лимб, который пахнет вчерашним кофе
Место, где мы встретились, не походило ни на рай, ни на ад, ни на то и другое вместе.
Если бы мне при жизни показали эту комнату и сказали: «Так выглядит твой личный загробный мир», – я бы только пожал плечами.
Обычная кухонька. Неубранная.
Крошки на столе, засохшее пятно от соуса, забытая ложка с прилипшей к ней крупинкой сахара. На подоконнике – пластмассовый горшок с полумёртвой зелёной палкой, которая когда-то была цветком и до сих пор цепляется за жизнь из упрямства.
Сковорода в раковине, тарелка с налипшей гречкой, чей‑то недочитанный чек на хлеб и молоко.
Моё посмертное пространство пахло вчерашним кофе и несделанными делами.
– Ты специально выбрал именно это место? – спросил я, хотя был уверен, что выбор делали не мы.
Живой я скривился:
– Я об этом месте и так каждый день вспоминаю.
Помойка, а не жильё.
Он огляделся с тем нервным стыдом, с каким человек встречает неожиданных гостей в только что обвалившемся быту. Я смотрел на это чужое и до боли знакомое пространство и чувствовал странное смешение: ностальгию, нежность и отвращение к самому себе.
– Это было моё первое «свободное» жильё, – сказал я вслух.
Он дёрнулся:
– В смысле – «было»?
– В буквальном. Всё в прошлом. Для меня – уже давно.
Он усмехнулся, пытаясь отогнать нарастающее беспокойство:
– А, ну да. Ты ведь… – он замялся, – …из конца.
«Из конца». Забавно слышать, как живой человек осторожничает со словом «мертвец», разговаривая с тем, кого считают собственным бредом.
– Слушай, – сказал он, резко поднимая голову. – А почему именно я? Ну… я‑то я, но… Если ты из конца, там, наверху, или где ты там, разве не должны быть другие? Более важные люди? Родители? Любимые женщины? Дети, в конце концов?
Я помолчал.
Родители.
Любимые женщины.
Дети.
Слова звенели в этой тесной кухне, как ложки, выроненные на кафель.
– Потому что ты – первая жертва всех моих решений, – тихо ответил я. – И первый, кого я предал. Если честно, остальных без тебя я вообще не понимаю, как обсуждать.
Он фыркнул:
– Слишком красиво сказано. Ты уверен, что не писатель?
Я усмехнулся. Это было больно.
– Я много кем хотел быть, – сказал я. – Но стал тем, кем стал. Именно об этом, кажется, мы и поговорим.
Он откинулся на спинку стула. Она скрипнула так же неприятно, как когда‑то скрипела для меня.
Сквозняк, которого не должно было быть, шевельнул занавеску и шершавую поверхность моего страха.
– Ладно, – сказал он. – Давай так. Если ты и правда – это я из конца, докажи. Скажи что‑нибудь, что знаю только я.
Я вздохнул – автоматически, хотя лёгких у меня не было.
– В коробке из‑под ботинок, которая стоит на верхней полке шкафа, за старой зимней курткой, лежит не только паспорт и документы. Там ещё письмо, начатое и не дописанное.
Адресата ты стёр. Оставил только «Привет».
Потом – десять пустых строк.
Потом – фразу: «Я не знаю, как с тобой говорить, потому что слишком долго молчал».
Ты так и не продолжил.
Он побледнел.
– Я никому об этом не рассказывал.
– Я знаю.
Мы замолчали.
– Ладно, – наконец сказал он. Голос предательски дрожал. – Допустим, я поверю. Допустим, ты – это я.
Тогда у меня к тебе один, главный вопрос.
Он, кажется, давно у меня внутри сидит.
Он наклонился вперёд, опираясь локтями о стол. Смотрел в упор, не мигая.
– Когда всё пойдёт к чёрту?
В какой момент? В какой день? В каком решении я всё испорчу?
Я улыбаюсь. Нежно. Грустно. И немного зло – на самого себя.
– А вот в этом, брат, и есть твоя первая ошибка, – отвечаю. – Ты думаешь, что есть один‑единственный момент. Точка невозврата.
Но правда в том, что всё рушится по мелочам. Понадкусывается.
Ты не замечаешь, как перестаёшь быть собой, – потому что каждый кусочек откусываешь сам.
Он отвёл взгляд.
– Значит, ты пришёл не сказать мне: «Не ходи туда», «Не звони ему», «Не соглашайся на эту работу»?
– Пришёл сказать: посмотри, как ты станешь тем, кем я стал.
Шаг за шагом.
Он сжал зубы.
– А толку? Если всё уже свершилось… – он запнулся, – …там, где ты. Зачем мне это знать? Чтобы заранее ненавидеть тебя? Себя?
Это же садизм какой‑то.
– Толк не тебе, – честно сказал я. – Ты всё равно пройдёшь туда, куда уже прошёл.
Толк – мне.
Мне дают последний шанс разобраться: я был жертвой обстоятельств или соавтором своей судьбы?
И, может быть, – онемев от собственной смелости, я произношу это слово, – простить нас обоих.
Он тихо рассмеялся:
– Простить себя после смерти. Неплохо придумано.
И кто это всё затеял?
Я пожал плечами.
– Я не знаю.
Честно – не знаю.
Я не видел ни свет в конце тоннеля, ни строгого суда с молотком.
Я просто очнулся здесь – зная, что умер, – и увидел тебя.
Возможно, это всего лишь мой собственный разум доедает себя остатками энергии.
А может быть, так устроен суд: никакого зала, никаких присяжных. Есть только ты и тот, кого ты бросил первым.
– Себя, – выдохнул он.
– Себя, – подтвердил я.
Он взял чашку, сделал большой глоток и не поморщился, даже если обжёгся.
Я вдруг поймал себя на мысли: за все годы жизни я не пил ни одного глотка настолько осознанно, как он сейчас.
Человек, который только что встретился со своей смертью, иначе держит посуду.
– Ладно, – сказал он. – Если уж мы здесь застряли, давай начнём по‑честному.
Назови это как хочешь: допрос, исповедь, разбор полётов.
Ты – из конца. Я – из середины.
Давай: когда я предал себя первым?
Я долго молчал.
Не потому что не знал.
Потому что всегда знал – и всегда отворачивался.
– Не волнуйся, – попытался он пошутить, – я всё равно не усну, можешь не торопиться.
– Ты уже не уснёшь, – тихо сказал я. – Ни здесь, ни там.
Он вздрогнул.
– Ладно, – выдохнул я. – Тогда начнём.
Не с большого предательства.
С маленькой сдачи позиций, которая показалась такой разумной, что ты решил: это и есть взросление.
Он напрягся:
– Какого года мы сейчас?
– Ты сам знаешь, – ответил я. – Ты сегодня выбираешь между двумя вариантами: поехать на ту самую встречу… или остаться дома, потому что «денег всё равно не будет», «наверняка ничего не получится», «я устал», «да и какая разница».
Его глаза расширились.
– Ты про ту… конференцию?
– Про тот вечер, где тебе предложат первый серьёзный шанс. Ты об этом мечтал. Ты ради этого… жил.
И сейчас ты уже почти решил не идти.
Он откинулся назад:
– Да ладно. Это просто встреча. Таких ещё будет много.
Я посмотрел на него с жалостью, которую трудно объяснить тому, кто ещё верит во фразу «всё ещё будет».
– Знаешь, что самое страшное? – спросил я. – Не то, что таких возможностей мало.
Страшнее, что ты заранее придумал себе утешение: «значит, не моё».
И под это оправдание ты подпишешь потом очень многое.
Он выругался, откинулся, закрыл лицо ладонями.
– Ты сейчас хочешь сказать, что всё моё будущее решится из‑за одного вечера?..
– Нет, – мягко ответил я. – Оно решится из‑за того, как ты к себе отнесёшься в этот вечер.
Ты считаешь, что не достоин попытаться.
Ты думаешь, что не имеешь права занимать чужое время, чужое внимание, чужой шанс.
Ты сам себе выключаешь свет.
А потом удивляешься, почему во всех комнатах темно.
Он медленно отвёл ладони от лица.
– Значит, первое предательство – это… не пойти?
– Первое предательство – поверить, что без тебя всё будет лучше, – сказал я. – Это удобная мысль. Она похожа на скромность. На самом деле – это страх, переодетый в смирение.
Ты не любишь пафосные слова, но, по сути, это отказ от собственной жизни по умолчанию.
Он снова взял чашку. Руки дрожали.
– И что, – хрипло спросил он, – если я сейчас встану и всё‑таки поеду… там, в твоём конце, что‑то изменится?
Я закрыл глаза.
Я знал ответ.
И ответ был тем, что делало наше положение почти невыносимым.
– Нет, – тихо сказал я. – Для меня – уже нет.
Всё, что ты сделаешь, уже сделано.
Но ты стоишь перед этим выбором всерьёз.
Ты не знаешь финала.
Ты думаешь, что у тебя ещё есть время.
Именно поэтому мне это показывают.
Он молчал долго. Потом вдруг слабо улыбнулся:
– То есть ты сидишь здесь, смотришь, как я повторяю все те же шаги, и ничего не можешь сделать?
– Могу, – ответил я. – Могу рассказать тебе правду о нас.
Могу, наконец, перестать оправдываться перед собой.
Могу признать, что каждый раз, когда ты отказывался от себя, я поддакивал.
Могу… – я помолчал, – могу тебя полюбить. Хоть сейчас. Хоть в конце.
Он фыркнул:
– Полюбить себя после собственной смерти.
Ну, хоть где‑то хэппи‑энд.
Я посмотрел ему в глаза.
– Хэппи‑энд – это когда живой человек научится говорить с собой так, как я говорю с тобой слишком поздно.
Мы снова замолчали.
За окном этой несуществующей кухни медленно темнело, хотя здесь не было ни дня, ни ночи.
Просто наступало то самое состояние, в котором всё сказанное становится необратимым.
– Ладно, – сказали мы почти одновременно.
И оба усмехнулись: привычка перебивать самого себя – это навсегда.
– Говори, – сказал он. – Веди меня по этим «маленьким предательствам».
Если уж мне суждено прожить всё то же самое, пусть хоть знаю, где именно мы себя сдали.
Я кивнул.
Наш частный суд начался.
Глава 3. Детство
– Я смотрю на ту песочницу. Она и сейчас стоит во дворе, только краска облупилась, да дерево потемнело от времени. А для тебя, для живого, она всё ещё ярко‑жёлтая, пахнет горячим пластиком и летом.
– Опять ты за своё. Песочница. Что в ней такого? Я даже не помню, чтобы там играл.
– Ты всегда так – торопишься отмахнуться. Боишься замедлиться. А я могу смотреть на эту квадратную коробку с песком часами. Видишь ту вмятину на бортике? Это ты сам оставил: молотком стучал, пытался «починить». Тебе было пять.
– Ну и что? Детские глупости.
– Для тебя – глупости. Для меня – фундамент. Всё, что ты есть, выросло отсюда. Из этого песка, в котором ты лепил свои первые, кривые куличики, и злился, когда они рассыпались. Ты и сейчас злишься, когда что‑то не держит форму. Только куличики сменились на дела, на планы, на отношения.
– Помнишь мальчика с третьего этажа? Он всегда отбирал у тебя совок.
– Да какое это имеет значение сейчас? Его, кажется, убили. Или нет… Забыл.
– Для тебя он – стёртая картинка. Для меня – первый урок предательства. Не потому, что он был злой. Потому что ты, получив совок назад, сразу же побежал к нему снова, надеясь, что в этот раз всё будет иначе. Ты и сейчас бежишь к тем, кто тебя обижает, с тем же самым совком в руках и той же глупой надеждой. Учиться ты не любил. Не любишь и сейчас.
– Детство – это не фотографии в альбоме. Это привычки души. Твоя торопливость родилась здесь, когда тебе кричали с балкона: «Быстрее домой!», прерывая самую важную игру. Твоё неумение просить о помощи – отсюда, когда ты разбил коленку и плакал в подъезде в одиночестве, боясь, что за крик наругают. Ты замёрз тогда, прижавшись лбом к холодному стеклу двери. Я до сих пор чувствую этот холод.
– Хватит копаться в этом! Всё было нормально. Обычное детство.
– Нормально? Кто это решил? Ты, который сжёг все мосты с прошлым и мчится вперёд, не оглядываясь? Норма – это когда ты принимаешь свои шрамы, а не делаешь вид, что их нет. Ты носишь их все. Этот шрам над бровью – не от ветки, как ты всем говорил. Ты упал, убегая от старших мальчишек, которые просто хотели посмотреть твой новый велосипед. Ты не упал. Ты споткнулся о собственный страх. И до сих пор спотыкаешься о него, когда встречаешь чужой интерес. Сразу в позу, сразу в броню.
– А дом? Ты редко вспоминаешь запах бабушкиных пирогов, потому что он смешан с запахом тишины за закрытой дверью родительской спальни. Они уставали. И ты научился ходить на цыпочках по собственной жизни. До сих пор ходишь. Боишься быть громким, быть заметным, потребовать своего. Проще сделать самому, верно? Проще никого не беспокоить. И ты сидишь в своей взрослой квартире, такой же тихой, как та детская комната, и прислушиваешься к молчанию.
– Прекрати! Ты всё искажаешь. Были же и хорошие моменты! Первый велосипед, поездка на море, новогодние подарки…
– Конечно, были. Я же не отрицаю. Первый велосипед – тот самый, от которого ты убежал. Поездка на море, где ты весь отпуск просидел на берегу, боясь глубины. Ты до сих пор боишься глубины, только теперь это не море, а чувства. Новогодние подарки… Ты больше любил не распаковывать их, а трясти коробки, угадывая содержимое. Ожидание было слаще обладания. И сейчас тебе интереснее погоня, чем результат. Достигнув чего‑то, ты тут же теряешь к этому интерес. Как к той машинке на радиоуправлении, которую выбросил через месяц.
– Я не осуждаю. Я констатирую. Я – это ты, который наконец‑то остановился и оглянулся. И увидел не цепочку случайных событий, а закономерность. Прямую линию от той песочницы до этого офисного кресла. От того испуганного мальчика в подъезде до взрослого мужчины, который в паузах между встречами тоже, бывает, прикладывает лоб к холодному стеклу.
