На Черной горе
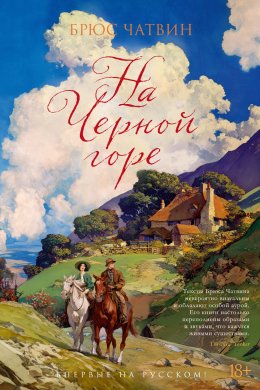
Bruce Chatwin
ON THE BLACK HILL
Copyright © Bruce Chatwin, 1982
THE VICEROY OF OUIDAH
Copyright © Bruce Chatwin, 1980
Карта выполнена Юлией Каташинской
© Т. А. Азаркович, перевод, 2025
© К. О. Голубович, перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
На Черной горе{Перевод Т. Азаркович.}
Посвящается Фрэнсису Уиндему и Диане Мелли
Поелику мы задерживаемся здесь недолго и дни нашей жизни сочтены, все равно что у мотылька или у тыквы, нам нужно искать прочного города в ином месте, строить себе дом в ином краю…
Джереми Тейлор[1]
1
Вот уже сорок два года Льюис и Бенджамин спали бок о бок в родительской кровати у себя на ферме, которая называлась Видение.
В 1899 году, когда их мать вышла замуж, эту дубовую кровать с балдахином привезли сюда из ее дома в Брин-Драйноге. Выцветший кретоновый полог с узором из живокости и розочек защищал от комаров летом и от сквозняков зимой. В льняных простынях мозолистые пятки протерли дыры, лоскутное покрывало местами заметно поистрепалось. Под матрасом, набитым гусиным пером, лежал другой матрас – с конским волосом, и все это просело в два желоба, образовав холм между спящими.
В комнате всегда было темно, здесь пахло лавандой и камфорными шариками.
Запах камфорных шариков доносился из пирамиды шляпных коробок, громоздившейся возле умывальника. На прикроватной тумбочке лежала подушечка для булавок, все еще утыканная шляпными булавками миссис Джонс, а на торцевой стене в рамке, крашенной под черное дерево, висела гравюра по картине Холмана Ханта «Светоч мира»[2].
Одно из окон выходило на зеленые поля Англии, а другое смотрело на Уэльс – туда, где за группой лиственниц высилась Черная гора.
Волосы у обоих братьев были белее наволочек.
По утрам, в шесть часов, звонил будильник. Они брились и одевались под радиопередачу для фермеров. Спускались вниз, стучали по барометру, разводили огонь и кипятили воду для чая. Потом доили коров, задавали скотине корм и возвращались в дом завтракать.
Стены дома были покрыты грубой штукатуркой с галечной крошкой, кровля из каменной черепицы поросла мхом. Сам дом стоял в дальнем конце участка, в тени старой шотландской сосны. Пониже коровника тянулся плодовый сад с чахлыми яблонями, которым ветер не давал тянуться ввысь, а за ним наклонно уходили вниз поля – к лощине, где вдоль реки росли березы и ольхи.
Давным-давно эта ферма звалась Ти-Крадок (в здешних краях имя Каратака[3] не забыто и по сей день), пока в 1737 году больной девочке по имени Алиса Морган не привиделась Дева Мария, парившая над кустиком ревеня. Алиса прибежала на кухню полностью исцеленной. В память о чуде ее отец переименовал свою ферму в Видение и высек на перекладине над крыльцом инициалы дочери «А. М.», дату и крест. Говорили, что граница между Раднором и Херефордом проходит прямо здесь, посередине лестницы.
Братья были близнецами.
В детстве их умела различать только мать – теперь же прожитые годы и несчастья оставили на них разные отметины.
Льюис был высокий и жилистый, с прямой осанкой и ровной пружинистой походкой. Даже в свои восемьдесят он мог день-деньской ходить по холмам или с утра до вечера орудовать топором и не уставать.
От него исходил резкий запах. Глубоко посаженные глаза – серые, задумчивые, подслеповатые – прятались за толстыми круглыми очками в светлой металлической оправе. На носу у него был шрам, оставшийся после падения с велосипеда, а еще после того случая у него загибался книзу и краснел в холода кончик носа.
Льюис имел привычку при разговоре покачивать головой; при этом он теребил цепочку от часов или вовсе не знал куда девать руки. На людях у него всегда был озадаченный вид, а если собеседник просто констатировал какой-нибудь факт, он говорил в ответ: «Большое спасибо!» или «Очень любезно с вашей стороны!». Все в округе знали, что он отлично ладит с овчарками.
Бенджамин был ниже ростом, розовее лицом, опрятнее и острее на язык. Подбородком он едва не упирался себе в шею, зато нос у него прекрасно сохранился, и в разговоре он пользовался им как оружием. Воло́с на голове у него осталось меньше, чем у брата.
Бенджамин занимался в доме готовкой, штопкой и глажкой, а еще вел счета. Никто лучше него не торговался за скотину – он мог часами яростно сбивать цену, пока барышник не вскидывал руки и не говорил: «Ну ладно, твоя взяла, старый сквалыжник!» А тот с усмешкой отвечал: «Кто-кто?»
На много миль в округе близнецы славились как страшные скряги – но не во всем.
Например, за сено они отказывались брать хоть пенни. Говорили, что сено – Божий дар земледельцу, и если у них в Видении имелись лишние запасы, то соседи победнее могли брать сколько угодно задаром. Даже в самые непогожие январские дни старухе мисс Файфилд с Бугра достаточно было прислать весточку с почтальоном – и Льюис грузил тюки сена на трактор, чтобы ей отвезти.
Любимым занятием Бенджамина было принимать роды у овец. Всю долгую зиму он дожидался конца марта, когда подают голоса кроншнепы и начинается окот. Тогда он, а не Льюис, не спал всю ночь и присматривал за овцами. Когда роды шли тяжело, он сам вытаскивал ягненка. Иногда ему приходилось запускать руку глубоко в овечью утробу, чтобы разделить ягнят-двойняшек. Потом он сидел у огня, немытый и довольный, а кошка слизывала у него с пальцев околоплодную слизь.
Зимой и летом братья ходили на работу в полосатых фланелевых рубахах с медными запонками на шее. Куртки и жилеты у них были сшиты из коричневого габардина, а штаны – из вельвета более темного цвета. Молескиновые шляпы они носили, загнув поля вниз; Льюис имел привычку снимать шляпу перед каждым встречным незнакомцем, поэтому ворс на его тулье совсем поистерся.
Время от времени с какой-то насмешливой чинностью они посматривали на свои серебряные часы – не для того чтобы узнать точное время, а чтобы проверить, чьи идут быстрее. Субботними вечерами братья по очереди мылись в сидячей поясной ванне перед огнем. Жили они ради памяти о матери.
Поскольку каждый из них знал, о чем думает другой, они даже ссорились без слов. Иногда – возможно, после очередной такой молчаливой ссоры, когда им нужно было, чтобы их помирила мама, – они вставали над ее лоскутным одеялом и всматривались в черные бархатные звезды и шестиугольники набивного ситца, которые когда-то были ее платьями. Не говоря ни слова, они снова видели ее: в розовом – идущей по овсяному полю с кувшином процеженного сидра для жнецов; в зеленом – в пору обеда у стригалей овец; или в фартуке в синюю полоску – склонившейся над очагом. А черные звезды приносили воспоминания о гробе с телом отца, стоявшем на кухонном столе, и о плакавших женщинах с белыми как мел лицами.
Со дня его похорон на кухне ничего не менялось. Обои с узором из восточных маков и буроватых папоротников потемнели от копоти, и хотя латунные дверные ручки блестели все так же, как много лет назад, с самих дверей и с плинтусов коричневая краска давно облупилась.
Близнецы никогда даже не думали подновить эту обветшавшую обстановку, боясь уничтожить память о том ясном весеннем утре – больше семидесяти лет назад, – когда они помогали матери помешивать в ведре клейстер из муки с водой и наблюдали, как на ее платке застывают капли побелки.
Бенджамин исправно отскребал от грязи каменные плиты пола, чугунная решетка блестела от графитовой смазки, а на конфорке всегда посвистывал медный чайник.
По пятницам Бенджамин обязательно что-нибудь пек (как когда-то мать): после полудня закатывал рукава, готовясь делать валлийское печенье или деревенский каравай. Он так энергично месил тесто, что от нарисованных подсолнухов на клеенке со временем почти ничего не осталось.
На каминной полке стояли парные стаффордширские фигурки спаниелей, пять латунных подсвечников, кораблик в бутылке и чайница с рисунком китаянки. В застекленной горке (одна ее дверца была подлечена скотчем) хранились фарфоровые безделушки, посеребренные чайники, всевозможные коронационные и юбилейные кру́жки. На полку, прибитую к стропилам, был втиснут свиной окорок. Георгианское фортепиано свидетельствовало об изысканном досуге давно минувших дней.
Рядом с напольными часами Льюис держал наготове дробовик 12-го калибра: оба брата боялись воров и торговцев антиквариатом.
У отца близнецов было единственное хобби (точнее, единственное, что его интересовало в жизни, не считая земледелия и Библии): выреза́ть деревянные рамки для картин и семейных фотографий, которыми было увешано все свободное пространство на стенах. Миссис Джонс всегда удивлялась, как это у человека с таким характером и такими неуклюжими руками хватало терпения для столь кропотливой работы. Но как только мистер Джонс брался за резец и повсюду разлетались мелкие белые стружки, он переставал быть придирчивым грубияном.
Он вы́резал готическую рамку для религиозной цветной гравюры «Широкий и узкий путь», придумал своеобразные библейские мотивы для акварели, изображавшей купель Вифезда. А когда брат прислал ему из Канады олеографию, промазал ее всю льняным маслом, чтобы сделать похожей на работу старых мастеров, и всю зиму напролет корпел над обрамлением в форме кленовых листьев.
И была еще та картина (которая, помимо прочего, имела отношение к легендарному дядюшке Эдди) – с краснокожим индейцем, березовой корой, соснами и багровым небом, – которая впервые пробудила в Льюисе мечту о дальних краях.
Если не считать поездки на море в 1910 году, ни один из близнецов никогда не бывал дальше Херефорда. И все же недоступные горизонты только растравляли в Льюисе страсть к географии. Он донимал гостей расспросами, что́ они думают «о дикарях в Африке», требовал известий о Сибири, о Салониках или Шри-Ланке. А когда кто-нибудь упоминал о неудачной попытке президента Картера освободить заложников в Тегеране[4], Льюис скрещивал руки на груди и решительно заявлял:
– Ему нужно было переправить их через Одессу.
Его познания о мире были почерпнуты из изданного в 1925 году атласа Бартоломью, в котором владения двух больших колониальных держав раскрашивались в розовый и лиловый цвета, а Советский Союз – в блеклый серо-зеленый. Льюиса, привыкшего к порядку, оскорбляло новое лицо планеты, зарябившее множеством грызущихся между собой маленьких стран с непроизносимыми названиями. Словно намекая на то, что настоящие путешествия можно совершать только в воображении (а может быть, желая порисоваться), он зажмуривался и певуче декламировал строки, которые когда-то разучивала с ним мать:
- Всё на запад и на запад,
- Плыл по нем к заре огнистой,
- Плыл в багряные туманы,
- Плыл к закату Гайавата…[5]
Очень часто близнецы горевали при мысли о том, что так и умрут бездетными, однако стоило им только бросить взгляд на стену, увешанную фотографиями, как самые мрачные их мысли тут же улетучивались. Всех, кто был изображен на этих снимках, они знали по именам, и им никогда не надоедало выискивать черты фамильного сходства у людей, родившихся с разницей в сотню лет.
Слева от группового снимка, сделанного на свадьбе родителей, висел портрет их самих в шестилетнем возрасте; они глядели перед собой широко раскрытыми глазами, словно птенцы сипухи, и были наряжены в одинаковые рубашки с отложными воротничками, как у пажей (их тогда собирались вести на гулянье в парк Леркенхоуп). Но больше всего братьев радовала цветная фотография внучатого племянника, тоже шестилетнего, только замотанного в тюрбан из полотенца (он играл Иосифа в рождественском спектакле).
С тех пор прошло четырнадцать лет, и Кевин превратился в высокого черноволосого юношу с кустистыми, сросшимися на переносице бровями и аспидными серо-голубыми глазами. Через несколько месяцев ферма должна была отойти ему.
Теперь, глядя на то поблекшее свадебное фото, на отцовское лицо в оправе из огненно-рыжих бакенбард (даже по фотографии в сепии легко было понять, что он из рыжеволосых), рассматривая рукава жиго на платье матери, розы на ее шляпке и нивянки в ее букете, сравнивая ее милую улыбку с улыбкой Кевина, они понимали, что жизнь не была потрачена даром и время, пройдя через целительный круговорот, смыло боль и гнев, стыд и бесплодность и прорвалось в будущее с обещанием новизны.
2
Из всех, кто позировал для фото у «Красного дракона» в Рулене в тот душный августовский день в 1899 году, больше всего поводов для радости было у жениха – Амоса Джонса. Всего за неделю ему удалось добиться исполнения двух из трех его заветных желаний: жениться на красавице и взять в аренду ферму.
Его отец, старый пустомеля и любитель сидра, известный в раднорширских пабах как Сэм Телега, начинал свой жизненный путь гуртовщиком и за долгие годы, промышляя извозом, так и не сумел разбогатеть; теперь он жил вдвоем с женой в тесном домишке на склоне Руленского холма.
Ханну Джонс никак нельзя было назвать милой или покладистой женщиной. В молодые годы она без памяти любила мужа, мирилась с его отлучками и изменами и – благодаря своей баснословной скаредности – всегда умудрялась предотвратить приход приставов.
А потом последовали катастрофы, от которых сердце ее очерствело и окаменело, а рот сделался кривым и колючим, будто лист падуба.
Из пятерых ее детей одна дочь умерла от чахотки, другая вышла за католика. Старший сын погиб в угольной шахте в долине Ронты. Ее любимчик Эдди украл материнские сбережения и удрал в Канаду. Так ее единственной опорой в старости остался Амос.
Он был ее последышем, поэтому она нянчилась с ним больше, чем с другими, и отправила в воскресную школу учиться грамоте и страху перед Господом. Амос был неглуп, но к пятнадцати годам мать окончательно разочаровалась в способностях сына и прогнала его из дома, чтобы содержал себя сам.
Дважды в год, в мае и ноябре, он бродил по Руленской ярмарке в ожидании, что какой-нибудь фермер наймет его в батраки; из шапки у него торчал клок овечьей шерсти, через руку была переброшена опрятно сложенная чистая воскресная блуза.
Он нашел работу на нескольких фермах в Радноршире и Монтгомери. Там он научился пахать плугом, сеять, жать и стричь скотину, забивать свиней и вытаскивать овец из сугробов. Когда сапоги окончательно порвались, ему пришлось обмотать ноги полосками войлока. Вечерами после работы у него ныли все суставы. Ужинал он похлебкой из окорока с картофелем и черствыми корками. Чая ему не полагалось – хозяева были слишком прижимисты.
Ночевал Амос на тюках сена в амбаре или на сеновале в хлеву, и зимними ночами, бывало, лежал без сна, дрожа под сырым одеялом: просушить одежду было негде. Однажды утром в понедельник хозяин выпорол его из-за ломтей холодной баранины, которые пропали, когда семья была на службе в молельне, хотя Амос был не виноват (мясо стащила кошка).
Трижды он убегал от нанимателей и трижды лишался платы за труд. И все-таки расхаживал с важным видом, залихватски заламывал шапку и – в надежде понравиться какой-нибудь смазливой фермерской дочке – тратил все лишние пенни на яркие носовые платки.
Первая его попытка соблазнения провалилась.
Чтобы разбудить девушку, он бросил ветку в окно ее спальни, и она тихонько спустила ему ключ. Потом, на цыпочках пробираясь по кухне, он задел ногой табурет и грохнулся. Вслед за ним на пол свалился медный горшок, залаяла собака и откуда-то из глубины донесся мужской голос. Когда Амос выбегал из дома, отец девушки уже стоял на лестнице.
В двадцать восемь лет он сказал, что, пожалуй, эмигрирует в Аргентину: ходят слухи, что там всем желающим дают землю и лошадей. Тогда мать запаниковала и подыскала ему невесту.
Это была очень простая, туповатая женщина лет на десять его старше; она сидела день-деньской, глазея на свои ничем не занятые руки – обуза для своей семьи.
Ханна три дня уговаривала отца невесты отдать ее за Амоса, а заодно выторговала тридцать племенных овец, аренду небольшой фермы Кумкойнант и права на выпас скота на Руленском холме.
Участок оказался паршивый. Он находился на тенистом склоне, и в пору таяния снегов домик вставал на пути у потоков ледяной воды. Все же, арендуя немного земли там и сям, закупая скот совместно с другими фермерами, Амос кое-как выкручивался и уповал на лучшие времена.
Брак этот был безрадостным.
Рейчел Джонс слушалась мужа, двигаясь, как безвольный автомат. Она чистила свинарник в рваном твидовом пальто, перевязанном куском бечевки. Никогда не улыбалась и не плакала, если муж бил ее. На его вопросы отвечала односложно или просто хмыкала. Даже терпя родовые муки, она так сильно стиснула зубы, что не проронила ни звука.
Родился мальчик. Молоко не пришло, и мать отослала его к кормилице. Ребенок умер. А в ноябре 1898 года Рейчел перестала принимать пищу и повернулась спиной к миру живых. Когда ее хоронили, кладбище белело подснежниками.
С того дня Амос Джонс стал регулярно ходить в церковь.
3
Однажды на воскресной заутрене – еще и месяца не прошло со дня похорон – руленский викарий объявил, что его позвали провести службу в Лландафском соборе, и потому вместо него в следующее воскресенье проповедь произнесет ректор из Брин-Драйнога.
Им оказался преподобный Латимер, знаток Ветхого Завета, вышедший на покой после миссионерской работы в Индии и поселившийся в здешней горной глуши в одиночестве – точнее, вместе с дочерью и со своими книгами.
Изредка Амос видел его на горе: со впалой грудью, с седыми космами, развевавшимися на ветру, как соцветия пушицы, он шагал среди зарослей вереска и что-то громко кричал, пугая овец. Дочку Амос не видел – говорили, что она грустная и красивая. Он уселся у самого края церковной скамьи.
По пути в Рулен Латимерам пришлось укрываться от ливня, и они опоздали к началу службы на целых двадцать минут. Наконец их двуколка остановилась возле церкви. Ректор пошел в ризницу переодеваться, а мисс Латимер направилась к местам для певчих, глядя на винно-красную ковровую дорожку и избегая взглядов прихожан. Она слегка задела Амоса Джонса за плечо и остановилась. Сделала полшага вперед, еще шаг в сторону и опустилась на скамью – на один ряд ближе к алтарю, чем он, по другую сторону от прохода.
Ее черная касторовая шляпка и шиньон каштановых волос блестели каплями воды. На сером саржевом пальто тоже виднелись потеки от дождя.
Одно из витражных окон изображало пророка Илию с вороном. Снаружи, на подоконнике, уселась парочка голубей, они ворковали и стучали клювами по стеклу.
Первым прозвучал гимн «Направь меня Ты, о Великий Иегова»[6], и Амос, вслушиваясь в мощно звучавшие голоса хора, уловил ее чистое, трепетное сопрано, а она почувствовала его баритон, жужжавший, как шмель, вокруг ее затылка. Весь «Отче Наш» он глазел на ее длинные белые, сужающиеся к кончикам пальцы. После того как прочитали отрывок из Нового Завета, она решилась бросить искоса взгляд назад и увидела его красные руки на красном клеенчатом переплете молитвенника.
Она зарделась от смущения и натянула перчатки.
Потом ее отец поднялся на кафедру и стал читать, кривя рот:
– «Если будут грехи ваши как багряное, – как снег убелю; если будут красны как пурпур, – как во́лну убелю. Если захотите и послушаетесь…»[7]
Она смотрела на свою молитвенную подушечку и чувствовала, как у нее щемит сердце. После службы Амос прошел рядом с ней через погребальные ворота[8], но она отвела взгляд, повернулась спиной и стала рассматривать ветви тиса.
Он позабыл о ней – пытался забыть, – пока однажды в апрельский четверг не отправился на руленский рынок, чтобы распродать годовалых барашков и обменяться новостями.
Вдоль всей Широкой улицы фермеры, съехавшиеся в город, привязывали своих пони и судачили, сбиваясь в группки. Телеги, уставив оглобли вверх, стояли пустыми. Из пекарни долетал запах свежевыпеченного хлеба. Перед ратушей расположились торговые палатки под навесами в красную полоску, а вокруг них так и роились черные шляпы. На Замковой улице толпа была еще гуще: народ проталкивался вперед, торопясь осмотреть гурты уэльского и херефордского скота. Овец и свиней держали в загонах за плетнями. День стоял морозный, и над спинами животных поднимались облака пара.
У «Красного дракона» два бородатых старика пили сидр и ворчали про «этих продувных бестий в парламенте». Кто-то гнусаво выкликал цену на плетеные стулья, красноносый скототорговец энергично жал руку худощавому человеку в коричневом котелке.
– Как делишки?
– Так себе.
– А у жены?
– Худо.
Рядом с городскими часами расположились две голубые подводы, застланные сеном и заваленные битой птицей; их хозяйки, две кумушки в клетчатых платках, вовсю сплетничали, старательно прикидываясь, что им и дела нет до бирмингемского закупщика, который кружил вокруг них, поигрывая ротанговой тростью.
Проходя мимо, Амос услышал, как одна кумушка говорит другой:
– Ах она бедняжка! Подумать только, одна-одинешенька на белом свете осталась!
В прошлую субботу пастух, проезжавший по горе, нашел тело преподобного Латимера, торчавшее ногами вверх из торфяной ямы. Видимо, он поскользнулся, упал и утонул. Во вторник его похоронили в Брин-Драйноге.
Амос распродал своих барашков, выручив за них сколько можно, и, засовывая монеты в жилетный карман, заметил, что рука у него дрожит.
На следующее утро, задав корм скотине, он взял палку и прошел девять миль к горе над Брин-Драйног. Дойдя до скал, гребнем выступающих на вершине, Амос сел в укрытии от ветра и перешнуровал ботинок. Над его головой летели из Уэльса пухлые облака, тени от них быстро мчались по склонам, поросшим утесником и вереском, но замедляли движение, когда доходили до полей с озимой пшеницей.
Он ощущал какую-то легкость в голове, почти что счастье, словно и его жизнь тоже должна была начаться заново.
К востоку протекала река Уай, серебристой лентой змеившаяся по заливным лугам, и все окрестные просторы были усеяны яркими пятнышками – белыми или краснокирпичными крестьянскими домами. Соломенные крыши смотрелись желтыми лоскутами в пене яблоневого цвета, а дома помещиков-аристократов утопали в сумрачной зелени хвойных деревьев.
Ниже, в нескольких сотнях ярдов, на шиферную кровлю пасторского дома в Брин-Драйноге падали солнечные лучи, отбрасывая на склон горы параллелограмм небесного света. В синеве кружили и падали камнем вниз два канюка; на ярко-зеленом поле паслись ягнята и расхаживали вороны.
По кладбищу среди надгробий двигалась женщина в черном. Вот она вышла из калитки и пошла по заросшему саду. На лужайке ей навстречу радостно выскочила маленькая собачонка, затявкала и принялась цапать подол. Женщина забросила палку в кусты, и собака помчалась следом, вернулась без палки и снова затеребила хозяйкину юбку. Что-то как будто удерживало женщину, мешая зайти в дом.
Амос помчался вниз по склону, металлические набойки на каблуках звучно ударялись об отлетавшие камни. Потом он перегнулся через садовую изгородь, шумно переводя дух, а она все так же стояла среди лавровых кустов, и собачка смирно лежала у ее ног.
– А, это вы! – сказала она, обернувшись.
– Ваш отец, – пробормотал он. – Мне так жаль, мисс…
– Да-да, конечно, – она жестом прервала его. – Пожалуйста, заходите в дом.
Он стал извиняться, говоря, что у него ботинки в грязи.
– В грязи! – Она рассмеялась. – Грязью этот дом не испачкаешь. И потом, я здесь надолго не останусь.
Она провела его в отцовский кабинет. В комнате было пыльно, она вся была заставлена книгами. За окном прицветники араукарии преграждали путь солнечному свету. Пучки конского волоса из дивана просы́пались на потертый турецкий ковер. Письменный стол был завален пожелтевшими бумагами, на вращающейся стойке лежали Библии и комментарии к Библии. Каминную полку из черного мрамора украшали древнеримские черепки и несколько кремневых наконечников топоров.
Она подошла к фортепиано, выхватила содержимое вазы и бросила за каминную решетку.
– Какой ужас! – сказала она. – Терпеть не могу иммортели!
Она рассматривала его, пока он разглядывал акварель, изображавшую белые арки, финиковую пальму и женщин с кувшинами.
– Это купель Вифезда, – пояснила она. – Мы были там. Объездили всю Святую землю, когда возвращались из Индии. Увидели Назарет, Вифлеем и море Галилейское. Были в Иерусалиме. Отец всю жизнь мечтал об этом.
– Можно воды? – спросил он.
Она провела его на кухню. На столе, выскобленном дочиста, было совсем пусто. Ни крошки еды.
Она сказала:
– Вот досада, я даже чашкой чая не могу вас угостить.
Они вышли на солнечный свет, и он разглядел, что волосы у нее уже тронуты сединой, а от уголков глаз к скулам расходятся мелкие морщинки. Но ему по душе пришлись ее улыбка, карие глаза и длинные черные ресницы. Талию ее стягивал черный пояс из лакированной кожи. Его взгляд опытного заводчика плавно скользил от плеч к бедрам.
– А я ведь до сих пор не знаю, как вас зовут, – проговорила она и протянула на прощанье руку. – Амос Джонс – замечательное имя.
Она дошла с ним по саду к воротам, помахала на прощанье и побежала обратно к дому. Когда он обернулся напоследок, она уже стояла в кабинете. Черные щупальца араукарии, отражавшиеся в окне, словно держали в плену ее белое лицо, прижавшееся к стеклу.
Он поднимался в гору, перескакивая с одного травянистого бугра на другой, и кричал во все горло:
– Мэри Латимер! Мэри Джонс! Мэри Латимер! Мэри Джонс! Мэри!.. Мэри! Мэри!..
Через два дня он вернулся в пасторский дом, прихватив подарок: собственноручно ощипанную и выпотрошенную курицу.
Она стояла на крыльце в длинном синем шерстяном платье, с наброшенной на плечи кашмирской шалью; к коричневой бархатной ленте, обвивавшей шею, была приколота камея с изображением Минервы.
– Вчера я не смог прийти, – сказал он.
– Я знала, что вы придете сегодня.
Она запрокинула голову и рассмеялась, а собачка, унюхав курицу, запрыгала и начала цапать Амоса за штаны. Он вытащил курицу из заплечного мешка. Мэри увидела холодную пупырчатую тушку. Перестала улыбаться – стояла на пороге как вкопанная и дрожала.
Они пытались поговорить в прихожей, но она заламывала руки и смотрела на вымощенный красной плиткой пол, а он переминался с ноги на ногу и чувствовал, как краснеет от шеи до ушей.
Обоих распирало желание что-то сказать друг другу. И оба понимали, что сказать им больше нечего, что ничего из их встречи не выйдет, что два их голоса никогда не сольются в один, и каждый уползет обратно в свою раковину, как будто та вспышка узнавания в церкви была насмешкой судьбы или искушением лукавого, решившего их погубить. Они продолжали что-то бормотать, запинаясь, и мало-помалу слова вылетали все реже, между ними пролегало все больше молчания. Они уже не глядели друг на друга, когда он неловко пробрался к выходу и бросился бежать к горе.
Ее мучил голод. В тот вечер она изжарила курицу и попыталась заставить себя поесть. После первого же куска отбросила нож и вилку, отдала блюдо собаке и побежала наверх, в спальню.
Мэри лежала ничком на своей узкой кровати и рыдала в подушку, синее платье распласталось вокруг ее тела, в колпаках над печными трубами завывал ветер.
Ближе к полуночи ей померещился хруст чьих-то шагов по гравию.
– Он вернулся! – крикнула она, но потом поняла, что это вьющаяся роза скребется колючками в окно.
Она принималась считать овец, но вместо того, чтобы нагнать на нее сон, эти глупые животные лишь пробудили другое воспоминание – о другой ее любви, которая приключилась с ней в пыльном индийском городке.
Он был полукровка-евразиец со слащавым взглядом, постоянно сыпавший извинениями. Она впервые увидела его на телеграфе, где он служил. Когда холера забрала ее мать и его молодую жену, они обменялись соболезнованиями на англиканском кладбище. Потом встречались вечерами и прогуливались вдоль лениво текущей реки. Он звал ее к себе и угощал переслащенным чаем с буйволовым молоком. Читал ей наизусть монологи из Шекспира. С надеждой говорил о платонической любви. Его маленькая дочка носила золотые сережки, а нос у нее был забит соплями.
– Потаскуха! – кричал на нее отец, когда почтальон доложил ему о «нескромности» дочери. Он на три недели запер ее в душной комнате, чтобы у нее было время раскаяться, и посадил на хлеб и воду.
Около двух часов ночи ветер переменил направление и завыл по-другому. Она услышала, как сломалась ветка – хррясь! – и вдруг, заслышав этот древесный звук, подскочила в кровати:
– О боже! Он подавился куриной костью!
Она ощупью пробралась вниз по лестнице. Сквозняк задул свечу, когда она отворила дверь на кухню. Она остановилась в темноте, вся дрожа. За шумом ветра можно было расслышать, как песик мирно похрапывает в своей плетенке.
На рассвете она взглянула за кроватные перила и в задумчивости остановила взгляд на гравюре по картине Холмана Ханта. «Стучите, и отворят вам»[9], – говорил Спаситель. Но разве она не стучала и не размахивала светильником у двери дома? В тот миг, когда сон наконец пришел, тоннель, по которому она блуждала, показался ей длиннее и темнее, чем обычно.
4
Амос таил свою злость. Все лето напролет он работал не покладая рук, как будто силясь вытравить память о высокомерной женщине, которая пробудила в нем надежды и сама же разрушила их. Часто, лишь увидев мысленно ее серые кожаные перчатки, он грохал кулаком по своему холостяцкому столу.
В пору сенокоса он пошел в помощники к одному фермеру на Черной горе и познакомился там с девушкой по имени Лиза Беван.
Они встречались в лощине и ложились в ольховой роще. Она покрывала его лоб поцелуями, перебирала ему волосы своими короткими пальцами. Но что бы он ни делал – что бы она ни делала, – ничто было не в силах стереть из его памяти образ Мэри Латимер, которая с обиженно-укоризненным видом насупливает брови. Ночами без сна, в одиночестве, как мучительно ему хотелось, чтобы рядом с ним оказалось ее гладкое белое тело!
Как-то раз на летней лошадиной ярмарке в Рулене он разговорился с пастухом – тем самым, что нашел тело утонувшего пастора.
– А что дочка? – спросил Амос притворно-равнодушным тоном.
– Уезжает, – ответил пастух. – Собирается, вещи пакует.
На следующее утро, когда Амос дошел до Брин-Драйнога, припустил дождь. Капли стекали по его щекам, барабанили по листьям лавров. В буках, росших вокруг пасторского дома, молодые грачи учились расправлять крылья, а их родители кругами летали рядом, одобрительно покаркивая. На подъездной дороге для экипажей стояла легкая двухколесная карета. Конюх помахал скребницей рыжеволосому незнакомцу, который широким шагом входил в дом.
Она была в кабинете – вместе с каким-то потрепанным, жидковолосым джентльменом в пенсне, листавшим книгу в кожаном переплете.
– Профессор Гетин-Джонс, – представила она его, не выказав ни капли удивления. – А это – просто мистер Джонс, который пришел, чтобы вывести меня на прогулку. Пожалуйста, извините нас. Продолжайте читать.
Профессор пробубнил что-то невнятное. Ладонь у него была сухая и жесткая. Сероватые жилы проступали над костяшками пальцев, как корни над камнями; изо рта плохо пахло.
Она вышла из комнаты и вернулась с разрумянившимся лицом, в резиновых сапогах и плаще из клеенчатой холстины.
– Это папин друг, – шепнула она, как только они отошли на некоторое расстояние. – Теперь вы видите, что мне пришлось вынести. Он хочет, чтобы я отдала ему все книги – даром!
– Лучше продайте, – сказал Амос.
Они поднимались под дождем овечьей тропой. Гора скрылась в тумане, бурные потоки текли по ней из облачной гряды. Он шагал впереди, раздвигая заросли утесника и папоротников, а она шла за ним ровно след в след.
Они остановились у скал, потом двинулись по старой грунтовке – рука об руку, разговаривая совершенно запросто, будто дружили с детства. Иногда она не могла разобрать какое-нибудь слово из его раднорского диалекта. Иногда он просил ее повторить сказанное. Но оба понимали, что перегородки, которая их разделяла, больше нет.
Амос рассказывал о своих планах, Мэри – о своих страхах. Он мечтал о жене и ферме, а еще о сыновьях, которым можно будет ее передать. Она боялась, что станет обузой родственникам и придется пойти в услужение. Мэри была так счастлива в Индии – пока была жива мать. Она рассказала ему о миссии и о страшных днях перед муссонами:
– Было так жарко. Мы просто задыхались!
– А мне наоборот, когда батрачил зимой, согреться негде было, разве только в пабе у огня, – отозвался он.
– Может, мне вернуться в Индию? – проговорила она, но так неуверенно, что он сразу понял: ей этого совсем не хочется.
В облаках появился разрыв, и на торфяные болота косо упали темно-желтые лучи света.
– Глядите! – вдруг сказал он и показал на жаворонка, который кружил прямо у них над головами, взлетая с каждым витком все выше и выше, будто спешил навстречу солнцу. – У него, знать, гнездо где-то рядом.
Она вдруг услышала легкий хруст и увидела желтое пятнышко на мыске сапога.
– Что это?! – испугалась она. – Что я натворила!
Оказалось, она наступила на гнездо жаворонка и передавила все яйца. Мэри села на кустик трав, по щекам текли слезы. Она прекратила плакать только после того, как он приобнял ее за плечи.
У пруда Маун они немного развлеклись бросанием плоских камушков, соревнуясь, чей продержится дольше, отскакивая рикошетом от поверхности темной воды. Из камышовых зарослей вылетали, оглашая окрестности жалобными криками, озерные чайки. Когда он подхватил ее на руки, чтобы перенести через заболоченное место, она ощутила себя невесомой, как повисший над землей туман.
Вернувшись к пасторскому дому, они снова стали обращаться друг к другу холодными, короткими фразами, словно умиротворяя тень ее отца. Профессор так и сидел зарывшись в книги.
– Лучше продайте, – повторил Амос, оставляя ее на крыльце.
Она кивнула и не стала махать на прощанье. Теперь она знала, когда и зачем он явится в следующий раз.
Он приехал днем в субботу на гнедом уэльском кобе[10], держа за поводья пегого мерина с дамским седлом. Она окликнула его из спальни, как только заслышала стук копыт. Он прокричал:
– Скорее! На Черной горе сдают в аренду ферму.
– Лечу! – отозвалась она и сбежала по лестнице в костюме для верховой езды, сшитом из сизо-серой индийской хлопчатой ткани. Соломенная шляпка, увенчанная розами, была подвязана под подбородком розовой атласной лентой.
Амос раскошелился на новую пару сапог, и Мэри, увидев их, ахнула:
– Боже, что за сапоги!
Среди узких тропинок притаились летние запахи. На живых изгородях жимолость переплелась с кустами шиповника, аистник пестрел голубыми цветами, а наперстянка – багряными. По дворам расхаживали вперевалку утки, лаяли овчарки, гуси шипели и тянули шеи. Амос отломил ветку бузины, чтобы отгонять слепней.
Они проехали мимо дома со шток-розами, высаженными у крыльца, и с огненными настурциями по бордюру. Старуха в волнистом капоре подняла глаза от вязанья и проговорила что-то хриплым голосом, обращаясь к наездникам.
– Старая Мэри Проссер, – шепнул он, когда они немного отъехали. – Говорят, она колдунья.
Пересекли дорогу на Херефорд у леса Фиддлерс-Элбоу; пересекли железнодорожные пути, потом начали подниматься по тропе каменотесов, что зигзагом вьется крутыми уступами Кефна.
У края сосновой посадки сделали остановку, чтобы лошади отдохнули, и оглянулись назад, на расстилавшийся внизу Рулен: на городскую мешанину из шиферных кровель, на полуразвалившиеся стены замка, на шпиль Мемориала Бикертона и флюгер церкви, блестевший в бледном свете солнца. В саду викария горел костер, шлейф серого древесного дыма взлетал выше печных труб и уносился прочь вдоль речной долины.
В сосняке было холодно и темно. Лошади скользили копытами по прошлогодней хвое. Звенели комары, валежник желтел оборчатыми наростами древесных грибов. Мэри дрожала, всматриваясь в длинные проходы между стволами сосен:
– Здесь все мертвое.
Они доехали до края рощи, выбрались на свет и двинулись дальше по открытому склону; лошади, почуяв под ногами траву, перешли на галоп – из-под копыт, будто ласточки, взлетали в воздух серпики дерна.
Они галопом преодолели холм, рысью спустились в долину, усеянную фермами, миновали ряды поздно зацветших боярышников и выехали на улицу Леркенхоуп. Всякий раз, как они проезжали мимо чьих-нибудь ворот, Амос коротко сообщал о хозяине дома: «Морган из Бейли, большой чистюля»; «Уильямс Врон, женат на кузине»; «Гриффитс из Кум-Кринглина, папаша его от пьянства помер».
В поле мальчишки собирали сено в стога, у дороги краснолицый селянин в рубахе, расстегнутой до пупа, затачивал косу.
– Милая у тебя подружка! – подмигнул он Амосу, когда они поравнялись с ним.
У ручья дали лошадям напиться, потом постояли на мосту, глядя, как колышутся водоросли и быстро идет против течения радужная форель. Они проехали еще полмили, и Амос распахнул замшелые ворота. Дальше вилась проселочная дорога, поднимаясь по склону к дому, рядом с которым росла группка лиственниц.
– Видение, так его тут называют, – сказал Амос. – Сто двадцать акров, и половина папоротником заросла.
5
Видение было дальней фермой поместья Леркенхоуп, принадлежавшего Бикертонам – старинному католическому семейству, которое разбогатело на торговле с Вест-Индией.
Прежний арендатор умер в 1896 году, оставив старую незамужнюю сестру, которая продолжала жить на ферме до тех пор, пока ее не увезли в сумасшедший дом. Во дворе сквозь дощатый кузов телеги пророс молодой ясень. Крыши хозяйственных построек желтели соцветиями очитка, навозная куча заросла травой. В дальнем конце сада стояла сложенная из кирпичей уборная. Амосу пришлось сбивать крапиву, чтобы расчистить подход к крыльцу.
Из-за сломанной петли дверь не поддавалась; когда Амос приподнял ее, навстречу им подуло чем-то зловонным.
Войдя в кухню, они увидели гниющий в углу узел со старухиным добром. Штукатурка осы́палась, на плитах пола застыла пленка грязной слизи. Галки свили гнездо на печной трубе, забив ветками дымоход и каминную решетку. Стол стоял накрытым для чаепития на двоих, но чашки заплела паутина, а от скатерти остались одни лохмотья.
Амос подобрал салфетку и смахнул мышиный помет.
– Похоже, тут крысы! – весело сказала Мэри, когда со стропил донеслись звуки возни. – Но крыс я не боюсь. В Индии к ним быстро привыкаешь.
В одной из комнат она нашла старую тряпичную куклу и со смехом принесла Амосу. Он хотел было выбросить ее из окна, но Мэри поймала его руку и сказала:
– Не надо, пусть останется.
Они вышли наружу – осмотреть хозяйственные постройки и плодовый сад. Терносливы должны дать хороший урожай, сказал он, а вот яблони придется высадить новые. Сквозь колючки она разглядела ряд трухлявых ульев.
– Кажется, мне предстоит узнать пчелиные тайны.
Он помог ей перебраться по приступке через забор, и они стали подниматься вверх, пересекая два поля, заросшие утесником и терновником. Солнце уже закатилось за крутой склон, над его краем тянулись завитушки медно-красных облаков. Она исколола лодыжки о колючие кустарники, и сквозь белые чулки выступили бусинки крови. Он предложил понести ее на руках, но она сказала:
– Ничего страшного.
Когда они вернулись к лошадям, луна была уже высоко. Лунный свет падал на открытую шею Мэри, соловей наполнял темноту мелодичными трелями. Амос обнял ее за талию и спросил:
– Ты бы смогла здесь жить?
– Смогла бы, – ответила она и повернула к нему лицо, пока он сцеплял свои руки у нее на пояснице.
На следующее утро она пришла к руленскому викарию и попросила его сделать оповещение о предстоящем браке: палец ей оплетало кольцо из травинок.
Священник – он как раз завтракал – пролил яйцо себе на сутану и пробормотал:
– Ваш отец не одобрил бы этот брак.
Он посоветовал ей подождать полгода, прежде чем принимать решение, но она поджала губы и ответила:
– Зима надвигается. Нам нельзя терять время.
В тот же день несколько горожанок наблюдали за тем, как Амос помогает Мэри сесть в двуколку. Жена галантерейщика сердито прищурилась, словно вдевала нитку в иголку, и изрекла:
– Уже на пятом месяце.
Другая сказала:
– Стыдоба! – и все они принялись наперебой удивляться, что же такое нашел Амос Джонс в «этой нахалке».
В понедельник на заре, когда не видно было еще ни души, Мэри уже стояла у конторы Леркенхоупского поместья и дожидалась управляющего Бикертонов, чтобы обсудить с ним условия аренды участка. Она пришла одна. Амос с трудом держал себя в руках, когда нужно было близко общаться с «благородными».
Управляющий – дальний родственник помещиков, красномордый любитель выпивки – был бесславно уволен со службы в индийской армии и лишился пенсиона. Бикертоны платили ему скудное жалованье, но, так как он неплохо справлялся со счетами и ловко обращался с «наглыми» арендаторами, ему позволялось стрелять барских фазанов и пить барский портвейн.
Он любил изображать большого весельчака и потому, когда Мэри изложила цель своего визита, засунул большие пальцы под жилетку и расхохотался:
– Значит, хотите переметнуться к крестьянам? Ха-ха! Я бы на вашем месте подумал!
Она вспыхнула. Высоко на стене висела траченная молью оскаленная лисья морда. Управляющий побарабанил пальцами по обтянутой кожей столешнице.
– Видение! – отрывисто проговорил он. – Даже не помню, бывал ли я там. Даже не помню, где оно находится! Давайте посмотрим на карте.
Он с видимым трудом поднялся и, взяв ее за руку, повел к карте поместья, целиком занимавшей одну из стен комнаты. Кончики пальцев у него были темные от никотина.
Он стал совсем рядом и хрипло проговорил:
– Это на горе, там же холодно, разве нет?
– Зато безопаснее, чем на равнине, – возразила она и высвободила свои пальцы из его руки.
Он снова уселся. Мэри он сесть не предложил. Пробурчал что-то про «других желающих» и велел четыре месяца ждать ответа от полковника Бикертона.
– Боюсь, это слишком долго, – улыбнулась она и тихо ушла.
Она прошлась обратно к Северному охотничьему домику, попросила у жены смотрителя листок бумаги и написала записку для миссис Бикертон, с которой однажды встречалась лично, еще вместе с отцом. Управляющий пришел в ярость, когда узнал, что из замка отправили лакея, чтобы пригласить Мэри к чаю в тот же день.
Миссис Бикертон была хрупкой светлокожей дамой лет под сорок. В юности она занималась живописью и жила во Флоренции. Потом, когда талант, казалось, покинул ее, она вышла замуж за красивого, но безмозглого кавалерийского офицера – то ли из-за его коллекции старых мастеров, то ли просто назло друзьям-художникам.
Недавно полковник отправился в отставку, так и не сделав ни единого выстрела по врагу. У супругов был сын Реджи и две дочери – Нэнси и Изабелла. Дворецкий провел Мэри через ворота розария.
Миссис Бикертон пряталась от жаркого солнца, сидя в тени ливанского кедра возле бамбукового чайного столика. По южному фасаду взбирались розовые вьющиеся розы; на всех окнах были опущены голландские шторы, и замок выглядел необитаемым. Это был «фальшивый» замок – его построили в 1820-е годы. С другой лужайки долетал стук крокетных мячей и молодой, звонкий смех, говорящий о достатке.
– По-китайски или по-индийски?
Миссис Бикертон пришлось повторить свой вопрос. Три нитки жемчуга опускались на оборки ее серой шифоновой блузки.
– По-индийски, – рассеянно ответила гостья. А когда хозяйка наливала чай из серебряного чайника, услышала новый вопрос:
– Вы уверены, что сделали правильный выбор?
– Уверена, – ответила она и закусила губу.
Лицо у миссис Бикертон погрустнело и вытянулось, рука дрожала. Она хотела предложить Мэри место гувернантки при своих детях, но спорить было бесполезно.
– Я поговорю с мужем, – сказала она. – На ферму можете рассчитывать.
Когда ворота распахнулись, Мэри на миг задумалась: смогут ли такие розы цвести так же вольно там – на высоте, на ее стороне горы? До конца месяца они с Амосом успели настроить столько планов, что им должно было хватить на всю оставшуюся жизнь.
В отцовской библиотеке оказалось несколько редких изданий. Мэри продала их букинисту из Оксфорда, и вырученных денег хватило на арендную плату на два года вперед, а еще на покупку пары ломовых лошадей, четырех молочных коров, двадцати голов нагульного скота, плуга и подержанной соломорезки. Договор об аренде был подписан. Дом вычищен и побелен, входная дверь выкрашена коричневой краской. Амос прибил к притолоке ветку рябины «от дурного глаза» и купил стаю белых голубей для голубятни.
Вместе с отцом они привезли из Брин-Драйнога пианино и старинную кровать, которую еле затащили на второй этаж («адская работенка»). Позже, сидя в пабе, старый Сэм хвастался приятелям, что Видение – настоящее «Божье гнездышко».
Невеста боялась только одного: что из Челтнема может примчаться ее сестра и испортить свадьбу. Мэри с облегчением вздохнула, читая от нее письмо с отказом приехать, а добравшись до слов «осрамила себя», разразилась неудержимым смехом и швырнула листок в огонь вместе с остатками отцовских бумаг.
Когда ударили первые морозы, новоиспеченная миссис Джонс уже была беременна.
6
В первые месяцы супружества она занималась благоустройством дома.
Зима выдалась суровая. С января по апрель снег на горе не таял, и замерзшие листья наперстянок висели поникшими, будто уши дохлых ослов. Каждое утро Мэри приникала к окну спальни, всматриваясь в лиственницы: черные они или белые от инея? Скотина в мороз замирала и затихала, и стрекот швейной машинки долетал до самого загона для окота овец.
Мэри сшила кретоновый полог для кровати и зеленые плюшевые шторы для гостиной. Разрезала старую нижнюю юбку из красной фланели и сделала лоскутный коврик с розами, чтобы положить перед кухонным очагом. После ужина она садилась на скамью с высокой прямой спинкой, раскладывала вязанье на коленях и бралась за крючок, и Амос не мог налюбоваться на своего умелого паучка.
Сам он работал в любую погоду – пахал землю, ставил изгороди, рыл канавы, прокладывал дренажные трубы, возводил стены методом сухой кладки. В шесть часов вечера, усталый как собака и грязный, он возвращался в дом – к кружке горячего чая и теплым домашним тапочкам. Иногда он приходил промокший до нитки, и от него до самого потолка взвивались клубы пара.
Она даже не представляла, насколько он вынослив и упрям.
– Сними мокрое, – распекала она его. – А не то схватишь воспаление легких и умрешь.
– Обязательно, – усмехался он и выпускал ей в лицо колечки табачного дыма.
С ней он обращался как с хрупким предметом, который достался ему случайно и мог запросто сломаться в его руках. Он очень боялся ненароком сделать ей больно или дать волю своему горячему норову. Один вид ее корсета из китового уса вызывал у него жалость и умиление.
До женитьбы он обливался раз в неделю в помывочной. Теперь же, боясь оскорбить ее нежные чувства, завел обычай приносить горячую воду прямо в спальню.
Под гравюрой Холмана Ханта на умывальнике стояли кувшин и миска минтоновского фарфора с узором из сплетенных листьев плюща. И перед тем, как надеть ночную сорочку, Амос раздевался до пояса и намыливал себе грудь и подмышки. Рядом с мыльницей горела свеча, и Мэри, бывало, откидывалась на подушку и следила за отсветами пламени: в бакенбардах ее мужа мерцали красные искорки, вокруг плеч появлялся золотой ободок, а по потолку двигалась большая черная тень.
Когда он догадывался, что она наблюдает за ним сквозь полог, ему становилось неловко – он наскоро выжимал губку, задувал свечу и вместе с ароматом лавандового мыла приносил с собой в постель запах скотного двора.
Утром в воскресенье они ездили в Леркенхоуп принимать святое причастие в приходской церкви. Мэри благоговейно держала облатку на влажном языке: «Тело Христово да сохранит меня в жизнь вечную…» Благоговейно подносила к губам чашу с вином: «Кровь Христова да сохранит меня в жизнь вечную…» Потом, устремляя взгляд на латунный крест в алтаре, пыталась сосредоточиться на Страстях Господних, но мысли ее принимались блуждать и возвращались к крепкому, живому телу мужа, сидевшего рядом.
Большинство их соседей ходили в неангликанские молельни – их недоверие к англичанам было на много веков старше религиозного нонконформизма и восходило еще к временам пограничных баронов. С особенной подозрительностью относились к Мэри здешние женщины. Но вскоре она завоевала их симпатии.
Домашний быт, который она обустроила, стал предметом зависти всей долины, и по воскресеньям к вечернему чаепитию – если только не было гололеда – ко двору Видения подъезжали четыре или пять двуколок, запряженных пони. Завсегдатаями в доме новоселов были Реувены-Джонсы, Рут и Дай Морган из Бейли; молодой Хейнс из Красного Дарена и Уоткинс Гроб – рябой от оспы, косолапый бедолага, который приходил, ковыляя, с другой стороны горы, из Крайг-и-Феду.
Гости являлись с чинными лицами, с Библией под мышкой. Но вся их набожность мигом улетучивалась, стоило им взяться за испеченный Мэри фруктовый пирог, или за узкие длинные коричные тосты, или за коржики, намазанные густыми сливками и земляничным джемом.
На этих чаепитиях Мэри выступала полноправной хозяйкой, и ей казалось, будто она уже много лет замужем за фермером, а тем делам, которые ежедневно требовали ее труда, – сбить масло, напоить телят, задать корм птице – она не научилась совсем недавно, а знала их сызмальства. Она радостно щебетала о парше, о коликах или о воспалении копыт.
– Ума не приложу, – говорила она, – отчего в этом году кормовая свекла такая мелкая уродилась.
Или:
– У нас так мало сена, не знаю даже, хватит ли на зиму.
Амос, сидевший на другом конце стола, слыша такое, сгорал от стыда. Ему не нравилось, что его умная жена строит из себя дурочку. А она, если замечала, что он с трудом скрывает досаду, сразу же меняла тему и принималась развлекать гостей акварелями из своего индийского альбома.
Она показывала им Тадж-Махал, речные пристани, где сжигали покойников, и голых йогов, сидящих на гвоздях.
– А слоны – они очень большие? – спрашивал Уоткинс Гроб.
– В три раза крупнее ломовой лошади, – отвечала она, и калека корчился от смеха, представляя себе такую невидаль.
Индия была слишком далекой, большой и непостижимой страной, чтобы расшевелить в валлийцах воображение. Однако – Амос никогда не уставал напоминать об этом гостям – Мэри ступала по стопам самого Господа: своими глазами видела нарцисс Саронский[11]; для нее Кармель, Фавор, Хеврон и Галилея были такими же зримыми и осязаемыми, как, скажем, Рулен, Гласкум или Лланфихангел-нант-Мелан.
Большинство раднорширских фермеров знали Библию вдоль и поперек и предпочитали Ветхий Завет Новому, потому что в Ветхом Завете больше говорилось о скотоводах. А Мэри так ярко, так живо рассказывала о Святой земле, что у гостей перед глазами проплывали их любимые персонажи: Руфь с колосьями на поле, Иаков с Исавом, Иосиф в разноцветном плаще, Агарь-изгнанница, мучимая жаждой в тени колючего кустарника.
Конечно, не все верили ее рассказам. Самой недоверчивой была ее свекровь, Ханна Джонс.
Они с Сэмом завели обычай являться без приглашения. Ханна, закутанная в черный платок с бахромой, нависала над столом, жадно поедала сэндвичи и вечно нагоняла на всех тоску или чувство неловкости.
На одном из воскресных чаепитий она вдруг прервала Мэри на полуслове и спросила, не бывала ли она «случаем» в Вавилоне.
– Нет, мама. Вавилон же не на Святой земле.
– Конечно, – поддакнул Хейнс из Красного Дарена. – Он не на Святой земле.
Сколько бы Мэри ни старалась угодить свекрови, старуха невзлюбила невестку с первого взгляда. Она испортила свадебный завтрак, назвав молодую «ваша светлость». А первый семейный обед закончился слезами, когда Ханна выставила скрюченный палец и с глумливой усмешкой изрекла:
– Старовата уже детей вынашивать, а?
Ни разу не было такого, чтобы она заявилась к молодым и не нашла к чему придраться: то к салфеткам, свернутым в виде кувшинок, то к банке для повидла, то к соусу из каперсов для баранины. А после того как Ханна высмеяла серебряную подставку для тостов, Амос велел жене убрать этот предмет подальше, «чтобы не стать посмешищем».
Он и сам стал бояться визитов матери. Однажды она ткнула наконечником зонтика любимого терьера Мэри, и с того дня песик всегда скалил на старуху зубы и норовил юркнуть ей под юбку и цапнуть за лодыжку.
Чаша терпения переполнилась, когда Ханна выхватила из рук невестки масло и крикнула:
– Не пускай хорошее масло на выпечку!
Мэри, чьи нервы и так были на пределе, не выдержала и крикнула в ответ:
– Ну а вы на что его пустите? На себя, наверное?
Амос, хоть и любил жену, хоть и понимал, что права она, бросался на защиту матери.
– Мама хочет как лучше, – говорил он.
Или:
– Ей несладко в жизни пришлось.
А когда Ханна отводила его в сторонку и принималась жаловаться на мотовство Мэри и на ее «упрямство», он не прерывал ее тирады и поневоле соглашался с ее словами.
Правда заключалась в том, что все «благоустройства» Мэри доставляли ему не столько радость, сколько неудобство. Безукоризненно вымытый пол становился преградой для его грязной обуви. Камчатные скатерти делались укором его застольным манерам. Романы, которые Мэри читала вслух после ужина, нагоняли на него скуку, а уж еда, приготовленная ею, часто оказывалась на его вкус попросту несъедобна.
В качестве свадебного подарка миссис Бикертон прислала «Домоводство» миссис Битон[12], и хотя собранные там рецепты совершенно не годились для деревенской кухни, Мэри прочитала книгу от корки до корки и стала заранее планировать меню.
И вот, вместо вполне предсказуемых вареных окороков, пудингов и картофеля она подавала на стол кушанья, о которых ее муж никогда даже не слышал: фрикасе из цыпленка или рагу из зайчатины, а то и вовсе баранину под рябиновым соусом. Когда Амос стал жаловаться на запоры, Мэри сказала: «Значит, нам нужно выращивать салатные овощи», – и принялась составлять список семян для рассады. Но после того, как она предложила отвести целую грядку под спаржу, он чуть не впал в ярость. Да что она, в самом-то деле? Неужто воображает, что за благородного вышла?
Буря грянула, когда Мэри решила поэкспериментировать с мягким индийским карри. Амос начал было есть – и не смог, выплюнул.
– Не нужна мне твоя паршивая индийская дрянь, – прорычал он и грохнул тарелку с едой прямо на пол.
Она не стала подбирать куски и осколки. Побежала наверх в спальню и уткнулась лицом в подушку. Муж не пошел за ней следом и не попросил прощения наутро. Он завел обыкновение спать под открытым небом, а вечерами надолго уходил куда-то с бутылкой в кармане. Однажды дождливым вечером заявился домой пьяный. Усевшись на стул, он с диким видом уставился на скатерть и то сжимал, то разжимал кулаки. А потом встал и, качнувшись, двинулся к жене.
Она вся сжалась и выставила локоть:
– Не бей меня!
– Даже не думал, – промычал он и снова выскочил в темноту.
В конце апреля в саду набухали розовые почки, а над горой козырьком нависало облако.
Мэри дрожала у каминной решетки и слушала неустанный плеск дождя. Дом впитывал влагу, как губка. Сквозь слой побелки проступали безобразные круги плесени, обои вспучились.
Бывали дни, когда ей казалось, что она уже много лет просидела в этой сырой, сумрачной комнате, в западне с раздражительным мужчиной. Она смотрела на свои руки, все в трещинах и волдырях, и думала о том, что преждевременно состарится, очерствеет и подурнеет. Она даже забыла, что когда-то у нее были отец и мать. Краски Индии давно померкли, и Мэри стала отождествлять себя с одиноким, изломанным ветрами терновым кустом – из окна виднелся его силуэт на гребне утеса.
7
А потом пришла хорошая погода.
Восемнадцатого мая, хотя день был не воскресный, с дальней стороны горы донесся звон церковных колоколов. Амос запряг пони, и они поехали в Рулен, где у каждого окна развевался британский флаг в честь снятия осады Мафекинга[13]. Играл духовой оркестр, по Широкой улице шли строем школьники, неся портреты королевы и Баден-Пауэлла[14]. Даже собакам повязали на ошейники патриотические ленточки.
Когда их двуколка поравнялась с шествием, Мэри ткнула мужа в ребра, и он улыбнулся.
– Как зима, так я с ума схожу. – Голос его звучал заискивающе. – Бывает такая зима, как будто и не кончится никогда.
– Ну уж следующей зимой нам будет о ком заботиться, – сказала Мэри.
Он бережно поцеловал ее в лоб, а она обняла его за шею.
Утром, когда она проснулась, ветерок шевелил тюлевые занавески, на груше заливался дрозд, на крыше ворковали голуби, а по постельному покрывалу бегали солнечные зайчики. Амос еще спал. Его ситцевая ночная рубашка расстегнулась, обнажив грудь. Мэри искоса поглядывала на его вздымавшуюся грудную клетку, на рыжие волоски вокруг сосков, на розовую вмятину от запонки, на ту пограничную линию, где загорелая шея переходила в молочно-белую грудь.
Она на секунду положила руку на плечо мужа.
«Подумать только, я могла его бросить». Эти слова, так и не выговоренные вслух, заставили ее покраснеть и отвернуться к стене.
Амос теперь думал только о будущем малыше – и мысленно представлял себе крепкого паренька, который будет ловко чистить коровник.
Мэри тоже надеялась, что родится мальчик, и уже строила ему планы на будущее. Уж как-нибудь она сумеет отправить его в школу-пансион. Он будет прилежно учиться. А когда вырастет, станет государственным деятелем, или адвокатом, или хирургом – и будет спасать жизни людям.
Как-то раз, идя по улице, она рассеянно притянула к себе ветку ясеня и, глядя на крохотные прозрачные листики, вылезающие из дымчато-черных почек, напомнила себе о том, что и он тоже тянется к солнечному свету.
Ее близкой подругой стала Рут Морган из Бейли – маленькая неказистая женщина с простым лицом и светлыми волосами, собранными в узел и спрятанными под чепец. Она была лучшей повитухой в долине и помогала Мэри подготовить приданое для малыша.
В солнечные дни они садились на плетеные кресла в садике перед домом и шили подгузники и пеленки, подрубали безрукавки, юбочки и чепчики или вязали из голубой шерсти пинетки, в которые потом полагалось продеть завязки – атласные ленточки.
Иногда, чтобы поупражнять затекшие руки, Мэри играла вальсы Шопена на фортепиано, которое отчаянно нуждалось в настройке. Ее пальцы бегали по клавишам, и стаи нестройных аккордов вылетали из окна ввысь к голубям. Рут Морган прочувствованно вздыхала и говорила, что лучшей музыки нет в целом свете.
Когда приданое было готово, они разложили все вещицы перед Амосом, чтобы и он полюбовался.
– Но это же не для мальчишки, – возмутился он.
– Да нет же! – вскричали обе в унисон. – Именно для мальчишки!
Через две недели пришел подсобить со стрижкой овец Сэм Телега, да так и остался на ферме – помогать с огородом. Сеял, мотыжил, пикировал рассаду салата-латука, подрезал палки для гороха и опоры для фасоли. Однажды они с Мэри вырядили пугало в один из тропических костюмов миссионера.
У Сэма было лицо грустного старого клоуна.
После пятидесяти лет потасовок с мордобоями нос у него совсем сплющился. В нижней челюсти торчал одинокий резец. Белки глаз покрывала густая сеть красных жилок, а веки, казалось, шуршали при моргании. Присутствие хорошенькой женщины приводило его в состояние безудержной игривости.
Мэри приходились по душе его любезности, она смеялась над его небылицами – ведь он тоже «повидал мир». Каждое утро он собирал для нее букет, обрывая цветы с ее же клумбы перед домом, и каждый вечер, когда Амос проходил мимо него, направляясь к лестнице, старик потирал руки и кудахтал:
– Везунчик! Ух, был бы я помоложе!..
У него сохранилась старая скрипка – еще с тех пор, как он перегонял скот, – и, вынимая ее из футляра, он ласкал гладкую древесину, будто женское тело. Он умел сдвигать брови, как делают настоящие концертирующие скрипачи, и извлекать из инструмента дрожащие и рыдающие звуки. Когда он брал слишком высокие ноты, терьер Мэри задирал морду кверху и принимался выть.
Изредка, если Амос отлучался, они играли дуэтом – баллады «Лорд Томас и Прекрасная Элеонора» или «Неспокойная могила», – а однажды он застал их танцующими польку на первом этаже.
– А ну-ка перестань! – закричал он на жену. – Ребенку хочешь навредить?
Ханна же так злилась на поведение Сэма, что даже захворала.
До появления Мэри ей стоило только кликнуть: «Сэм!» – и ее муж, понурив голову, сразу же бормотал: «Да, милая!» и шел выполнять очередное ее поручение. Теперь же все руленцы видели, как она несется к «Красному дракону», оглашая улицу истошными воплями: «Сэ-э-эм!.. Сэ-э-эм!..», а Сэм между тем бродил где-то по горному склону и собирал грибы для невестки.
Однажды душным вечером – шла первая неделя июля – с улицы донеслось громыханье колесных ободьев, и к дому подъехал Хьюз Возчик. Он привез Ханну и пару ее узлов с пожитками. Амос приделывал новые петли к двери стойла. От неожиданности он выронил отвертку и спросил мать, зачем она приехала.
Она хмуро ответила:
– Мне нужно быть здесь, у постели.
Через день или два Мэри проснулась с приступом тошноты и с болями в спине – вдоль позвоночника так и стреляло. Когда Амос уже собирался спускаться, она схватила его за руку и взмолилась:
– Пожалуйста, попроси ее уехать. Без нее мне сразу станет лучше. Прошу тебя. Иначе…
– Нет, – ответил он, откидывая щеколду. – Мама останется здесь. Она нам не чужая.
Весь июль стоял страшный зной. Ветер дул с востока, небо сверкало суровой голубизной без единого облачка. Колодец с насосом пересох. Грязь растрескалась. В крапиве роились и жужжали слепни, а спина у Мэри болела все сильнее. Ночь за ночью ей снилось одно и то же – кровь и настурции.
Она чувствовала, как силы покидают ее. Ей казалось, что внутри у нее что-то лопнуло; ее стали преследовать мысли, что ребенок родится с уродством или мертвым или что сама она умрет родами. Иногда Мэри жалела, что не умерла еще в Индии, помогая бедным. Обложившись подушками, она молилась Спасителю, прося забрать у нее жизнь, но только – о Господи, Господи! – оставить в живых младенца.
Старая Ханна просиживала самые жаркие часы в кухне. Дрожа под своим черным платком, она вязала – медленно-премедленно – пару длинных белых шерстяных носков. Когда Амос забил до смерти гадюку, гревшуюся на солнышке возле крыльца, старуха скривила рот и изрекла:
– Это к смерти в семье!
Пятнадцатого июля у Мэри был день рождения, а так как ей стало немного лучше, она спустилась из спальни и попыталась завязать беседу со свекровью. Ханна прикрыла глаза и сказала:
– Почитай мне вслух!
– Что же вам почитать, мама?
– Про венки.
Мэри взяла номер «Херефорд Таймс» и нашла раздел объявлений о похоронах:
– «Отпевание мисс Вайолет Гух, трагически погибшей в прошлый четверг в возрасте семнадцати лет, состоялось в церкви Святого Асафа…»
– Я же сказала: венки!
– Да, мама, – отозвалась Мэри и начала с другого места: – «Венок белых лилий от тети Вай и дяди Артура: „Прощай навеки!..“ Венок желтых роз: „На вечную память от Поппет, Винни и Стэнли“… Искусственный венок в стеклянном футляре: „От торгового дома Гусон, помним, скорбим“… Букет роз Глуар де Дижон: „Спи спокойно, моя дорогая. От тети Мэвис, отель «Мостин», Лландриндод“… Букет полевых цветов: „Лишь спокойной ночи, любимая, не прощай! Твоя любящая сестра Сисси“».
– Ну, продолжай! – Ханна приоткрыла один глаз. – Что же ты замолчала? Давай! Дочитывай!
– Да, мама… «Гроб из красивого полированного дуба с латунной оснасткой был изготовлен фирмой „Ллойд и Ллойд“ из Престина; на крышке выведена следующая надпись: „Арфа! Великолепная арфа! С порванной струной!“».
Старуха мечтательно вздохнула.
Приготовления к появлению на свет младенца приводили Сэма в такое волнение, что его можно было принять за будущего отца. Он вечно придумывал, как бы еще угодить Мэри: собственно, только при виде его лица она и улыбалась. Он истратил свои последние сбережения на колыбель-качалку, которую заказал Уоткинсу Гробу. Колыбель была выкрашена красной краской, с синими и белыми полосками, и увенчана четырьмя резными навершиями в форме певчих птиц.
– Папа, ну зачем же вы… – Мэри хлопала в ладоши, глядя, как старик пробует качать люльку на кухонном полу.
– Да ей не колыбель понадобится, а гроб, – проворчала Ханна и опять уткнулась в свое вязание.
Вот уже пятьдесят с лишним лет у нее лежала (как часть приданого к свадьбе) одна-единственная, ни разу не стиранная, белая хлопчатобумажная ночная сорочка, в которую ее следовало обрядить на похороны, вместе с теми самыми белыми носками. Первого августа она дошла до пятки на втором носке, и с того дня вязала все медленнее и медленнее, вздыхая между петлями и сипло приговаривая: «Уже недолго осталось!»
Кожа ее, которая и в лучшие времена цветом напоминала бумагу, теперь сделалась совсем прозрачной. Дышала старуха хрипло и прерывисто, языком ворочала с трудом. Всем, кроме Амоса, было ясно: она приехала сюда умирать.
Восьмого августа погода наконец переменилась. Из-за горы выглянули и поползли по небу, громоздясь друг на друга, дымчатые облака с серебристыми верхушками. В шесть утра Амос и Дай Морган косили остатки овса. Все птицы умолкли, и воцарилась тишина, какая обычно предшествует буре. В воздухе метался чертополоховый пух. Вдруг всю долину огласил пронзительный вопль.
Начались схватки. Наверху, в спальне, Мэри корчилась, стонала, сбрасывала простыню и кусала подушку. Рут Морган как могла успокаивала роженицу. Сэм хлопотал на кухне, кипятил воду. Ханна сидела на скамье и вела счет петлям.
Амос оседлал коня, пустив его галопом, перевалил через гору и сам не свой поскакал по тропе каменотесов в Рулен.
– Мужайся, приятель! – проговорил доктор Булмер, разделив хирургические щипцы на две половины и рассовав их по голенищам своих сапог для верховой езды. Затем, засунув флягу с настоем спорыньи в один карман и бутылку с хлороформом в другой, он застегнул воротник макинтоша, и оба помчались навстречу надвигавшейся грозе.
Когда они привязывали лошадей к садовой ограде, дождь уже шумно хлестал по черепичной кровле.
Амос пытался было пройти наверх, но врач оттолкнул его, и он рухнул в кресло-качалку, как будто его сильно ударили в грудь.
– Всемилостивый Боже, пусть только родится мальчик, – простонал он. – И я больше никогда к ней не прикоснусь.
Он схватился за передник Рут Морган, когда она проходила мимо с кувшином воды.
– Она не умирает? – жалобно промычал он, но та только стряхнула его руку и велела не молоть чепуху.
Через двадцать минут дверь спальни распахнулась, и из глубины донесся голос:
– Есть в доме еще газеты? Клеенка? Что угодно!
– Это мальчик?
– Целых два!
В ту ночь Ханна довязала второй носок, а три дня спустя умерла.
8
Первое воспоминание близнецов относилось к тому дню, когда их укусила оса, причем оба запомнили это происшествие одинаково хорошо.
Они сидели на высоких детских стульчиках для кормления за чайным столиком. Наверное, это было время вечернего чаепития, потому что солнечный свет вливался в кухню с запада, отскакивая от клеенки и заставляя братьев мигать. Пожалуй, дело было осенью, возможно, в октябре, когда осы делаются сонными. В небе за окном застыла сорока, гроздья красной рябины колыхались на ветру. На столе лежали куски хлеба, намазанные блестящим ярко-желтым маслом. Мэри засовывала в рот Льюису ложку с яичным желтком, а Бенджамин, в припадке ревности размахивая руками, чтобы привлечь внимание к себе, задел левой осу и был ужален.
Мэри полезла в аптечный шкафчик за ватой и нашатырным спиртом, протерла пострадавшую руку и, глядя, как место укуса раздувается и краснеет, стала приговаривать:
– Терпи, малыш! Терпи!
Но Бенджамин и не думал плакать. Он просто поджал губы и смотрел грустными серыми глазами на брата. Потому что не он, а Льюис хныкал в тот момент от боли и поглаживал собственную левую руку, будто раненую птичку. Он продолжал кукситься, пока не пришла пора укладываться спать. Лишь крепко обнявшись в кроватке, близнецы успокоились и уснули; с тех пор яйца стали прочно ассоциироваться у них с осами, и ко всему желтому они относились с большой подозрительностью.
Так Льюис впервые выказал способность оттягивать боль от брата на себя.
Он был более сильным из близнецов, к тому же первенцем.
Чтобы показать, кто именно появился на свет первым, доктор Булмер надрезал крестик у него на запястье; еще с колыбели Льюис проявлял себя как сильнейший. Он не боялся ни темноты, ни чужих. Любил устраивать кучу-малу с овчарками. Однажды, когда никого поблизости не было, он протиснулся через незапертую дверь в хлев, где Мэри и обнаружила его через несколько часов: он что-то лопотал быку.
Бенджамин, напротив, был страшный трус. Он вечно сосал большой палец, истошно вопил, если его разлучали с братом, и ему все время снились кошмары: про то, как он угодил в сенорезку, или про то, что его топчут ломовые лошади. При этом всякий раз, когда ему действительно делалось больно – например, он падал в крапиву или ударялся обо что-нибудь ногой, – ревел за него Льюис.
Спали близнецы в тускло освещенной комнате, расположенной у лестничного пролета, на кровати-раскладушке на колесиках. Однажды утром (это тоже было одно из их самых ранних воспоминаний) они проснулись и заметили, что потолок приобрел какой-то непривычный серый оттенок. Поглядев в окно, мальчики увидели лиственницы в снегу и кружащиеся в воздухе снежинки.
Придя одевать детей, Мэри обнаружила, что они устроили на полу у кровати какое-то гнездо и свернулись там в клубок.
– Не валяйте дурака, – сказала она. – Это всего лишь снег.
– Нет, мама, – раздались два приглушенных голоска из-под одеял. – Это Боженька плюется.
Если не считать воскресных поездок в Леркенхоуп, их первым выездом из дома было посещение цветочной выставки в 1903 году – тогда еще пони испугался мертвого ежа на улице, а их мать получила первый приз за красную стручковую фасоль.
