Я везде и нигде
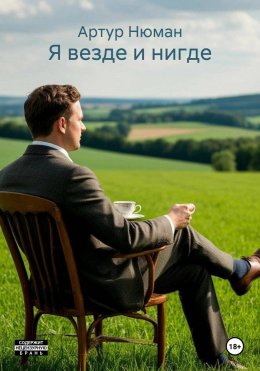
Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми, а также с событиями и локациями – случайно. Авторское произведение является художественным осмыслением, а не документальной хроникой.
Предисловие
Предисловие… Или введение? Какая, в сущности, разница! Этот текст родился не потому, что так положено. А потому что мне есть что сказать.
Включаем «Лондон» Земфиры. Поехали. Наше путешествие займет ровно 3:12 – пока звучит эта песня. Большего и не нужно.
На этих страницах – жизнь. Такая, какая она есть. Взлеты и падения. Опыт – и хороший, и плохой. Любовь и секс. Истерики, спокойствие, умиротворение. Всё, что может испытать каждый человек. Как показала практика, плохой опыт я в итоге засчитываю как хороший. Именно так и получается.
Падения, согласно моему опыту, бывают очень медленными. Настолько, что ты скован и не можешь ничего поделать. Остается только наблюдать.
В книге будет не нормативная лексика. Почему? А почему бы и нет? Каждый человек, даже самый что ни на есть культурный, использует ее там, где считает нужным. Такова жизнь.
И, как в последней строчке песни, – до последней до точки, побежали летать!
Здесь будут отсылки к любимой музыке – я вижу и слышу ее повсюду. Рекомендую во время чтения включать упоминаемые треки. Чтобы прочувствовать историю тоньше. Чтобы погрузиться в атмосферу глубже. (На Яндекс Музыка плейлист с одноименным названием)
Ваш проводник по этим страницам,
Áртур Нюман
Часть 1: Фундамент и трещины
Глава 1: Начало
Саундтрек главы: Ермак! – Начало
Когда-то я был Лёней Поповым. Не Áртуром Нюманом, автором этих строк, а заросшим двойками пиздюком из шестого класса. Начинать нужно с него, с этого мальчишки, потому что между нами пролегла целая жизнь. И чтобы понять меня сегодняшнего, нужно сначала познакомиться с ним. С тем, кого я с иронией и болью называю «самый обычный школяр».
Его, то есть меня, не волновала учеба. Она была нужна, как горчичник при насморке – бесполезна и раздражающа. Но она была критически важна моей маме, Елене Леонидовне. Плохие оценки сына не просто огорчали ее. Они, по ее словам, «портили ей психику». И это была не метафора. Ее расстройство висело в воздухе нашей квартиры тяжелым, грозовым запахом, предвещающим бурю.
Я боялся ее как огня. Жирная двойка в дневнике? Я точно знал, где висит кипятильничек. Не метафорический, а самый настоящий, с проводами и раскаленной спиралью. Его истинное предназначение в нашем доме было куда шире, чем греть воду. Его функция – быть проводником материнского гнева, инструментом мгновенного и болезненного правосудия. Так что мое стремление к пятеркам было глубоко физиологическим, инстинктом самосохранения.
Но жизнь в двенадцать лет – это не только дневник и кипятильничек. Это время, когда взросление подкрадывается к тебе через внезапно открывшиеся детали мира. Например, через стринги старшеклассницы, нагло торчащие из-за пояса низко сидящих джинсов. В тот самый момент я понял, что испытываю нечто, отчего резко поднимается настроение и как чертовски, до головокружения, сексуальна наша учительница по математике. Мир распался на две неравные части: на опасную, наполненную материнским гневом, и на новую, манящую, пронизанную непонятным томлением.
И вся эта история – про Лёню, про страх, про первое влечение – это история про меня. Почему в третьем лице? Потому что дистанция – единственный способ рассказать об этом без того, чтобы снова стать тем мальчиком. Вспоминая, я не вижу в себе альфа-самца. Я вижу пацана, который отчаянно пытался им казаться, потому что настоящей, здоровой мужской модели у него не было. Вернее, была. Но она ждала его не дома.
Наша жизнь текла в российской глубинке, буквально в паре километров от райцентра. И пока в одном мире солнце светило сквозь тучи страха, в другом – а это был мир моего деда – оно светило по-настоящему ярче. Трава там была зеленее, а понятия «обязанности» и «ответственность» не довлели над тобой, а естественно вырастали из уважения к старшим.
Мой дед, Леонид Александрович Попов, был моим личным государством всеобщего благоденствия. Сейчас, спустя пятнадцать лет после его ухода, я вспоминаю его с щемящей теплотой и отдал бы многое за пять минут новой беседы с ним. В любой непонятной ситуации, по любому вопросу, будь то поломка велосипеда или философский вопрос о звездах, я бежал к деду. У него было всё. И были ответы на всё. Легче было перечислить, чего у него нет.
А все благодаря его большому, доброму сердцу, бескрайнему любопытству и таланту собирателя. Дед был алхимиком, превращавшим хлам в сокровища. Старая рама от «Урала» с помойки, поломанный стул, коробка ржавых болтов – в его руках всё это обретало ценность и Potential. И, что было для меня шокирующим открытием после домашних разборок, я ни разу не слышал, чтобы он ругался матом. Ни разу.
Леонид Александрович был человеком-фундаментом. Его реализация – семья, забота и ответственность. Ведь он воспитал пятерых дочерей! А итог – сила, власть и уважение, которое он заслужил не агрессией, а мудростью и добротой.
Самодисциплина, обостренное чувство долга и справедливости – качества, которыми он обладал в полной мере. И при этом – ни капли той удушающей строгости, что царила в моем доме. Он каким-то чудом умел договориться со всеми, не возлагая морального давления. Секрет был прост: его по-настоящему уважали.
А вот бабуля, Любовь Валерьевна Попова, была его идеальной противоположностью, Инь для его Ян. Строгая, высокая, с характером, элегантная женщина с железным, как у Фаины Раневской, взглядом на жизнь. Их дуэт был шедевром. Их отношения – точная копия Ляли и Мули из «Подкидыша». То самое, козырное: «Муля, не нервируй меня!» – вспоминаю с широкой улыбкой. В их ссорах была любовь. В их диалогах – уважение. Это был танец, а не драка.
И вот здесь, на стыке этих двух миров, я и существовал. Я был мальчиком-межмирьем.
В одном мире меня ждал кипятильничек и взгляд матери, в котором читалась не любовь, а раздражение от того, что я – ее нереализованность, ее несбывшаяся жизнь.
В другом мире меня ждал дед, который ничего от меня не требовал, кроме моего присутствия. Который учил меня не словами, а самим своим существованием, тому, каким должен быть мужчина.
Я был «везде» – разрывался между этими полюсами, пытаясь угодить матери и впитать в себя заветы деда. И я был «нигде» – потому что ни в одном из этих миров не чувствовал себя полностью своим. Дома я был помехой. У деда – гостем.
Иногда память – это не видео, а старая фотография, чуть желтоватая по краям, с выцветшими до пастели тонами. Я достаю одну из них, самую дорогую. Шестой класс. Трава тогда была «зеленее». Не просто зелёной, а изумрудной, сочной, густой, как бархатный ковёр, на котором оставались влажные отпечатки босых ног. Солнце светило как-то искренне, не обжигая, а лаская спину. Воздух был напоён запахами свежескошенной травы, нагретой смолы на заборе и сладковатым дымком из бабушкиной печки.
Я лежу в этой траве где-то во дворе бабушки с дедом, закинув руки за голову. Надо мной – бесконечное синее небо, по которому плывут ватные, неторопливые облака. Я слежу за их формой, и мне кажется, что так будет всегда. Ничего не происходит. И в этом – вся магия. Никуда не надо идти. Ничего не надо решать. Мир сузился до этого двора, до крика петуха за околицей, до звона посуды на кухне, где бабушка стряпает свои знаменитые пирожки. Дед где-то рядом, я слышу его неторопливые шаги и спокойный, басистый голос.
Они живы. Их любовь – это не что-то абстрактное, а самый прочный фундамент этого маленького мира. Она в тарелке с только что сорванной клубникой, в починенном дедом велосипеде, в бабушкином взгляде, полном безграничной нежности.
В этом воспоминании время остановилось. Оно застыло, как тот самый дым из песни, в идеально прозрачном воздухе. Ты боишься пошевелиться, сделать вдох поглубже, чтобы не спугнуть, не развеять это хрупкое счастье. Потому что знаешь: стоит только встать – и вот оно, расплывается, тает, уходит, оставляя на языке лишь привкус лёгкой горечи и бесконечную тоску по тому, что казалось вечным.
И сейчас, спустя годы, я иногда закрываю глаза и возвращаюсь туда. В тот двор. В ту траву. В тот безмятежный покой. И на мгновение мне снова двенадцать, а они – совсем рядом.
Глава 2: Взрослые дети
Саундтрек главы: Anacondaz, Inice – Все хорошо
Мои отношения с матерью напоминали попытку построить дом во время урагана. Хватаешься за доски, а их вырывает и уносит в черную пустоту. Лишь сейчас, спустя годы, до меня дошло: она и сама в той буре была не строителем, а испуганным ребенком, пытающимся удержаться на ногах.
Она родила меня в девятнадцать. Девятнадцатилетней девочке, только вырвавшейся из-под родительского крыла, пришлось сменить свободу на пеленки и крики младенца. Ей было девятнадцать. В этом возрасте я гонял на велосипеде и думал о девчонках. А она – стирала мои распашонки и хоронила свои мечты. Я был живым символом ее заточения. Ее несбывшейся жизнью.
Конечно, ей было не до меня. Не до ласк, не до материнской нежности, которой у нее, вероятно, и в запасе не было. Мне не было и года, когда она вышла на работу, с облегчением переложив меня на бабушку с дедушкой. На своих спасителей. Я был для нее проблемой, которую нужно было решить, долгом, который висел на ней тяжким грузом. И этот груз она несла с таким молчаливым, накапливающимся годами возмущением, что в итоге оно прорвалось наружу в виде ремня и унижений. Она вымещала на мне свою несостоявшуюся жизнь. Я был тем, кто сломал ее траекторию. И она не упускала случая напомнить мне об этом.
А отец? Да что отец…
Если мать была ураганом, то отец был тишиной. Глухим, безразличным эхом в соседней комнате. Он всегда был где-то: на рыбалке, на охоте. Мама рожала меня, а он, как семейная легенда гласит, поехал на охоту. Занят был делами. Делами поважнее сына.
Практичный, конкретный, но ригидный. Он мыслил шаблонами: «Мужчина добытчик, принес еду – значит, выполнил долг». Все, что выходило за рамки этого – эмоции, воспитание, любовь – не существовало в его системе координат.
Мощная, но слепая энергия, направленная вовне – на зверей, на рыб, на друзей. Всё, что угодно, лишь бы не погружаться в сложный мир чувств и ответственности в четырех стенах.
Ему нужно было строить прочный фундамент семьи. Но его собственные действия этот фундамент разрушали. Он был строителем, который ушел с объекта в первый же день.
Он растворился так же тихо, как и появлялся. Они развелись, когда мне было четыре. Исчезновение отца было настолько плавным, что я его почти не заметил. Он и так был призраком.
А потом была другая семья – бабушка с дедушкой по отцу. До десяти лет я ходил к ним в гости. Раз в год. Может, в два. Ритуал исполнения долга. Они были чужими людьми, которые пытались накормить меня пирожками и погладить по голове, как бездомного щенка. А потом и эти визиты сошли на нет. Связь оборвалась сама собой, по взаимному безразличию.
И вот спустя семь лет, когда я был уже почти взрослым, раздался звонок на домашний телефон. Трубку взял я.
– Лёнь, – сказал голос бабушки, без предисловий и эмоций. – А что ты мне не звонишь?
И знаете, у меня возник совершенно такой же, зеркальный вопрос. Один в один. А почему «вы» не звонили? А где вы были все эти годы? Вы – взрослые. Вы – бабушка. Вы – дед. Почему инициатива поддержания связи лежала на мне, ребенке, который и дорогу-то к вам толком не помнил?
Это был момент полного осознания. Я был ничей. Я был проблемой для матери и невидимым пятном для отца и его родни.
Отец объявился снова, когда у меня родилась дочь. Видимо, заиграли дедовские чувства. Поздравил. Спустя пять дней после моего тридцать третьего дня рождения. «С днем рождения, в лесу связи не было», – написал он. Так всю жизнь в лесу и просидел.
И самое удивительное – я и не обижался. На самом деле, мне стало все равно. Чтобы обижаться, нужно было когда-то иметь что-то, что можно потерять. Нужно было знать его. А я его не знал. Он был абстрактным понятием, «биологический отец». Его запоздалое появление в роли деда было таким же эпизодическим, как и вся его предыдущая роль. Он пытался надеть маску, для которой у него не было лица.
И глядя на свою маленькую дочь, я дал себе слово. Слово, высеченное из льда их равнодушия и огня их жестокости.
Я никогда не буду для нее тишиной. Я буду самым громким и надежным звуком в ее жизни. Я никогда не буду для нее ураганом. Я буду тем самым стулом в чистом поле, на который можно опереться, чтобы смотреть вдаль, не боясь упасть.
Они, все вместе, научили меня самому главному – каким не должен быть родитель. И в этом был их единственный, уродливый, но бесценный дар.
Глава 3: Новый отец и его трещины
Саундтрек главы: Экспедиция Восход – Попытки
Когда мне было пять, в нашу квартиру, пропахшую страхом и несбывшимися надеждами, вошел чужой мужчина. Его звали Михаил. Мамина школьная любовь. Тот, кто, должно быть, остался в ее памяти как символ светлой, довоенной – в моем понимании – жизни.
Он принес с собой запах не одеколона, а нормальности. Он не кричал. Не бил. Он хорошо ко мне относился. Этой простой формулы – «хорошо относился» – было достаточно, чтобы мое сердце распахнулось. В моем личном словаре это означало: он не причиняет боли. Он – безопасность.
Я стал называть его отцом. Сначала робко, пробуя слово на вкус. Потом – с уверенностью. Для всех окружающих и для самого себя он и стал моим отцом. Он был антиподом тому призраку с ружьем, что приходил ко мне во сне. Он был здесь. Он был настоящим.
В целом мне было комфортно. Впервые за долгое время в доме появился островок стабильности. Казалось, ураган утих. Мать, возможно, на какое-то время стала спокойнее, получив то, чего хотела – свою юношескую любовь, вторую попытку.
Но нюансы, как тонкие трещины на стекле, проступили позже. И я, ребенок, считывал их на каком-то животном уровне.
Закрытый, аналитичный. Он все просчитывал, оценивал. Его доброта не была спонтанной, она была результатом какого-то внутреннего решения. Он наблюдал. Он действовал практично, ища комфорт и стабильность. Его целью было построить для себя удобную жизнь. И в эту жизнь входил и я – как часть пакета соглашения с моей матерью.
Самая главная трещина проявилась в моменты материнского гнева. Когда она «драла» меня, он не заступался. Не вставал между мной и ее яростью. Его позиция была не нейтральной – она была молчаливо одобряющей. А позже, в самые страшные моменты, я уловил самый чудовищный нюанс: он мог подать ей ремень. Этим жестом он из наблюдателя превращался в соучастника. Он не был инициатором, но он был пособником, обеспечивающим орудие пыток. Его молчание было громче любого крика.
Он был не тираном, а конформистом. Его доброта была удобной, она существовала до тех пор, пока не вступала в конфликт с его личным комфортом и отношениями с матерью. Я был ему не сыном, а частью ландшафта ее жизни, с которым приходилось мириться.
Позже, когда у них родилась моя сестра, эти трещины стали видны всем. Их брак дал сбой. Михаил запил, и его образ «нормального мужчины» рассыпался, обнажив слабость, которую я интуитивно чувствовал все эти годы. Он вел себя как «скотина», и мне снова стало одиноко. Я снова почувствовал себя чужим на этом празднике чужой жизни. Теперь у них была своя, настоящая, кровная семья. А я был довеском, напоминанием о ее неудачном прошлом.
Но именно тогда, благодаря сестре, между нами появилась странная, тонкая связь. Я был для нее не чужим братом, а просто братом. И через ее чистое, детское восприятие Михаил стал смотреть на меня не как на проблему, а как на часть ее мира. Это не сделало нас близкими, но сгладило остроту одиночества.
Он был моим отцом ровно настолько, насколько это было легко. И перестал им быть, когда потребовалось проявить силу и защитить. Он дал мне урок, который я усвоил на всю жизнь: пассивность в ситуации насилия – это тоже форма жестокости. И когда я давал себе слово никогда не поднимать руку на своего ребенка, я давал его и против этой пассивности. Я обещал быть стеной, а не наблюдателем у стены.
Глава 4: Урок стыда
Саундтрек главы: KAPRANOV – ХОЛОД
В седьмом классе мир делится не на отличников и двоечников, а на тех, кто в теме, и тех, кто – нет. Я пытался занять хоть какое-то место в этой хрупкой иерархии. Не лидера – просто своего.
И вот я снова «зарос двойками». Утром мать проверила дневник. Внутри была знакомая свинцовая тяжесть страха. Но на этот раз наказание было иным – медленным, растянутым на целый день и куда более изощренным.
Она не кричала. Она сказала спокойно, с ледяным ударом в самое больное место:
– Я всю жизнь ходила в рванье. А ты живешь и ничего не ценишь. Поэтому одевай старую куртку, лисию шапку, валенки и пиздуй в школу.
Это был не просто запрет. Это был костюм позора, сшитый специально для публичной казни. Старая куртка – потертая, немодная. Линялая шапка – сползающая набок, с катышками. Валенки – в седьмом-то классе!
Я был в лютом отчаянии. Этот страх пересиливал даже страх перед матерью – страх быть изгоем. Я шел в школу, и мне казалось, что каждый прохожий видит не меня, а мое унижение.
Михаил. Мужчина, которого я называл отцом. Он слышал все. Видел мое лицо, по которому ползли слезы стыда. И он… ничего не сказал. Ни слова в мою защиту.
Он молча вручил мне этот комплект. Молча. Этим жестом он сказал мне все: «Да, я согласен. Ты заслужил это унижение».
Я одевался, и валенки казались гирями на ногах. Лисяя шапка жгла голову, будто изнутри ее начинили раскаленным стыдом.
К счастью, никто ничего не заметил. Или сделал вид. Это была самая горькая пилюля – понимание, что все всё прекрасно понимают. Знают, какая у тебя мать. Знают, что ты бесправный пиздюк.
А потом были эти истерики. Когда мать начинала орать так, что стекла дрожали. Окна были открыты настежь. Я сидел на лавочке с друзьями, а ее голос, визгливый и полный ненависти, плыл над всем двором. Я горел со стыда.
Как-то раз я попытался до нее достучаться:
– Мам, я сидел на лавочке, и все всё слышали.
Ее ответ был отточенным оружием:
– У всех так в семьях происходит! И вообще, не надо меня доводить!
В ее картине мира всегда находился кто-то, кому было хуже. А раз так, то мои страдания были незначительными. Мне не только запрещали чувствовать боль – мне запрещали чувствовать стыд за ее поведение.
Но я-то видел другие семьи. Видел матерей, которые встречали детей с улыбкой. Видел отцов, которые шутили. Я видел, что по-настоящему «у всех» – не так.
И в тот день, в старых валенках и линялой шапке, я усвоил еще один урок. Жестокость бывает не только физической. Есть жестокость, которая бьет по личности. И самое страшное в ней – это попытка убедить тебя, что ты заслужил это право быть униженным.
Глава 5: Водка
Саундтрек главы: Ермак! – Что в суете седых развалин
Есть вещи, которые не стираются. Они врезаются в память, как ржавый гвоздь. От некоторых воспоминаний меня до сих пор бросает в жар.
Трезвый Михаил был одним человеком. Но стоило алкоголю развязать ему язык, как наружу выползало нечто отвратительное.
Я помню, как он, пьяный, предлагал моей тете – младшей сестре мамы – пососать его хуй. Говорил ей, ухмыляясь пьяной ухмылкой: «Он как чупа-чупс». Эта фраза навсегда врезалась в меня как символ его внутреннего уродства.
А был еще случай. Приехал его брат. Они шли по улице, и я – с ними. И вместо мужской беседы они на всю улицу, гогоча, начали рассказывать друг другу, как классно ебаться. Их «мужская братская связь» свелась к примитивному сравнению похождений.
Мне было семь или восемь. Я видел картинки, слышал слова, но мозг ребенка не мог сложить их в схему под названием «моральное разложение». Я просто чувствовал: это – плохо. Стыдно. Противно. А весь масштаб этого днища я осознал гораздо позже.
Эти эпизоды научили меня главному: характер человека виден не в его лучшие моменты, а в самые худшие. Когда с него слетает лак цивилизации, обнажается либо стержень, либо гнилая пустота. Он показал мне, как выглядит мужчина без стержня. И в этом был его последний урок.
Этот страх был другого сорта. Не тот, острый и чистый, перед свистом ремня. Этот – густой, как смола. Липкий. Удушливый. Он вползал в квартиру вместе с ним, с Михаилом, и разливался по всем комнатам, вытесняя воздух. Он приходил с работы «на рогах». Это было не просто пьянство. Это было превращение. Из более-менее вменяемого мужика – в пьяное, злое животное. И начиналась хуйня. Мать заводилась сразу. Её голос, всегда такой острый и уверенный, срывался на визг. Он в ответ – на рык. Они орали друг на друга, два сцепившихся демона, а я, восьмилетний пацан, сидел в своей комнате и слушал, как рушится хрупкий мир, который я называл домом. Я боялся, что он ударит её. Это было самое страшное. Эта мысль прожигала мозг, как раскалённая игла. Я не мог сидеть сложа руки. Я выходил в коридор. В эпицентр войны. – Мама права! – кричал я, вставляя свои пять копеек, пытаясь быть голосом разума, голосом справедливости. – Ты был не прав! Меня не слышали. Вообще. Мой голос был писком мыши под грохотом поезда. Они проносились мимо меня, два урагана, не замечая. Но один раз… Один раз всё зашло слишком далеко. Воздух накалился до предела, стал густым и едким. Я почувствовал – щелчок. Сейчас произойдёт что-то ужасное. Непоправимое. И этот страх за мать пересилил всё. Пересилил даже животный ужас перед ним. Во мне что-то сорвалось. Я сделал шаг вперёд, сжав кулаки, и закричал. Не просто закричал – выкрикнул, выплеснул всю свою ярость, всю свою беспомощность, весь свой детский ужас в одном-единственном слове. В самом страшном слове, которое знал. – ТЫ ЧЁ, УРОД?! Повисла тишина. На секунду. Густая, звенящая. Два урагана остановились и посмотрели на меня. На мальчишку, который посмел. Михаил медленно повернул ко мне своё пьяное, перекошенное лицо. Его глаза были стеклянными. Он смотрел на меня не как на сына. Даже не как на человека. Как на помеху. Как на дерзкого щенка. Он не крикнул. Не двинулся с места. Он просто сказал. Тихо, с противным, спокойным презрением, которое обожгло сильнее любого крика: – За урода… ты мне ещё ответишь. И тогда случилось неожиданное. Он… вышел. Просто развернулся и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Словно моё слово, этот детский крик, оказалось тем самым спусковым крючком, который сбросил давление. Выпустил пар из котла. И в этой внезапной, оглушительной тишине, пахнущей перегаром и слезами, я подошёл и обнял маму. Она плакала. А я, восьмилетний, стоял и держал её. Впервые в жизни я был не жертвой, не наблюдателем. Я был защитником. Пусть на пять минут. Пусть ценой угрозы, которая повисла между мной и ним на долгие годы. А на следующий день они помирились. Я ещё спал, когда в комнату зашла мама. Она разбудила меня. – Лёнь, пора вставать. Иди, попроси прощения у папы. У меня в голове что-то короткнуло. Мир перевернулся. – Какое прощение? За что? – Ну, ты же вчера назвал его некрасиво, когда мы поругались. Я просто охуел. В прямом смысле этого слова. Мозг отказывался складывать эти слова в логическую цепь. Извиниться? За то, что заступился за неё? Надо было, чтобы он её отпиздил до смерти, что ли? Я понимал, о чём она меня просит. И понимал, что это – пиздец какая несправедливость. Самая чудовищная несправедливость из всех, что я до сих пор познал. Она взяла меня за руку и привела в их комнату. Он лежал, подыхая с похмелья, бледный, с запахом смерти и вчерашнего перегара. Мама легла рядом, обняла его бренное тело и сказала, кивнув в мою сторону: – Ну, давай. Я стоял у кровати и смотрел на это представление. На двух взрослых людей, которые требовали от меня, восьмилетнего, покаяния за попытку остановить их безумие. Я нехотя выдавил, глядя в стену: – Папа, прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Он тошно, еле-еле, прохрипел, не открывая глаз: – Ну… всё. Иди. И я пошёл. В свою комнату. В полном, тотальном, оглушающем ахуе от этой чудовищной несправедливости. В тот миг во мне что-то сломалось окончательно. Родилась не просто обида. Родилось глубинное, выстраданное знание: мир – это пиздец. А справедливость – это сказка для лохов. Взрослые не просто несправедливы. Они – лицемерны, слабы и готовы слить твою правду, лишь бы сохранить свой хрупкий, вонючий мирок. И я отвечал. Всю свою жизнь. Каждой своей обидой, каждым невысказанным словом, каждым пробитым в отчаянии кулаком. Я платил по тому, старому, восьмилетнему счёту. Но в глубине души я всегда помнил тот вечер. Помнил, как хлопнула дверь. И как я, совсем ещё ребёнок, смог на время остановить ад. Всего одним словом. И я помнил утро. То самое утро, которое научило меня главному: твоя правда никому не нужна. Твоя защита – ошибка. А твоё место в этой системе – на коленях, с извинениями на устах, перед тем, кого ты вчера назвал уродом.
Глава 6: Ботинки на вырост
Саундтрек главы: ГРАНЖ – Всё переменчиво
Мой мир не был черно-белым. Не был он и сплошной серой полосой. В нем были и другие цвета. Теплые, пусть и неяркие. Игнорировать их – значит солгать самому себе и обесценить те редкие моменты, когда сквозь трещины в семейной крепости пробивался свет.
Вспоминая ту самую лисью шапку и валенки как орудие наказания, я не могу не вспомнить и другие ботинки. Зимние, крепкие, новые. Пахнущие не чужой бедностью, а заводской кожей и заботой. Мне их подарили на день рождения. Они были на размер больше. На вырост. И я это прекрасно понимал.
Я видел, как родители считают копейки, как мать прикидывает в уме, на что хватит зарплаты. Я понимал, что эта покупка – не просто подарок, это стратегическое вложение, планирование бюджета на целый сезон вперед. Они старались как могли. В их системе координат, в их понимании заботы это и была любовь – практичная, экономная, приземленная.
И получалось так, как получалось.
Я шел в этих ботинках, и они слегка шлепали на подъеме. Но они были новые. Мои. И куплены они были не для позора, а для тепла. Не для того, чтобы меня унизить, а чтобы я не замерз.
В этом и заключалась вся сложность моего детства. В его дуализме. В нем было все одновременно.
Одна и та же мать, которая могла устроить истерику на весь двор, могла часами стоять у плиты, чтобы накормить меня моими любимыми блинчиками.
Один и тот же отчим, молча подававший ремень, мог молча же починить мой велосипед.
Они не были монстрами. Они были сломанными, незрелыми, травмированными людьми, которые, как и все, хотели какой-то простой, нормальной жизни. Но их собственные демоны, их нереализованность и обиды постоянно брали верх над их же попытками быть «нормальными».
И я, ребенок, жил в этом постоянном маятнике.
От подарка на день рождения – до публичного унижения.
От молчаливо починенного велосипеда – до молчаливо поданного ремня.
Любовь в той семье почти всегда приходилась не по размеру. Она была либо слишком большой и удушающей в своей ярости, либо слишком маленькой, болтающейся на душе, как те самые ботинки на вырост. Ее всегда было или слишком много, или слишком мало. Ровно столько, чтобы не замерзнуть, но и не согреться по-настоящему.
И, возможно, именно эта двойственность стала для меня главным уроком. Она научила меня видеть оттенки. Не делить людей на «плохих» и «хороших», а понимать, что в каждом есть и свет, и тень. А еще – ценить те самые, простые и теплые моменты, потому что в их основе, пусть и криво, пусть и косо, но лежало желание позаботиться. Как умели.
Глава 7: Очкара
Саундтрек главы: Brutus – Bird
В детстве у меня была соседка Гуля. Мы с ней дружили, что не мешало мне считать её заносчивой, капризной зазнайкой и называть её в лицо «Очкастой Дурой», она кстати очень похожа на персонажа из серии фильмов о Гари Поттере – «Плаксу Миртл». Мы не враждовали. Мы даже играли вместе. Забирались на чердак старой стайки, пахнущий пылью и тайнами. И именно там, в третьем классе, в полумраке, пропахшая сеном, она мне её показала. Мы с детским, не испорченным любопытством разглядывали, как всё устроено. Сейчас вспоминать – и смешно, и дико. Но при этом она меня дико «раздражала». Как личность. Гуля Дурова. Очкастая, с завышенным ЧСВ, капризная. И я, пацан с нашего двора, не стеснялся говорить ей это в лицо. «Очкастая Дура» – это было не прозвище за спиной. Это было прямое определение, ярлык, который я вешал на неё при каждой возможности. Я не просто думал, что она «мелкая, противная пизда» – я ей это демонстрировал.
Ирония судьбы, как выяснилось, – мастерская бумерангов. Спустя годы я и сам облачился в очки. Мы получаем всё, что сами даём этому миру. Рано или поздно. Получаем сполна.
Потом наши пути разошлись. А спустя годы, уже на третьем курсе универа, я увидел её на улице. В компании двух парней. Мы просто поздоровались. Прошли мимо. И всё. Позже, конечно, до меня дошли сплетни. Про общагу. Про то, что её там, цинично говоря, «по кругу пускали». Кто-то собирал эти слухи, как марки, пересказывал с похабным смешком.
Но знаешь, что я понял? Я осуждаю не её. Каждый в праве распоряжаться своим телом и своей жизнью как хочет. Я осуждаю тех, кто эти сплетни собирает.
Эта история – мой личный бумеранг. Он улетел в виде откровенных оскорблений, а вернулся в виде очков на переносице и горького осознания: в детской жестокости нет полутонов. Ты либо травишь человека в лицо, либо нет. Я – травил. И это уже не исправить. Можно только признать. И постараться быть лучше сейчас.
Глава 8: Чёрный
Саундтрек главы: CARDIO KILLER – FAKE
В четвертом классе к нам перевёлся мальчик по имени Саша Гальцев. Он был смуглым, как цыган, или, как сейчас бы сказали, – латинос. Но в нашем дворе не было таких слов. Его тут же окрестили «Чёрным». И это прозвище было единственным, что в нём хоть как-то соответствовало образу «плохого парня». Потому что сам он был не крутым и не опасным. Он был «гнилым».
Классным задирой, который получал удовольствие, чувствуя своё мнимое превосходство. Он задирал всех, обижал и бил, не брезгуя даже девочками. И делал это с каким-то мелким, ничтожным сладострастием.
Леха Тихий, уже будучи в тридцатилетнем возрасте, как-то вспомнил о нём и выдал с ледяным спокойствием:
– Я бы ему в рот насрал.
И я бы, знаете, с удовольствием помог.
Потому что это не детская обида. Это – «поздняя реакция нормального человека на ненормальное поведение». На ту самую, неприкрытую гниль, которую в себе не носил.
Но спустя годы, глядя на ту историю из сегодняшнего дня, я понимаю: мне его жалко. Искренне жалко. Я уверен, что родители его «пиздели» даже за сам факт его существования. Его жестокость была не силой. Она была криком. Плевком в мир, который его не любил и, скорее всего, не принимал с самого начала.
Он был не монстром. Он был «симптомом». Симптомом той системы, того окружения, той семейной ямы, которая производит на свет таких вот «Чёрных» – несчастных, озлобленных детей, которые не умеют ничего, кроме как сеять вокруг ту же боль, что живёт внутри них.
И от этого осознания не становится легче. Просто зло перестаёт быть абстрактным. Оно обретает причину. И становится от этого ещё противнее.
Глава 9: Школьный рок-квартет
Саундтрек главы: Гости Гаррисона – Обещай
Пыльный школьный спортзал пах старым деревом и пылью. Но для нас он пах свободой. Именно там, в углу, куда никто не заглядывал после уроков, родилось наше братство. Наш «Квартет».
Я, Лёня Попов, – гитара. Леха Тихий – бас. Витя Мягков – вокал. Яша Сомов – барабаны. Мы были разными, но нас сплавила воедино музыка. Вернее, не сама музыка, а то, что она в нас пробуждала – ощущение, что мы можем всё. Что мы не просто четверо пацанов из захолустья, а творцы своего мира.
