Подарок из прошлого
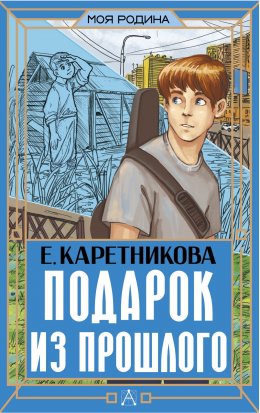
Серия «Моя Родина»
© Каретникова Е. А., 2025
© Крашенинникова С. А., ил., 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Глава первая
Лис. 2021 год
Лису было больно. Он сжал зубы, стиснул кулаки, впиваясь ногтями в ладони, и зажмурился. Но это не помогло. Боль не ушла и даже не стала слабее. Ни капельки.
Лис судорожно сглотнул и застонал. От этого звука тишина, будто склеенная из сотен разных пластинок, затрещала по швам, звякнула и разлетелась. Мелкие осколки рассыпались в пыль, а крупные превратились в фальшивые ноты и зависли над головой. По крайней мере, так представилось Лису. У него вообще было воображение хоть куда. Ему об этом говорили чаще, чем называли по имени. Потому что своё имя Лис не любил, а о придуманном рассказывал многим. Не обо всём, конечно, а о том, что можно было нарисовать или превратить в простую мелодию. Сложные мелодии Лис тоже не любил. Может быть, из-за того, что не мог сыграть их на гитаре.
Эту гитару принёс дядя Вольдемар. Приехал на еле ползущей белой «копейке», припарковался под балконом. Вместо привычного вафельного торта или пакета с конфетами в шуршащих обёртках достал с заднего сиденья чёрный кожаный чехол. Лису чехол сразу показался живым, но очень старым и уставшим от передряг. С него сыпалась бурая крошка, а застёжка-молния скрипела не хуже несмазанных дверных петель.
Вынутая из чехла гитара смотрела на Лиса пустым круглым глазом и жалобно щерилась декой без струн. Но его не обманула. Он с первой секунды понял, что это за инструмент.
– Зачем вы, дядя Вольдемар? – задыхаясь от восторга, прошептал Лис.
– Тебе жить, – кривовато улыбнулся дядя Вольдемар. – А я всё равно не могу.
И будто сомневаясь, пошевелил длинными пальцами, с выпирающими на сгибах косточками.
– Пропил я свои песни, Елька.
Лис хотел было сказать, что у дяди Вольдемара всё ещё впереди и пальцы отойдут непременно. Но посмотрел на осунувшееся лицо с рыжеватой щетиной, на глаза в красных прожилках и промолчал. Это кому другому, а дяде Вольдемару врать не нужно. Ни для приличия, ни из вежливости. Он любую неправду за версту чует. А уж Лисову – за десять вёрст. Зря, что ли, он был лучшим другом отца? До самого последнего дня.
В общем, Лис не стал ничего говорить, а взял гитару и утащил к себе в нору. То есть в комнату-спальню, где одна стена была завешана плакатами и фотографиями, а вдоль второй (напротив) стояла его кровать с цветастым покрывальцем. Лис только смотреть телевизор уходил в большую, общую с матерью и сестрой, комнату. А жил здесь.
Через неделю гитара блестела прозрачным лаком и серебряно тренькала новыми струнами. Теперь Лис мог, разминая сухие мозоли на пальцах, подбирать аккорды и осторожно проверять их голосом. Сначала гитарным, потом своим.
По вечерам он ещё колдовал то над колками, то над порожками, но скорее для удовольствия, чем по необходимости. Гитара и так звучала. Это ясно было не только Лису. Это понимал каждый, кто слышал рассыпавшиеся из-под Лисовых пальцев звуки.
Лис перевёл дыхание и слизнул кровь с губы. Вот и всё. Ещё секунда или минута, и самое страшное случится. А после этого ни Лис, никто другой не смогут ничего исправить. Даже если очень захотят и будут готовы заплатить нешуточную цену. То есть Лис и сейчас готов был заплатить. Но того, что он мог отдать, у него не брали. Им это было не нужно. Им просто хотелось отомстить. И даже не Лису. Или не только Лису. Но отомстить – обязательно. Жестоко, унизительно и непоправимо.
Лис даже не услышал, а почувствовал, что гитару сжали чужие руки. А потом и услышал, конечно. Струны зазвенели вразнобой, будто не понимая, чего от них хотят. У Лиса гитара не фальшивила. Раз в неделю он подкручивал колки – но чуть-чуть, для поряд– ка. А сейчас струны пели каждая сама по себе. Да и не пели они. Скорее – вскрикивали.
Лис выдохнул ставший сухим и горячим воздух и открыл глаза. Что он мог сделать? Один, со связанными за спиной руками и разбитым в кровь ртом? Ни-че-го. Он всё понимал. Но почему-то ему показалось, что если глаза останутся зажмуренными, это будет предательством.
Чужие руки не просто держали его гитару. Они подняли её над каменными ступеньками и медленно покачивали на весу.
– Десять, девять, восемь…
Лис безнадёжно рванулся вперёд и вдруг почувствовал, что верёвки на запястьях обмякли. Он на мгновенье застыл, а потом пошевелил руками за спиной не просто от бессильного бешенства, а осмысленно. Верёвка скользнула вниз. Лис осторожно посмотрел на ведущего обратный отсчёт. Тот был увлечён своим занятием на все сто. То ли упивался безраздельной властью над Лисовой гитарой, то ли с трудом вспоминал следующие по убыванию цифры. Поэтому на Лиса он не смотрел и его освободившихся рук не заметил.
– Семь, шесть, пять…
Почему-то монотонно повторяющиеся звуки голоса напомнили Лису стук метронома. Как будто издававший звук не был живым существом. Как будто если в его груди и билось сердце, то механическое. А раз так, то просить обладателя этого механического сердца о чём бы то ни было – бесполезно и глупо.
– Четыре, три, два…
Лис и не стал просить. Он, конечно, был меньше ростом. И у'же в плечах. Но сейчас ему было на это абсолютно наплевать.
– Оди…
Окончания счёта Лис дожидаться не стал. Он оттолкнулся руками, ногами и всем, чем мог, чтобы взлететь со стула как можно дальше. И ухватиться руками за гриф с ювелирно подточенными порожками. А потом в последний раз поднять гитару, пока она ещё не стала лакированными щепками, и изо всех сил отшвырнуть вниз. К первым ступенькам крутой каменной лестницы. Своими руками. Потому что спасти гитару от чужих Лис не мог. Это он тоже знал. Точно.
Гитара упала с глухим стуком, будто и не гитара, а так… И в самом деле гитарой быть перестала. Превратилась в тонкие щепки, палку-гриф и бесформенный шалашик деревях. По крайней мере так показалось Лису.
Острая боль вспышкой дёрнулась внутри Лиса, и её пламя охватило всё: сердце, голову, плечи. Лис пошатнулся и, не удержав равновесие, покатился по ступеням вслед за гитарой.
– Псих! – выкрикнул тот, кто вёл обратный отсчёт. – Псих ненормальный!
В голосе почему-то явственно звенели слёзы. Лис успел удивиться на лету, а потом падение прервалось, и он перестал соображать окончательно.
Лежал головой на нижней ступеньке и смотрел на то, во что превратилась его гитара.
Если бы он сумел, то, наверное, завыл. Но в горле было так сухо и терпко, что ни один звук не мог прорваться наружу. И Лис молчал. Молчал и больше ничего.
Глава вторая
Гришка. 1944 год
Не было ничего. Ничего, кроме снега, ветра и влажного шерстяного платка, наползающего на глаза. Из-за него Гришка видел только утоптанную чужими валенками дорогу и юбку матери, медленно шагающей впереди.
Концы платка, завязанные тугим узлом на спине, мешали дышать. Правда, может, дело было не в них, а в том, что Гришка устал до тошноты, ноги разъезжались на скользком насте и морозный ветер бросал в лицо горсти колючих снежинок. Может быть, это ветер не давал как следует вздохнуть. Или усталость. Или снежинки. Но Гришке казалось, что платок мучает больше всего. Он его ненавидел. Ненавидел так, что решил избавиться непременно. Вот только зима закончится.
Зимой Гришка уничтожить платок не мог. Потому что мать заметила бы это в тот же день или на следующий. Она, скорее всего, даже не ругала бы Гришку. В последнее время она вообще разучилась ругаться. Мать посмотрела бы покрасневшими слезящимися глазами и отвернулась. А потом не говорила бы Гришке ни слова несколько дней.
Это очень страшно, когда с тобой так долго не разговаривают. Страшнее даже, чем когда кричат или хлопают по затылку скрученной в трубку газетой.
Вообще-то газетой Гришку никто по затылку не бил. Но он видел, как отец Мишки Фролова замахнулся на сына, когда тот заныл, что не будет нянчить годовалую сестрёнку, а пойдёт с ребятами на горку. Отец только замахнулся, не ударил. Но Мишка сразу сник и поплёлся к сестрёнкиной кроватке.
Мишка был лучшим другом. И единственным. Он делился с Гришкой хлебом и сливочным маслом. От этого масла их обоих подташнивало. Но больше-то всё равно ничего не было, а есть хотелось так, что кишки скручивались в тугие жгуты и слюни закипали во рту.
Мишкин отец работал на маслозаводе. И Мишкина мать. И почти все, кто остался в посёлке и мог работать. Кроме Гришкиной мамы. Она бы тоже устроилась на маслозавод, если бы её взяли. Ведь там давали паёк. И масло, и обрат[1]. Но её почему-то не взяли. Только изредка, когда требовались лишние руки, начальник второго цеха заглядывал вечером на их двор и коротко цедил:
– Ангелина, выходи!
На следующий день мать вскакивала ни свет ни заря и убегала. Гришка оставался один – сам себе хозяин. Чистил картошку, подметал комнату, даже кулеш[2] как-то раз сварил, когда мать оставила две горсти пшена и кусочек сала. Хороший был кулеш, нажористый. Только мать потом ворчала, что пшена можно было бы и поменьше положить, а воды налить – побольше.
Гришка, чем хозяйствовать, лучше бы к ребятам сбегал, но к февралю у него развалились валенки. Мать за голову схватилась, увидев серые ошмётки войлока. Собрала что-то в узелок и пошла к Митричу, который валенки валял. Вернулась скоро. Вещички из узелка назад в комод сунула, слёзы вытерла и бросила Гришке на колени свёрток.
– Носи! Пожалел Митрич тебя, сироту. Даром отдал.
– Я не сирота! – возмутился Гришка. – Папа вернётся! Он обещал!
Мать горько усмехнулась.
– И не буду я эти валенки носить! – пробурчал Гришка. – Мне подачки не нужны. Папа мне сапоги купит. Хромовые.
– Ишь, гордый! – вздохнула мать. – Весь в отца. Подачки ему не нужны. А ходить босиком по снегу будешь?
Гришка почувствовал, что его будто волна подхватила.
– Пусть босиком! – прокричал он. – Или вообще не буду.
Вообще не выходить не получилось. Школу никто не отменял, и снег во дворе чистить кроме Гришки было некому. Но он решил твёрдо – будет те валенки надевать только при крайней необходимости. А весной вернёт их Митричу почти новыми. Чтобы тот не думал, чего не надо, и Гришку не жалел.
Про отца Гришка знал точно – вернётся. Не может не вернуться. За все свои одиннадцать лет Гришка ни разу не слышал, чтобы отец что-то пообещал и не выполнил. Если не был уверен – не обещал, говорил: «Посмотрим». А про то, что вернётся, сказал точно.
Зря мать сомневалась. Хотя, конечно, ей было тяжко. Когда почтальон принёс письмо, в котором чёрным по белому значилось, что отец пропал без вести, она будто онемела. И глаза у неё стали тусклыми, и в волосы серебряные нитки вплелись.
Им перестали платить по отцовскому аттестату, и с продуктами стало совсем туго. Мать ходила в соседнее село, меняла какие-то вещи на муку и картошку. Гришка удивлялся, что у неё ещё что-то осталось.
Они приехали в этот посёлок в первые дни войны. Собирались спешно, вещей взяли мало. Из игрушек Гришке разрешили забрать с собой только старого медведя. Медведь был с кривыми лапами и вытертой до лысин плюшевой шерстью. Зато самый любимый. Гришка спал с ним, когда был маленьким, и даже теперь разговаривал с медведем, когда мать долго не возвращалась и на душе скребли кошки. С теми кошками медведь справлялся легко. Стоило ему посмотреть глазами-бусинками, и Гришке становилось веселей.
В этот посёлок командировали отца, поэтому семья и переехала. Но уже через месяц его вызвали в Москву. Без семьи. Гришка толком не понял почему. Вроде бы в какую-то школу. Отец уехал, а они с матерью остались. В чужом посёлке. В чужом доме, притулившемся у восточной окраины. Этот дом к февралю заносило по самую крышу.
Гришка мечтал, что отец вызовет их в Москву. Но он не вызвал и в посёлок не вернулся. Написал, что уходит на фронт, что вернётся непременно, а пока пусть Гришка остаётся за хозяина, бережёт мать и не куролесит. Гришка честно не куролесил. Ну почти.
А от отца больше писем не было.
С тех пор прошло три года, но Гришка не верил, что отец погиб. И мать, Гришка точно знал, не верила. Она иногда по вечерам, когда думала, что Гришка спит, даже разговаривала с отцом. Первый раз услышав, Гришка испугался, а потом ничего, привык.
Гришка вздохнул, облизал пересохшие губы и прибавил шаг.
Снег под ногами стал желтоватым. Это значило только одно – дом совсем рядом. Почему-то последние метры дороги отливали желтизной, будто кто-то пролил краску, а та выцветала, впитывалась в снег, но так до конца и не выцвела.
Мать приподняла щеколду, толкнула калитку. Гришка привычно проскочил в палисадник, но вдруг в груди тревожно ёкнуло. Сначала он даже не понял почему. Только слегка задержался, дожидаясь мать.
Та заперла калитку и пошла к дому, удивлённо глянув на Гришку:
– Не спешишь? Или не замёрз?
Гришка дёрнул плечом. Тревожный холодок не пропал, даже стал ещё льдистее и острее.
У дома мать потянулась за ключом. И замерла.
– Гриша! – прошептала одними губами. – Беги к Фроловым!
И вот тогда Гришка понял. Входная дверь была не заперта. Он охнул и тише тени метнулся назад к калитке. Только бы успеть!
Вот почему ёкнуло сердце – снег в палисаднике белел неровно, словно метлой заметён.
Гришка выскочил на дорогу.
– А-а-а!
От крика тишина треснула, будто перетянутая парусина. Гришка изо всех сил вцепился в острую жердину в заборе. Рванул, руки обожгло, но жердина выскочила из снега, обломанная на конце. Гришка перехватил её половчее и помчался к матери. Он не думал, что нужно бежать прочь, что бандиты, засевшие в доме, убьют их с матерью обоих. Он летел с жердиной наперевес и с воплем, застрявшим в горле.
– Стой!
Мать сидела на снегу. А к ней от дома хромал высокий военный. Лейтенант – понял Гришка через секунду. Отец – понял он через две.
Глава третья
Лис. 2021 год
Первые минуты после падения Лис ничего не слышал. Как будто его голова попала в мешок с ватой, и в этой вате наглухо застревали все звуки, жившие снаружи. Но через какое-то время он различил голос. Мальчишеский, хриплый, срывающийся от ужаса.
– Макс, этот псих разбил гитару! И сам тоже! Ага, с лестницы. Нет, не шевелится. Что? Я виноват? Ты… Ты – гад! Ты обещал, что он просто побудет у нас. Что когда ты выиграешь свой поганый конкурс и получишь свои поганые деньги, мы отвезём его обратно. И всё! Всё! А он лежит! И не шевелится. И не дышит…
Голос умолк, но раздались резкие вздохи или всхлипы – Лис точно не понял.
Он ещё немного полежал и поднял голову. Тот, кто вёл обратный отсчёт, сидел на верхней ступеньке лестницы с мобильником в руке и плакал. От изумления Лис забыл, что разбился, и сел.
Мальчишка с мобильником всхлипнул в последний раз и уставился на Лиса. Так они смотрели друг на друга минут пять. Смотрели и молчали, будто в гляделки играли. Лис успел заметить, что мальчишка, хоть и был намного выше него и шире в плечах, но выражение лица у него было совсем ребячье. Как у десятилетнего.
Лису стало смешно. Чего реветь взрослому парню? Даже если Лис бы разбился по-настоящему… Они же сами хотели чего-то такого. Да, Лис не знал точно – чего именно. Но понятное дело, не на партию в настольный теннис его сюда привезли. И не на вечер воспоминаний с костром, чаем из котелка и песнями под гитару.
От слова «гитара», произнесённого пусть и мысленно, у Лиса тоскливо заныло в груди, а в пальцах пробежали мурашки, мелкие и ледяные. Нет у него больше гитары. И, скорее всего, не будет. Лис подозревал, что у него ничего теперь не будет. Интересно, тот, кто придумал отправить его сюда, мог хотя бы предположить, чем закончится эта поездка? Вряд ли.
А вот сам Лис как будто чувствовал. Чем ближе был день отъезда, тем сильнее ему не хотелось ехать. Его никто не понимал. Ни мать, ни друзья, ни Алёнка Званцева. Если можно уехать из пропахшего пылью и бензином летнего города на берег моря, глупо отказываться.
Лис пытался объяснить, почему он лучше бы остался дома. Не матери, конечно, и не Алёнке – себе. Но ничего путного у него не получилось. Умом ему хотелось увидеть море, побродить по прогретому южным солнцем песку, найти обточенный волнами камушек с дыркой посередине. И в конце концов, первый раз в жизни окунуться в солёную сине-зелёную воду. А потом чтобы волны тащили от берега, но не с опасной силой, а так – понарошку. И чтобы солёные брызги летели во все стороны, попадая в рот и в глаза, а он бы только щурился и улыбался этим брызгам, сверкающим на солнце последние секунды перед тем, как разбиться. Или превратиться в слезинки на его, Лисовых, щеках.
Он никогда бы не получил бесплатную путёвку, если бы за этот год не случилось столько всего, что с избытком хватило бы лет на десять.
Самое страшное произошло осенью. В сентябре, когда Лис перешёл в новый класс и едва успел запомнить, как зовут одноклассников.
Домой позвонили с отцовской работы. Трубку снял Лис. Какая-то женщина, шмыгая носом и заикаясь, сказала Лису, что его отец умер. Лис сначала не понял, потом решил, что это идиотская шутка. И только потом, когда через пятнадцать минут позвонил дядя Вольдемар, Лис поверил.
Это было очень страшно. Как будто Лис остался один на краю пропасти.
Потом… Потом были похороны. И поминки, на которых в маленьком кафе, снятом отцовскими начальниками, собралось много незнакомых людей. Они говорили, что отец Лиса был не таким, как все. Что люди, подобные ему, рождаются раз в десять лет. Или даже в сто. А ещё они говорили, что лучшие уходят первыми. И при этом смотрели друг на друг с растерянным торжеством. Лис отчётливо читал в этих взглядах, что на самом деле говорившие думают по-другому. Ведь они-то не ушли первыми. А разве они – не лучшие? Разве кто-то может сомневаться?
Сначала за столом разговаривали почти шёпотом. Потом – вполголоса. Но через пару часов гул голосов заглушал всё. Лица у поминавших раскраснелись. Лису показалось, что ещё чуть-чуть, и кто-нибудь затянет «Ой мороз-мороз!». А потом предложит продолжить в караоке-баре.
У Лиса разболелась голова, и в глаза будто насыпался песок. Откуда песок? Почему? Лис с трудом соображал и только молча смотрел на мать, застывшую на стуле рядом с фотографией отца. На фотографии отец смотрел, прищурившись, и как будто собирался рассмеяться. От этого его выражения лица Лису хотелось завыть. Или ударить кого-нибудь из деловито гудевших, жравших и пивших мужиков и тёток. Но он не завыл и не ударил. Он встал из-за стола и молча вышел на улицу.
На улице шёл дождь. Монотонный, серый, выбивающий круглые пузыри в лужах. У Лиса, конечно же, не было зонтика, и он сразу промок. От макушки до пяток. Он шёл домой пешком в насквозь мокрой одежде и вслух повторял любимое отцовское стихотворение. Про чаек над серыми волнами и кильватерный след, уходящий к горизонту. Идти пришлось долго – часа полтора. Но Лис не простудился. Первый раз в жизни так вымок под осенним дождём и не заболел. Слишком сильно его жгло изнутри.
Лис вдруг как-то сразу решил, что остался за старшего. А раз так – нечего отсвечивать в школе, нужно устраиваться на работу. Он ничего на рассказал матери, но в первый же понедельник остался дома. И до вечера просидел с ноутбуком, выискивая сайты с вакансиями. Ничего подходящего для четырнадцатилетнего мальчишки на тех сайтах не было, но Лис кое-что придумал. Нужно было только найти человека, которому можно довериться. Чтобы, получая деньги по своему «совершеннолетнему» паспорту, не оставил Лиса ни с чем.
О том, что Лис не пошёл в школу, мать узнала через два дня. Ей позвонила классная руководительница Лиса. Спросила, как его здоровье. Ведь она-то думала, что Лис заболел, потому и не приходит.
Когда всё выяснилось, никакого скандала не было. Но к Лису домой пришла классная. Не одна, а с лучшей ученицей класса. Или не так. Не с лучшей ученицей, а с самой красивой девчонкой их параллели. Лис с ней и знаком толком не был. Знал, что её зовут Алёна Званцева, что она пишет реферат для исторической олимпиады и что мальчишки-одноклассники смотрят на неё с холодком в груди и с затаённой тоской. Лис и сам на неё смотрел точно так же.
Классная заперлась в комнате с матерью, а Алёна Званцева осталась с Лисом.
От растерянности Лис не мог вымолвить ни слова. Пыхтел, поправляя сбившиеся занавески, и незаметно закрывал вкладки сайтов с размалёванными девицами.
Званцева сидела на стуле молча. Смотрела на Лиса глазами с густо накрашенными ресницами и грустно улыбалась. Или не улыбалась вовсе, а морщилась от смущения. Лис понял, что первой она не начнёт. И что ей так же неудобно, как и ему.
Тогда он оставил ноут в покое и повернулся:
– Хочешь, чайник поставлю?
Званцева подняла брови, шмыгнула носом и быстро кивнула. Точно так же, как сделала бы Лисова сестра. Лис даже удивился. Он почему-то думал, что красивые девчонки носом не шмыгают и не кивают. А если уж кивают, то плавно и медленно. Чтобы не расплескать красоту.
На кухне Лис набрал чайник, выудил из посудного шкафа две чашки с парусниками, заглянул в хлебницу. В хлебнице нашлись пряники. Шоколадные, с клюквенной начинкой. Лис не помнил, чтобы мать недавно покупала пряники. Для проверки он откусил от одного. Пряник был твёрдым, но вполне съедобным. Лис бухнул в каждую чашку по три ложки сахара, устроил чашки на подносе, рядом положил пакет с пряниками и помчался к Званцевой.
Она сидела всё так же: руки, сцепленные в замок под подбородком, аккуратная коса на плече.
Лис пристроил поднос на столе, пододвинул стул для себя и принялся размешивать сахар. Сначала в своей чашке, потом в Званцевской.
– Ой! – пискнула Званцева. – Зачем ты?
И снова совсем как Лисова сестра.
– Чтобы сладко стало, – наивно объяснил Лис.
И уточнил:
– А что – не надо было? Ты, не размешивая, пьёшь?
– Надо! – тряхнула чёлкой Званцева и вдруг покраснела. – Просто я обычно сама это делаю. Мне ещё никто и никогда чай не размешивал.
– Да? – удивился Лис и тут же нашёлся. – Это потому что раньше ты со мной его не пила. Я всегда размешиваю.
– Здо'рово, – улыбнулась Званцева. – Это… очень приятно.
Лис почувствовал, что ещё чуть-чуть и тоже покраснеет.
– Какие у тебя чашки!.. – сказала Званцева.
– Какие? – не понял Лис.
– Красивые, – объяснила Званцева. – И необычные. На чашках чаще всего цветы. А на этих корабли. С парусами.
– Я просто цветы не люблю, – признался Лис. – В смысле, на чашках. Неинтересно это.
– Я запомню, – кивнула Званцева.
Лис посмотрел на неё внимательно, и его будто бы окатила горячая волна.
– А хочешь, – вдруг спросил он, – я всегда тебе буду чай размешивать?
Званцева опустила глаза и принялась внимательно рассматривать квадратики солнца на сером линолеуме.
