Роза Марена
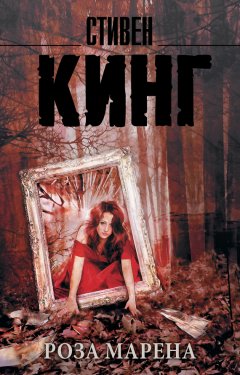
© Stephen King, 1995
© Перевод. Т. Покидаева, 2014
© AST Publishers, 2017
Посвящается Джоан Маркс
На самом деле, я Рози.
Настоящая Рози, вот так.
Со мной шутки плохи, приятель.
Прими это просто как факт…
Морис Сендак
Кровавый
яичный желток. Дыра, обожженная
по краям,
расползается по простыне.
Взбешенная роза грозит расцвести.
Мэй Свенсон
Пролог. Зловещие поцелуи
Она сидит на полу в углу и пытается вдохнуть воздух. Еще пару минут назад в комнате было так много воздуха, но теперь его нет совсем. Откуда-то издалека доносится тихий свистящий звук. Она знает, что это воздух входит ей в горло и выходит обратно чередой лихорадочных сбивчивых вздохов. Но ее все равно не покидает чувство, что она тонет. Здесь, в углу гостиной. Глядя на разорванную книжку в мягкой обложке, которую она читала, когда муж вернулся домой.
Ей уже все равно. Боль настолько сильна, что у нее просто нет сил беспокоиться о каких-то незначительных мелочах. Вроде того, что ей нечем дышать или что в воздухе, который она вдыхает, как будто и нет воздуха. Боль поглотила ее, как – по Библии – кит поглотил Иону, того пророка, уклонившегося от божественного поручения. Боль похожа на ядовитое жгучее солнце. Она пульсирует где-то в глубинах ее естества. В том самом месте, где до сегодняшнего злополучного вечера было лишь мягкое и спокойное ощущение новой жизни, что растет у нее внутри.
Такой страшной боли она не испытывала никогда. Даже тогда, лет в тринадцать, когда она резко развернула свой велосипед, чтобы объехать рытвину на дороге, а в результате упала, ударилась головой об асфальт и заработала шрам длиной ровно в одиннадцать швов. Она помнит, как это было: серебристая вспышка боли и искрящееся темное удивление, которое последовало за ним и которое на самом деле оказалось обычным обмороком… Но та боль не идет ни в какое сравнение с этой болью. С этой кошмарной агонией. Она держит руку на животе, и плоть под рукой уже не похожа на плоть. Как будто кто-то вспорол ей живот и вместо живого ребенка положил туда раскаленный камень.
Она думает: Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы с ребенком ничего не случилось.
Но теперь, когда дышать стало немного легче, она понимает, что с ребенком уже случилось что-то нехорошее. Он – ее муж – постарался на славу. Когда ты беременна на четвертом месяце, ребенок еще не отдельное существо. Ребенок – он часть тебя. И когда ты сидишь в углу, и твои волосы липнут к влажным от пота щекам, и у тебя ощущение, словно ты проглотила горячий камень…
Что-то течет по бедрам с внутренней стороны. Это похоже на поцелуи. Скользкие, мокрые и зловещие.
– Нет, – шепчет она. – Господи, нет. Боженька миленький, нет.
Она думает: Пусть это будет пот. Пусть это будет пот… или пусть я обмочилась. Да, наверное, так и есть. Когда он ударил меня в третий раз, мне было так больно, что я обмочилась и даже не обратила внимания. Пусть будет так.
Только это не пот. И она вовсе не обмочилась. Это кровь. Она сидит на полу в углу гостиной и смотрит на разорванную пополам книжку. Полкнижки валяется на диване, полкнижки – под журнальным столиком. А ее чрево готово извергнуть ребенка, которого до сегодняшнего злополучного вечера она носила в себе безо всяких проблем и жалоб.
– Нет, – стонет она. – Нет. Господи, ну пожалуйста. Скажи, нет.
Она видит тень мужа. Искореженную продолговатую тень, похожую на огородное пугало или на тень повешенного. Она пляшет и корчится на стене арочного коридора, который ведет из гостиной в кухню. Она видит тень – телефонную трубку, прижатую к тени-уху, и длинный закрученный телефонный шнур, тоже тень. Она даже видит, как его тени-пальцы распрямляют мягкие завитушки шнура, на мгновение замирают и отпускают шнур, так что он снова закручивается в спираль, словно бы по привычке – вредной привычке, от которой никак не избавишься.
Поначалу она решает, что он звонит в полицию. Но это, конечно же, полный бред. Ведь он сам полицейский.
– Да, это срочный вызов, – говорит он. – Красавица, я повторяю: мне надо срочно. Она беременна. – Он слушает, перебирая пальцами телефонный шнур, а когда заговаривает опять, в его голосе явственно слышатся нотки раздражения. Всего лишь слабые нотки, но она знает, что это значит. Ей снова становится страшно. Во рту появляется противный металлический привкус. Кто посмеет ему возражать? Кто посмеет с ним спорить? Кому хватит ума пойти ему наперекор? Только тому, кто его не знает. Тому, кто не знает его так, как знает она. – Разумеется, я понимаю, что ее нельзя трогать с места. Вы меня за идиота считаете?
Она запускает руку под платье и осторожно ведет ее вверх, по бедру – к промокшим горячим трусикам. Она твердит про себя: Пожалуйста. Сколько раз она мысленно повторила это заветное слово после того, как он вырвал у нее книжку? Она не знает. Но вот опять: Пожалуйста, Боже. Сейчас я дотронусь до этой жидкости, и пусть рука будет чистой. Пожалуйста. Сделай так, чтобы рука была чистой.
Но когда она достает руку из-под платья, кончики пальцев красны от крови. Она смотрит на свою руку, и ее скручивает кошмарный спазм боли. Как будто ножовка вонзается прямо в живот. Ей приходится стискивать зубы, чтобы заглушить крик. Она знает, что в этом доме кричать нельзя.
– Хватит уже полоскать мне мозги. Вы можете просто прислать машину?! И побыстрее! – Он швыряет трубку на рычаг.
Его тень разбухает и дергается на стене. И вот он уже стоит в проходе. И смотрит прямо на нее. Его глаза на красивом разгоряченном лице не выражают вообще ничего. Они как осколки стекла на обочине заезженного проселка.
– Нет, вы посмотрите на это. – Он разводит руками и роняет их с тихим хлопком. – Ну и бардак.
Она протягивает к нему руки, чтобы он увидел кровь у нее на пальцах. Она никогда не решится обвинить его напрямую. Ее хватает только на то, чтобы показать ему свои руки.
– Я знаю. – Он говорит это так, как будто то, что он знает, само по себе все объясняет. Как будто все, что сейчас произошло, это нормально, рационально и объяснимо с точки зрения здравого смысла. Он поворачивает голову и смотрит на разорванную пополам книжку. Берет половинку, лежащую на диване. Наклоняется и поднимает с пола вторую половинку. Потом он выпрямляется. И теперь ей видна обложка. На обложке изображена женщина в белой крестьянской блузке. Она стоит на носу корабля. Ветер красиво раздувает ее длинные волосы, открывая голые плечи цвета свежих сливок. Название книги «Путешествие Мизери» набрано красными буквами с металлическим отливом.
– А все из-за этого. – Он замахивается на нее разодранной книжкой, как взбешенный хозяин замахнулся бы свернутой в трубочку газетой на щенка, который опять сделал лужу на полу в гостиной. – Сколько раз я тебе говорил, что меня просто корежит от этой дряни?!
Правильный ответ: ни разу. Она знает, что дело не в книжке. Если бы, вернувшись домой, он застал ее за каким-то другим занятием: скажем, она смотрела бы новости по телевизору, или пришивала бы пуговицу ему на рубашке, или просто дремала бы на диване, – она все равно бы сидела сейчас в углу и истекала бы кровью при выкидыше. Ему было трудно в последнее время. У него были крупные неприятности из-за женщины по имени Венди Ярроу. А если у Нормана неприятности, это значит, что все, кто его окружает, тоже должны страдать. Сколько раз я тебе говорил, что меня просто корежит от этой дряни? И не имеет значения, какая именно «дрянь». Он бы нашел к чему привязаться. А прежде чем броситься на нее с кулаками, он бы сказал то же самое: Иди сюда, девочка. Нам надо поговорить. Очень серьезно поговорить.
– Неужели ты не понимаешь? – шепчет она. – Я теряю ребенка.
Трудно поверить, но он улыбается.
– Другого родишь. – Он говорит это так, словно утешает ребенка, уронившего на пол мороженое. Потом поворачивается и уносит книжку на кухню. Там он выбросит книжку в помойку.
Ты мерзавец, думает она, даже не сознавая того, что она это думает. Опять взрыв боли. Только на этот раз – не один. Боль шевелится внутри, словно рой кошмарных насекомых. Она вжимается лбом в стену и стонет. Ты мерзавец. И я тебя ненавижу.
Он возвращается в гостиную и направляется прямо к ней. Она перебирает ногами по полу, пытаясь втиснуться в стену, и смотрит на него безумными затравленными глазами. На миг у нее в душе поселяется уверенность, что на этот раз он ее убьет. Не просто сделает ей больно, не просто отнимет ребенка, которого она так давно хотела, а действительно убьет. Он идет прямо к ней, и в его взгляде есть что-то нечеловеческое. Он идет. Голова опущена, руки висят по бокам, как плети. На бедрах переливаются мышцы. Сейчас полицейских уничижительно называют легавыми. Но до этого было другое слово. И это слово вспоминается ей теперь, когда он надвигается на нее вот так: голова опущена, руки раскачиваются взад и вперед, как мясистые маятники. Сейчас он действительно очень похож на быка.
Она стонет, мотает головой, перебирает ногами по полу. Один тапок соскальзывает с ноги и остается лежать на полу. Боль снова терзает ее нутро. Врезается ей в живот, точно зубья старого ржавого якоря. Она чувствует, как из нее течет кровь. Но она все равно перебирает ногами. Она не может остановиться. Когда он такой, она не видит в нем человека. Она вообще ничего в нем не видит: только ужасную пустоту.
Он стоит прямо над ней и устало качает головой. Потом садится на корточки и просовывает руки ей под спину и под колени.
– Больно не будет, – говорит он, опускается на колени и отрывает ее от пола. – Главное, ты не дури.
– У меня кровь, – шепчет она и вспоминает, как он говорил по телефону, что не будет трогать ее с места. Потому что ее нельзя трогать с места.
– Ага, я знаю, – отзывается он, но безо всякого интереса. Он оглядывает комнату, пытаясь решить, где именно произошел этот несчастный случай с его женой. Она знает, о чем он думает. Она читает его мысли так, словно это ее мысли. – Но ничего, остановится. Сейчас приедут врачи и остановят кровь.
А ребенка спасти они смогут?! – кричит она про себя. И ей даже в голову не приходит, что если она сейчас может читать его мысли, то и он тоже может читать ее мысли. Она не видит, как пристально он на нее смотрит. Но она все равно боится довести свою мысль до конца. Она снова боится произнести это, пусть даже мысленно: Я тебя ненавижу. Ненавижу тебя.
Он несет ее к лестнице. Опускается на колени и усаживает ее на пол у нижней ступеньки.
– Тебе удобно? – заботливо спрашивает он.
Она закрывает глаза. Она видеть его не может. Сейчас – не может. Ей кажется, что она просто сойдет с ума, если будет сейчас на него смотреть.
– Хорошо. – Он кивает, как будто услышал ответ на вопрос. И когда она открывает глаза, она видит, что он снова, как это иной раз бывает, впал в то самое состояние, которое можно определить как «не здесь». Как будто он от всего отключается и его мысли бродят где-то в других измерениях.
Будь у меня сейчас нож, я бы точно его зарезала, думает она… но опять же это не та мысль, которую можно додумывать до конца. Не говоря уж о том, чтобы подумать над ней всерьез. На такое она никогда не решится. Это всего лишь глубинное эхо. Может быть, лишь отголосок безумия мужа – тихий, как шелест крыльев летучей мыши во мраке пещеры.
Внезапно его лицо вновь оживает, и он встает, хрустнув при этом коленями. Внимательно изучает свою рубашку. Проверяет, нет ли на ней следов крови. Нет, все нормально. Потом он смотрит в тот угол, где она упала на пол, когда ее скрутила боль. Вот там кровь есть. Несколько капель и пара размазанных пятен. Она чувствует, как из нее вытекает кровь. Теперь кровь просто хлещет. Кровь пропитывает ее всю нездоровым и жадным теплом. Кровь идет непрестанным потоком, как будто давно дожидалась возможности вырвать ребенка у нее из чрева. Как будто этот ребенок был для крови чужим. Как будто – что за кошмарная мысль – ее кровь сейчас заодно с ее мужем… как будто она заразилась его безумием.
Он снова уходит на кухню. Его нет минут пять. Она слышит, как он там возится, и тут уже по-настоящему начинается выкидыш. Боль переваливает за предел, а потом отпускает – выходит горячей струей вместе с кровью. Она уже не просто чувствует, как течет кровь. Она ее слышит. И ей вдруг начинает казаться, что она сидит в ванне, наполненной теплой и вязкой жидкостью. Типа кровавой подливки.
Его длинная тень вновь появляется на стене в проходе между гостиной и кухней. Он открывает и захлопывает холодильник. Потом открывает дверцу кухонного шкафа (судя по слабому скрипу, это шкафчик под раковиной). Она слышит, как в кухне из крана течет вода. Слышит, как муж напевает что-то себе под нос – наверное, это «Когда мужчина любит женщину»… и тогда из нее выходит ее не рожденный ребенок.
Он возвращается в гостиную. В одной руке у него бутерброд (ну конечно, ведь он же еще не ужинал и ему страшно хочется есть), в другой – влажная тряпка, которую он взял из ведра из-под раковины. Он приседает в углу, куда она заползла после того, как он вырвал у нее книжку и три раза ударил в живот кулаком – бах, бах, бах, убирайся, чужак, до свидания, – и начинает возить тряпкой по полу, стирая капли и подтеки крови. Вся кровь останется здесь, у лестницы. Именно там, где нужно.
Он вытирает кровь и попутно ест бутерброд. Судя по запаху, там у него остатки жареной ветчины, которые она собиралась разогреть с вермишелью в субботу вечером – приготовить что-нибудь незатейливое и поужинать, сидя перед телевизором за вечерними новостями.
Он смотрит на тряпку, которая теперь стала бледно-розовой. Переводит взгляд на пол и снова на тряпку. Удовлетворенно кивает, откусывает от бутерброда большой кусок и встает. Когда он снова приходит из кухни, с улицы слышится вой приближающейся сирены. Наверное, это едет «скорая», которую вызвал Норман.
Он идет через комнату, опускается перед ней на колени и берет ее руки. У нее очень холодные руки, и он хмурится, и принимается ласково их растирать. И говорит:
– Мне очень жаль, правда. Просто… столько всего происходит… эта сука из мотеля… – Он умолкает на полуслове, на мгновение отводит глаза и снова смотрит на нее. Он улыбается, словно извиняясь. Но он не чувствует себя виноватым. Вот до чего я дошел, говорит эта улыбка. Перед кем я оправдываюсь.
– Ребенок, – шепчет она. – Ребенок.
Он стискивает ее руки, так что ей даже больно.
– Да погоди ты с ребенком. Послушай меня. Они сейчас будут здесь, через пару минут. – Да, «скорая» уже близко. Ее сирена врезается в ночь, словно заливистый лай невоспитанной гончей. – Ты спускалась по лестнице и оступилась. Ты просто упала. Понятно?
Она смотрит на него и молчит. Боль внутри затихает, и когда он опять стискивает ее руки – еще крепче, чем в прошлый раз, – она это чувствует и тихонько вскрикивает от боли.
– Тебе понятно?
Она смотрит в его запавшие пустые глаза и молча кивает. Она чувствует слабый запах соленой морской воды с привкусом меди. Ей больше не кажется, что она лежит в ванне, наполненной теплой кровавой подливкой. Теперь ей кажется, что она сидит в луже разлившихся химикатов.
– Вот и славненько, – говорит он. – Знаешь, что с тобой будет, если ты сболтнешь лишнее?
Она снова кивает.
– Тогда скажи мне. Сама скажи. Так надежнее.
– Ты меня убьешь, – шепчет она.
Он кивает с довольным видом. Сейчас он похож на учителя, который вызвал к доске самого тупоумного в классе ученика и все же добился от него вразумительного ответа.
– Умница. Соображаешь. И запомни еще: если что, я не сразу тебя убью. Я такое тебе устрою, что сегодняшний вечер тебе покажется просто маленькой неприятностью. Типа как палец порезала.
Красные огни «скорой» уже мигают на подъездной дорожке.
Он сует в рот последний кусок бутерброда и поднимается на ноги. Он пойдет к двери, чтобы впустить санитаров, – встревоженный любящий муж, у которого случилось несчастье с беременной женой. Он уже развернулся, чтобы уйти, но она успевает схватить его за рукав. Он глядит на нее сверху вниз.
– Но почему? – шепчет она. – Почему, Норман? Разве ребенок в чем-то виноват?
На его невозмутимом лице мелькает какое-то странное выражение. Похожее на страх. Она решает, что ей показалось. Потому что такого не может быть. С чего бы ему вдруг бояться ее? Или тем более ребенка?
– Это был просто несчастный случай, – говорит он. – Такое бывает со всяким. Я здесь вообще ни при чем. И когда они будут тебя расспрашивать, лучше ты им говори то, что нужно сказать. Иначе ты знаешь, что будет. И да поможет тебе Бог.
И да поможет мне Бог, думает она.
Снаружи хлопают дверцы. Она слышит звуки шагов по дорожке и металлический лязг каталки, на которой ее увезут в машину «скорой» и положат под ревущей сиреной. Он направляется к входной двери, в последний раз оборачивается к ней и смотрит, набычившись, как он умеет. Его глаза абсолютно непроницаемы.
– У тебя будет другой ребенок. И с тем ребенком все будет в порядке. Ты родишь девочку. Или мальчика. Такого славного парня. Не важно, кто это будет – согласна? – мальчик, девочка… Если родишь мальчишку, мы ему купим бейсбольную форму. Если девочку… – он неопределенно помахивает рукой, – тоже чего-нибудь купим, чепчик там или что. Вот увидишь. Все так и будет. – Он улыбается. Она смотрит на эту улыбку, и ей хочется кричать. Сейчас он похож на покойника, который улыбается лежа в гробу. – Ты, главное, слушай меня. И все будет прекрасно. Надеюсь, ты это усвоила, солнце мое?
Он открывает входную дверь и впускает в дом санитаров «скорой». Говорит, чтобы они поторопились. Говорит, что жена истекает кровью. Они направляются к ней, и она закрывает глаза. Она не хочет, чтобы они разглядели, что творится у нее в душе. Их голоса звучат словно издалека. И она уговаривает себя, что они действительно далеко.
Не бойся, Рози. Не переживай. Это всего лишь ребенок. Такой пустяк. У тебя еще будет другой ребенок.
Игла впивается в руку, потом ее поднимают с пола. Она не открывает глаз. Она думает: Да, наверное, мне не стоит переживать. У меня еще, может быть, будет другой ребенок. И если он будет, я его увезу. Туда, где он нас не найдет. Где этот убийца нас не найдет.
Но проходит время, и мысль о том, чтобы уйти от мужа, – мысль, которую она никогда не решалась додумать до конца, – ускользает куда-то, как ускользает и восприятие реального мира. Она погружается в сон. Реальности больше нет. Есть только мир сновидений, который становится для нее реальностью. Мир сновидений, похожих на те тревожные сны, которые она видела в детстве. Когда она бежала куда-то как будто сквозь дремучий лес или сумрачный лабиринт, а за спиной слышался топот копыт какого-то огромного зверя – страшного и безумного существа, которое догоняло ее и в конце концов настигало, как бы она ни петляла и ни запутывала следы.
Разум бодрствующего человека воспринимает идею сна и сновидений. Но для спящего нет пробуждения от сна, нет реального мира, нет здравого смысла. Есть только один сумасшедший сон, исполненный кричащего страха. Роза Макклендон Дэниэльс проспала в безумии мужа еще девять лет.
I. Капля крови
На самом деле, эти четырнадцать лет она прожила как в аду. Только она этого не сознавала. Почти все эти годы она жила словно во сне – в глубоком оцепенении, больше похожем на смерть. Ей часто казалось, что ее жизни просто не существует, что в один прекрасный день она обязательно проснется – красиво потягиваясь и зевая, как героиня диснеевского мультфильма. Обычно подобные мысли посещали ее, когда она отлеживалась в постели и приходила в себя после особенно жестоких побоев мужа. Такое случалось три-четыре раза в год. В восемьдесят пятом – в год, когда Нормана доставала та самая Венди Ярроу, когда он схлопотал на работе выговор с занесением в личное дело, когда у нее был «выкидыш», – он избивал ее чуть ли не каждый месяц. В сентябре она снова попала в больницу. Это был второй и последний случай, когда ей пришлось обращаться к врачам после того, как Норман с ней «поговорил по душам». Больше такого не было… по крайней мере на сегодняшний день. Тогда она кашляла кровью. Он три дня не пускал ее в больницу, надеясь, что все пройдет само собой. Но ей стало хуже. Когда стало ясно, что без врачей не обойтись, он сказал ей, что следует говорить в больнице (он всегда говорил, что ей следует говорить), и отвез ее в госпиталь Святой Марии. Он не повез ее в центральную городскую больницу, потому что в центральную городскую больницу ее отвезла «скорая» после «выкидыша». Как оказалось, на этот раз у нее было сломано ребро, которое пропороло легкое. Во второй раз за три месяца она пересказала историю о падении с лестницы. Ей показалось, что ей не поверил даже студент-практикант, который присутствовал при первом осмотре и наблюдал за лечением. Однако никто не стал задавать лишних вопросов. Ей просто выправили ребро, подлечили и отослали домой. Норман, однако, сообразил, что ему очень крупно повезло. И впредь был осмотрительнее.
Иногда по ночам, когда Рози лежала в постели, пытаясь заснуть, у нее в сознании мелькали образы, похожие на холодные и чужие кометы, летящие сквозь черноту. Чаще всего ей представлялся мужнин кулак с кровью, размазанной по костяшкам пальцев и по толстому золотому кольцу, которое ему вручили вместе с дипломом об окончании Полицейской академии. На кольце были выгравированы три слова: Верная служба обществу. И нередко бывали такие дни, когда, проснувшись наутро, она находила у себя на груди или на животе вдавленный отпечаток этих трех слов, похожий на синий штамп Санэпидемконтроля на кусках говядины или свинины в мясном отделе.
Всякий раз эти образы приходили к ней именно в тот момент, когда она уже засыпала, расслабившись в блаженной полудреме. И тут у нее перед глазами возникал окровавленный кулак, готовый ударить ее в лицо. Она мгновенно просыпалась и еще долго лежала без сна рядом с мужем, пытаясь унять мелкую дрожь и надеясь, что он ничего не почувствует, не повернется к ней – сам полусонный – и не всадит кулак ей в живот или в бедро за то, что она его разбудила.
Она вошла в этот ад, когда ей было всего восемнадцать, и пробудилась от тяжкого сна лишь через месяц после своего дня рождения, когда ей исполнилось тридцать два года. Почти полжизни спустя. И разбудила ее капля крови. Одна капелька крови размером не больше десятицентовой монетки.
Она заметила кровь, когда застилала постель. На простыне, с ее стороны, ближе к верхнему краю постели – там, где лежат подушки. На самом деле можно было бы сдвинуть подушку чуть влево и закрыть размытое пятнышко, которое теперь, когда высохло, стало темно-бордовым. Да, это было бы проще всего. И самое главное, искушение именно так и сделать было уж слишком велико. Если бы у нее были чистые белые простыни, то можно было бы перестелить одну простынь. Но дело в том, что у нее не осталось ни одной чистой смены белого постельного белья. А если она сменит белую простынь с пятном на чистую, но в цветочек, тогда ей придется перестилать всю постель. Потому что иначе муж снова взбесится.
Она даже знала, что он ей скажет: Нет, вы посмотрите на это. Это же черт знает что. Она даже белье постелить не может по-человечески. Снизу белая простыня, сверху – цветная. А всё это от лени. И в кого ты такая ленивая?! А ну-ка иди сюда, милая. Нам с тобой надо поговорить. И очень серьезно поговорить.
Она стояла со своей стороны кровати прямо в желтом квадрате солнечного света, льющегося из окна. Ленивая неряха, – которая целыми днями только и делает, что моет и чистит их маленький дом (если Норман заметит хотя бы единственный смазанный отпечаток пальца в уголке зеркала в ванной, он изобьет ее смертным боем) и каждый вечер встречает мужа вкусным горячим ужином, – она стояла у кровати и тупо смотрела на засохшее пятнышко крови на простыне. Если бы кто-то сейчас увидел Рози со стороны, он бы, наверное, принял ее за умственно отсталую идиотку – настолько пустым и вялым было ее лицо, лишенное всякого выражения. Но ведь кровотечение прекратилось, твердила она себе. Я была уверена, что оно прекратилось. Чертов мой нос.
Муж редко бил ее по лицу. Он знал, что можно делать, а что нельзя. По лицу можно бить пьяных ублюдков, которые сопротивляются при аресте. (А счет задержанных Норманом за его долгую службу сначала просто в полиции, а потом в следственном управлении уголовной полиции шел, наверное, на сотни.) Но если ты слишком часто бьешь по лицу кого-то из честных граждан – свою жену, например, – то в конце концов наступает такой момент, когда окружающие просто перестают верить в рассказы о том, как она неудачно упала с лестницы, или в темноте налетела лбом на открытую дверь ванной, или наступила на грабли на заднем дворе. Люди все понимают. Люди болтают. И в один распрекрасный день у тебя могут случиться крупные неприятности, пусть даже жена держит язык за зубами. Потому что блаженное время, когда люди не лезли в чужие дела, давно миновало. Теперь всем до всего есть дело.
Норман все это понимал. Вот только нрав у него был слишком уж вспыльчивым и горячим, и иногда он срывался. Нечасто, но все же… Как, например, вчера вечером, когда она принесла ему второй стакан чая со льдом и нечаянно пролила пару капель ему на руку. Бабах, и кровь полилась у нее из носа, как вода из прорванной водопроводной трубы – еще прежде, чем он успел сообразить, что ударил ее по лицу. От нее не укрылось, с каким отвращением он смотрел на ее разбитый нос, из которого хлестала кровь, заливая ей губы и подбородок. Потом отвращение сменилось тревожной задумчивостью. Он как будто прикидывал про себя: а что, если он малость не рассчитал силы и сломал ей нос? Это значит, что ему снова придется везти ее в больницу. Ей показалось, что он сейчас изобьет ее по-настоящему. И она снова забьется в угол и будет сидеть там, скорчившись на полу и глотая слезы. И задыхаться, и пытаться вдохнуть хотя бы немного воздуха, чтобы ее стошнило. В передник. Всегда – только в передник. В этом доме не плачут. И не кричат. И не возражают против заведенных порядков. И если тебя рвет от боли, нельзя, чтобы хоть капелька рвоты попала на пол. Потому что иначе тебе отвернут башку. В буквальном смысле слова.
Но у него все же сработало чувство самосохранения, которое всегда обострялось в критических ситуациях. Он достал из морозильника несколько кубиков льда и завернул их в кухонное полотенце. Потом отвел Рози в гостиную. Там она легла на диван и приложила импровизированный компресс со льдом к переносице, между слезящимися глазами. Он сказал ей, что именно к этому месту и нужно прикладывать лед, чтобы кровь остановилась быстрее и чтобы назавтра нос не распух. Она понимала, что ему наплевать на то, что у нее идет кровь. Его беспокоило только одно: чтобы нос не распух. Завтра ей идти по магазинам, а распухший нос все-таки не синяк под глазом. Его не спрячешь под темными очками.
Потом Норман вернулся на кухню – доедать ужин: вареную рыбу с жареной молодой картошкой.
Когда утром Рози глянула на себя в зеркало, ей показалось, что нос действительно почти не распух. (Первый тщательный осмотр Норман провел самолично, после чего небрежно приобнял ее за плечи, выпил чашечку кофе и ушел на работу.) А кровь остановилась еще вчера, буквально через пятнадцать минут после того, как она приложила к носу компресс со льдом… то есть это Рози решила, что кровотечение остановилось. Но ночью, пока она спала, одна предательская капелька крови вытекла у нее из носа и расплылась пятном на простыне. А это значит, что теперь ей придется перестилать всю постель, хотя у нее жутко болит спина. В последнее время спина у Рози болит постоянно: стоит только нагнуться или поднять что-нибудь даже не очень тяжелое. Чаще всего Норман бьет ее по спине. В отличие от «мордобития», как он сам это называет, бить по спине – это надежно и безопасно… при условии, если та, кого бьют, умеет держать язык за зубами. А Норман лупцует ее по почкам уже четырнадцать лет. И Рози давно уже перестала тревожиться и удивляться тому, что кровь у нее в моче появляется все чаще и чаще. Кровь в моче – это просто еще одна неприятная вещь, связанная с замужеством. Ничего особенно страшного в этом нет. Наверняка миллионы женщин живут еще хуже. Только в их городе тысячи женщин живут еще хуже. Так ей, во всяком случае, представлялось. До сегодняшнего утра.
Она смотрела на капельку крови на простыне, и внутри у нее закипало непривычное озлобление и чувство горькой обиды. Ее всю как будто покалывало миллионами острых иголок. Она это чувствовала, но не знала, что подобные ощущения испытывает человек, наконец пробудившийся ото сна.
У ее половины кровати стояло уютное кресло-качалка из гнутой древесины. Рози всегда называла его про себя винни-пухским креслом. Причем она даже не знала, почему именно винни-пухским. Она отступила на шаг назад, не сводя глаз с крошечного пятнышка крови, которое так выделялось на белой простыне, и опустилась в кресло. Почти пять минут она просто сидела в своем винни-пухском кресле, а потом вдруг вскочила, услышав голос, прозвучавший в пустой комнате. Она даже не сразу сообразила, что это был ее собственный голос.
– Если так пойдет дальше, он меня просто убьет, – произнесла она вслух. И уже потом, когда она более или менее оправилась от потрясения, ей пришло в голову, что она обращается к капельке крови – крошечной частичке себя, которая уже умерла. Вытекла у нее из носа и умерла на белой простыне.
Ответ прозвучал у нее в сознании, и он оказался гораздо страшнее того, что она только что высказала вслух:
А вдруг он тебя не убьет? Ты никогда не задумывалась, что будет, если он тебя не убьет?
Нет, об этом она не задумывалась. Ей не раз приходило в голову, что однажды он изобьет ее слишком жестоко или ударит куда-нибудь не в то место (хотя до сегодняшнего утра она ни разу не позволяла себе высказать это вслух, пусть даже только себе). Но она почему-то действительно никогда не задумывалась над тем, что вполне может так получиться, что она не умрет…
Странный зуд в теле все нарастал. Обычно она просто сидела в своем винни-пухском кресле, сложив руки на коленях и глядя на свое отражение в зеркале сквозь приоткрытую дверь ванной. Но в это утро она начала качаться в кресле. Вперед и назад, резкими судорожными рывками. Ей надо было качаться. Это зудящее покалывание во всем теле, когда каждая мышца буквально дрожит от напряжения, заставляло ее качаться. Тем более что сейчас Рози меньше всего на свете хотелось разглядывать себя в зеркале, хотя нос и вправду почти не распух.
Иди сюда, девочка. Нам надо поговорить. Очень серьезно поговорить.
И так – четырнадцать лет. Сто шестьдесят восемь месяцев, начиная со дня их свадьбы, когда муж оттаскал ее за волосы и укусил в плечо только за то, что в их брачную ночь она нечаянно хлопнула дверью. Один выкидыш. Одно почти прорванное легкое. Эта ужасная мерзость, которую он с ней проделал теннисной ракеткой. Старые отметины у нее на теле. В тех местах, где тело закрыто одеждой. По большей части следы от укусов. Норман любит кусаться. Поначалу она пыталась себя убедить, что он это делает как бы в порыве страсти. Теперь ей даже не верилось, что когда-то она была такой молодой и наивной. Но ведь, наверное, была.
Иди сюда. Нам надо поговорить. Очень серьезно поговорить.
И вдруг что-то как будто сместилось у нее в голове, и она поняла, что́ это был за зуд, который теперь охватил ее всю. Раздражение. Ярость. Да, именно ярость. И как только она это поняла, ее мысли приняли совсем уже странное направление.
Беги отсюда, явственно прозвучало у нее в голове. Беги. Прямо сейчас. Сию же минуту. Даже не переодевайся. Иди в том, в чем есть. Уходи.
– Но это же просто смешно, – произнесла она вслух, раскачиваясь в винни-пухском кресле. Все быстрее и быстрее. Ее взгляд зацепился за пятнышко крови на простыне. С этого ракурса оно казалось жирной точкой под восклицательным знаком. – Это просто смешно. Куда мне идти?
Куда угодно. Туда, где не будет его, подсказал тот же голос, идущий откуда-то изнутри. Только если ты хочешь уйти, то уходи прямо сейчас. Пока…
Пока – что?
Ответ простой. Пока она не заснула снова.
Ей вдруг стало страшно. Это в ней заговорило все то, что в ней было забитого, и запуганного, и погрязшего в многолетних привычках. Она с неподдельным ужасом осознала, что на полном серьезе задумывается над этой крамольной мыслью. Уйти из дома? Где она прожила четырнадцать лет? Где у нее есть все, что ей нужно? Уйти от мужа, который хоть и чересчур вспыльчив и бьет ее смертным боем, но все же приносит в дом деньги, и, надо сказать, неплохие деньги? Что за нелепая мысль. И придет же такое в голову… И даже думать об этом забудь.
И она бы, наверное, забыла. То есть наверняка бы забыла, если бы не капелька крови на простыне. Одна-единственная капля крови.
Тогда не смотри на нее, и всё, нервно твердила та Рози, которая считала себя практичной и рассудительной женщиной. Не смотри на нее, ради Бога. Иначе она доведет тебя до беды.
Вот только Рози уже не могла не смотреть. Не могла оторвать взгляд от этого темно-красного пятнышка на простыне. Она смотрела на каплю крови, раскачиваясь в кресле. Все быстрее и быстрее. Ее ноги в белых домашних туфлях скользили по полу в нарастающем ритме качаний (зуд ярости теперь сосредоточился в голове, будоражил мозги, распалял ее, подогревая решимость). И вот о чем она думала: Четырнадцать лет. Четырнадцать лет он со мной говорит серьезно. «Иди сюда. Нам надо поговорить». Выкидыш. Теннисная ракетка. Три выбитых зуба. Один из них я проглотила. Сломанное ребро. Побои. Щипки. И укусы, конечно. Укусы вообще без счета. И еще столько всего…
Прекрати! Зачем об этом думать?! Все равно это бессмысленно, потому что ты никуда не уйдешь. Даже если решишься уйти, все равно далеко не уйдешь. Он разыщет тебя и вернет домой. Можешь даже не сомневаться. Он полицейский. Розыск пропавших людей – это его работа. А свою работу он делает хорошо…
– Четырнадцать лет, – пробормотала она. И теперь она думала не о прошедших четырнадцати годах, а о тех, которые ждут ее впереди. Потому что тот другой голос, прозвучавший в самых глубинах ее существа, был прав. Ведь вполне может так получиться, что Норман ее не убьет. И на что она будет похожа после еще четырнадцати лет безжалостных избиений, которые он называет серьезными разговорами?! Сможет она согнуть спину? Будет у нее хотя бы час в день – да пусть хоть пятнадцать минут, – когда ее почки не будут жечь, как раскаленные камни, застрявшие где-то в спине? А если когда-нибудь он ударит ее по какому-то жизненно важному органу и у нее что-то внутри «отключится»? Скажем, рука перестанет сгибаться или нога отнимется. Или нерв на лице защемит, и ее перекосит, и будет она ходить с одной половиной лица живой, а другой омертвевшей, как бедная миссис Даймонд, которая работает в магазине «Лавка 24» у подножия холма…
Она резко поднялась на ноги, оттолкнув кресло так, что его гнутая спинка ударилась о стену. Пару секунд она просто стояла, тяжело дыша и сверля взглядом темно-бордовое пятнышко на простыне, а потом вдруг сорвалась с места и направилась к двери в гостиную.
Ну и куда ты идешь? – вопила у нее в голосе миссис Сама Рассудительность. Та Рози, которая готова была согласиться на то, чтобы ее искалечили или даже убили, лишь бы и дальше иметь сомнительную привилегию всегда точно знать, на какой именно полке в кухонном шкафу лежат пакетики с чаем и где под раковиной стоят моющие средства. Куда ты идешь? Неужели ты думаешь…
Она выкинула из сознания этот предательский голос. И сама поразилась тому, что у нее это получилось. До теперешнего момента она и понятия не имела, что способна на что-то подобное. Она взяла свою сумку со столика у дивана и направилась к входной двери. Гостиная вдруг показалась ей очень большой, а несколько шагов до двери – невыносимо долгими.
Я буду действовать поэтапно. По шагу зараз. Если я буду продумывать все шаги заранее, я боюсь струсить.
Вообще-то Рози не думала, что у нее может возникнуть такая проблема. Во-первых, то, что она сейчас делала, больше всего походило на бредовую галлюцинацию. Не может же женщина, в самом деле, просто так уйти из дома и бросить мужа, поддавшись минутному порыву… Такое только во сне бывает, правильно? А во-вторых, Рози давно привыкла ничего не загадывать на будущее. Эту привычку она развивала в себе с той памятной ночи – их первой брачной ночи, – когда муж укусил ее, как собака, за то, что она нечаянно хлопнула дверью.
Ты все равно никуда не уйдешь. Тебе запала не хватит и до конца квартала, снова возник в голове голос миссис Сама Рассудительность. Ты хотя бы переоделась, что ли. А то в этих джинсах у тебя задница поперек себя шире. И причесаться бы не мешало.
Рози замерла на месте. Сейчас она была очень близка к тому, чтобы вообще отказаться от своей безумной идеи. Еще прежде, чем выйти на улицу. Но тут она поняла, что́ пытается с ней сотворить этот предательский голос. Он отчаянно пытается удержать ее в доме. И действует, надо сказать, очень хитро. Сколько времени уйдет на то, чтобы переодеться и причесаться? Минуты две-три… Но для человека в ее положении даже пара минут – это слишком много.
Этих двух-трех минут вполне хватит… На что? На то, чтобы снова заснуть. Когда она переоденется и застегнет молнию на юбке, ее уже будут мучить сомнения. А когда она закончит с прической, она решит, что у нее было временное помутнение мозгов – острый приступ умопомешательства, связанный с ежемесячным женским недомоганием.
А потом она вернется в спальню и перестелит постель.
– Нет, – сказала она себе. – Нет, ни за что.
Но уже взявшись за ручку двери, она снова помедлила.
Она проявила-таки здравомыслие, воскликнула миссис Сама Рассудительность. Но сквозь облегчение и торжество в ее голосе сквозило и легкое разочарование, если такое вообще возможно. Аллилуйя, девочка проявила-таки здравомыслие. Лучше поздно, чем никогда!
Но облегчение и торжество тут же сменились безмолвным ужасом, когда Рози решительно направилась к полке над газовым камином, который Норман поставил в гостиной два года назад. Того, что ей нужно, вполне могло там и не быть. Обычно муж оставлял ее там, на полке, лишь за несколько дней до зарплаты (чтобы не соблазняться, как он говорил). Но проверить не помешает. Рози знала его пин-код. Это был номер их домашнего телефона с переставленными первой и последней цифрами.
Не стоит этого делать! – истошно вопила миссис Сама Рассудительность. Представляешь, что будет, когда он узнает, что ты взяла его вещь?! Будет ТАКОЕ, что лучше уж сразу повеситься, чтобы долго не мучиться.
– Ее все равно там нет.
Но она была там. Зеленая кредитная карточка «Мерчантс-банка» с выдавленным на ней именем мужа.
Нет, не трогай ее! Не смей!
Но она поняла, что посмеет. Очень даже посмеет – всего-то и нужно, что вспомнить про капельку крови. Ту самую капельку крови. Тем более что это была и ее карточка тоже. Ее деньги тоже. У мужа с женой все должно быть общим. Кажется, так говорится в клятве, которую произносят перед алтарем?
И дело было даже не в деньгах. Просто Рози сейчас было нужно как-то заткнуть этот предательский голос миссис Сама Рассудительность. Ей было нужно сделать что-то такое, что превратило бы ее внезапный и безотчетный порыв к свободе в осознанную необходимость и осознанный выбор. В глубине души она знала, что если она сейчас не совершит хоть какой-то поступок, то она вряд ли дойдет даже и до конца квартала – ее захватят тревожные мысли о неясном и неопределенном будущем, которое представится ей полосой слепого тумана, и она повернет обратно, и вернется домой, и примется в спешке перестилать постель, чтобы успеть до полудня вымыть полы на первом этаже… теперь в это трудно поверить, но, проснувшись сегодня утром, Рози думала только о том, что ей надо вымыть полы.
Не обращая внимания на голос, возмущенно вопящий в ее сознании, Рози взяла кредитку, бросила ее себе в сумку и поспешно направилась к двери на улицу.
Не делай этого, остановись! – взвыла миссис Сама Рассудительность. Ты сама знаешь, Рози, что за ТАКОЕ он не просто тебя изобьет. Он тебя искалечит, так что ты загремишь в больницу. Или вообще убьет.
Да, она это знала. Но она все равно шла к двери, наклонив голову и выставив плечи вперед, как человек, который идет против сильного ветра. Он, конечно, ее изобьет или вообще убьет… но сначала ему придется ее найти.
На этот раз Рози не стала медлить у двери. Она повернула ручку, открыла дверь и вышла на улицу. Ярко светило солнце. Была середина апреля. На деревьях уже набухали почки. Рози на мгновение замерла на пороге. Ее тень легла на ступеньки крыльца и на бледно-зеленую молодую траву, как силуэт, вырезанный из плотной черной бумаги острыми ножницами. Она стояла, полной грудью вдыхая свежий весенний воздух. Пахло влажной землей, которую промочил (и, может быть, оживил) ливень, прошедший ночью, когда Рози спала и не знала о том, что у нее из носа вытекла капля крови и засохла на простыне.
Весь мир пробуждается ото сна, вдруг подумалось ей. Не только я, но весь мир.
Когда она закрывала за собой дверь, она увидела, что по тротуару бежит мужчина в спортивном костюме. Он помахал ей рукой, и она помахала в ответ. Она прислушалась к себе, не завопит ли опять этот предательский внутренний голос. Но голос молчал. То ли заткнулся от потрясения, когда она слямзила с полки кредитку мужа, то ли его успокоила мирная тишина апрельского утра.
– Я ухожу, – пробормотала она. – Я действительно ухожу.
Но она все же помедлила на крыльце. Как зверек, которого долго держали в клетке и который никак не может поверить в то, что его выпускают на свободу. Она протянула руку назад и прикоснулась к ручке на входной двери – на двери, что вела в ее клетку.
– Все, с меня хватит, – прошептала она. Потом сунула сумку под мышку и сделала первые десять – двенадцать шагов в полосу тумана, которым теперь обернулось ее будущее.
Эти десять – двенадцать шагов привели ее к тому месту, где бетонная дорожка выходила на тротуар, – к тому самому месту, где минуту назад пробежал мужчина в спортивном костюме. Она повернула налево, но тут же остановилась. Норман как-то ей говорил, что люди, которые думают, будто они выбирают направление произвольно – например, если ты заблудился в лесу и пытаешься выйти куда-нибудь наугад, – на самом деле почти всегда поворачивают в направлении своей «рабочей» руки. То есть правши идут вправо, а левши – влево. Скорее всего это было не так уж и важно. Но Рози вдруг поняла, что ей просто не хочется, чтобы он догадался, куда она повернула на Вестморленд-стрит, когда ушла из дома.
Ей не хотелось, чтобы он оказался прав.
Пусть даже в такой незначительной мелочи.
Вот почему вместо того, чтобы свернуть налево, она повернула направо – в направлении ее «нерабочей» руки – и пошла вниз по склону холма. Когда она проходила мимо «Лавки 24», она едва подавила в себе безотчетное побуждение прикрыть рукой половину лица. Она уже чувствовала себя преступницей, которая скрывается от правосудия. Ужасная мысль вгрызлась ей в мозг, точно крыса – в головку сыра. А вдруг он вернется с работы пораньше и увидит ее на улице? Вдруг он увидит, как она идет по тротуару: вся растрепанная, непричесанная, в старых джинсах и белых домашних туфлях, с сумкой под мышкой? И он, конечно же, призадумается: а какого черта она разгуливает по улицам, когда ей положено сидеть дома и драить полы на первом этаже? И он ее спросит, какого черта. И велит подойти поближе. Да. Он ей велит подойти поближе. А потом он с ней поговорит. Очень серьезно поговорит.
Не будь идиоткой. С чего бы ему возвращаться домой? Он ушел только час назад. Это же полный бред.
Да… но иногда люди делают вещи, которые можно определить исключительно одним словом – «бред». Вот она, например… то, что она сейчас делает, это вообще не укладывается ни в какие рамки. А вдруг у него сработает его пресловутая интуиция? Он же не раз говорил, что, когда начинаешь работать в полиции, через какое-то время у тебя развивается нечто вроде шестого чувства, которое предупреждает тебя заранее, что с тобой может случиться какая-то гадость. Как будто что-то внутри свербит. Шило в заднице, называется, сказал он однажды. Не знаю, как еще можно определить. Наверное, это звучит смешно, но если ты спросишь у копа, он уж точно смеяться не будет. И это самое шило в заднице мне уже пару раз жизнь спасало. Вот так-то, милая.
А вдруг последние минут двадцать у него это шило как раз и свербит? Вдруг ему клюкнет, что надо бы съездить домой? Причем домой он поедет именно по этой дороге. Рози уже пожалела, что не повернула налево, как собиралась вначале. И тут ей в голову пришла совсем уже жуткая мысль, причем очень правдоподобная мысль… не говоря уж о том, что, если бы все действительно получилось так, как представилось Рози, это была бы величайшая ирония судьбы. А что, если Норман остановился у банкомата – что в двух кварталах от их полицейского отделения, – чтобы снять на обед баксов десять – двадцать, с удивлением обнаружил, что забыл карточку дома, и решил по-быстрому съездить за ней?
Успокойся. Чего ты себя пугаешь? Ничего подобного не случится. Ничего не случится.
Из-за ближайшего поворота на Вестморленд-стрит вырулила машина. Красная машина. И это было то еще совпадение, потому что их собственная машина была именно красной… то есть не их, а его машина. И кредитная карточка тоже была его. И деньги, которые можно снять по кредитке. Так вот, у них была новая красная «сентра». И машина, которая сейчас ехала прямо навстречу Рози… это была как раз «сентра». Не слишком ли много совпадений для одного раза?
Погоди, это же «хонда»!
Только это была никакая не «хонда». Рози просто выдавала желаемое за действительность. Это была «сентра». Новенькая ярко-красная «сентра». Его красная «сентра». Ее самый жуткий кошмар воплотился в реальность – почти в ту же секунду, как только она об этом подумала.
На мгновение ей показалось, что ее почки сейчас взорвутся от боли. Они вдруг переполнились и сделались невероятно тяжелыми, и она испугалась, что не утерпит и обмочится прямо в штаны. Неужели она и вправду решила, что сумеет отделаться от него? Она, наверное, сошла с ума.
Сейчас уже поздно об этом думать, прозвучал в голове голос миссис Сама Рассудительность. Только теперь он уже не дрожал в истерике. Теперь это был просто голос той части сознания, которая еще не утратила способности связанно рассуждать – холодный, расчетливый голос того существа, которое превыше всего остального ставит стремление выжить. Лучше подумай о том, что ты ему скажешь, когда он остановится рядом и спросит, что ты здесь делаешь. И постарайся придумать что-нибудь действительно убедительное. Ты же знаешь, какой он умный и проницательный.
– Цветы, – пробормотала она. – Я вышла немного пройтись и посмотреть, у кого из соседей уже распустились цветы. – Она стояла теперь на месте, плотно сжимая бедра, чтобы, как говорится, ее не «прорвало». Поверит он ей или нет? Оставалось только надеяться. Потому что ничего другого в голову не приходило. – Я собиралась дойти только до угла Сент-Марк-авеню, а потом сразу вернуться домой и начать мыть…
Она умолкла на полуслове и ошалело уставилась на машину – все-таки «хонда», причем далеко не новая и вовсе не красная, а скорее морковного цвета, – которая медленно проехала мимо. Женщина, сидевшая за рулем, с нескрываемым любопытством взглянула на Рози, и Рози подумала: Если бы это был он, он не купился бы ни на какую историю, пусть даже самую правдоподобную. Он бы все понял по твоему лицу. На нем все написано крупными буквами, да еще и подсвеченными, как неоновая реклама. Ну что, теперь ты вернешься домой? По-моему, самое время выкинуть из головы всю дурь и вернуться домой.
Но она не могла вернуться. Всепоглощающее желание срочно сходить в туалет прошло, но мочевой пузырь оставался таким же тяжелым и перегруженным, почки по-прежнему дергало от боли, ноги подкашивались, а сердце так бешено колотилось, что ей стало страшно. Ей никогда не подняться обратно на вершину холма, пусть даже подъем был совсем не крутым. Она просто не может, не выдержит…
Да можешь ты, можешь. А то ты не знаешь. Ты еще и не такое выдерживала в своей распрекрасной семейной жизни… и ничего, жива.
Ладно. Может, она и сумеет подняться на холм. Но теперь она думала о другом. Иногда он звонил. Обычно раз пять-шесть в месяц, но иногда чаще. Просто «привет, как дела, купить чего-нибудь по дороге, может, печенья или мороженого, ну все, пока». Только в этих звонках не было ни внимания, ни заботы. Он просто ее проверял, вот и все. И если Рози не брала трубку, телефон просто звонил. Автоответчика у них не было. Она однажды спросила, а не купить ли им автоответчик на всякий случай. Он вполне дружелюбно пихнул ее кулаком в бок и сказал, чтобы она слушала и запоминала. «Ты у нас автоответчик» – вот что он ей сказал.
А вдруг он позвонит, и никто не ответит?
Ничего страшного. Он подумает, что я пошла в магазин пораньше.
Только этот номер не пройдет. Вот в чем дело. Утром – полы. Магазин – после обеда. Так было всегда и так, по мнению мужа, должно продолжаться и впредь. Потому что такой порядок. В доме номер 908 по Вестморленд-стрит не поощрялись никакие внезапные порывы. Если он позвонит…
Она снова пошла вперед. Она понимала, что ей надо свернуть с Вестморленд-стрит на ближайшем же перекрестке, хотя очень слабо себе представляла, куда ведет Тремонт-стрит и в ту, и в другую сторону. Впрочем, сейчас это было не важно. Сейчас было важно другое: как можно скорее убраться подальше от этой дороги, по которой муж всегда возвращался с работы домой, если ехал из города по шоссе I-295. Как можно скорее убраться отсюда, чтобы не чувствовать себя яблочком на стрелковой мишени.
На Тремонт-стрит она повернула налево и попала в совсем уже тихий квартал городского предместья. Она пошла мимо маленьких и аккуратных домиков, отделенных друг от друга невысокими живыми изгородями или рядами декоративных деревьев. Похоже, в этом квартале особенной популярностью пользовался лох узколистый. В садике перед одним из домов поливал клумбу мужчина, очень похожий на Вуди Аллена: веснушчатый, в очках в роговой оправе и бесформенной синей шляпе, лихо сдвинутой на затылок. Он на мгновение оторвался от своего занятия и помахал Рози рукой. Похоже, сегодня на всех снизошло добрососедское настроение. Наверное, из-за прекрасной погоды. Но Рози вполне обошлась бы без этих маленьких знаков внимания. Ей даже не надо было напрягаться, чтобы представить, как он потом пойдет по ее следу с терпеливым упорством хорошей ищейки, как он будет расспрашивать всех и каждого, применяя свои хитрые полицейские штучки для стимуляции памяти и размахивая ее фотографией.
Помаши ему тоже, если не хочешь, чтобы он запомнил тебя как угрюмую недружелюбную тетку. Неприятные впечатления держатся в памяти дольше. Поэтому помаши ему и иди себе дальше.
Она помахала ему и пошла себе дальше. Ей опять захотелось в туалет, но она уже поняла, что придется терпеть. В округе не было ничего, что могло бы решить эту маленькую проблему, – только дома, изгороди, зеленые лужайки и ряды декоративных деревьев.
Она услышала за спиной шум машины и поняла, что это он. Она в ужасе обернулась – глаза широко распахнулись и потемнели от страха – и увидела ржавый «шевроле», который полз посередине улицы со скоростью утомленного пешехода. За рулем сидел старик в соломенной шляпе, и вид у него был решительный и перепуганный одновременно. Рози быстро отвернулась, пока старик не заметил, что она тоже вся из себя перепуганная. Она сдвинулась с места, споткнулась, а потом решительно зашагала вперед, слегка склонив голову. Почки опять разболелись. Казалось, что переполненный мочевой пузырь сейчас просто лопнет. Не было никаких сил терпеть. Еще пара минут – и всё. Случится непоправимое. И тогда можно будет распрощаться с надеждами уйти незамеченной. Возможно, никто не запомнит бледную брюнетку, которая шла по улице погожим весенним утром, но бледную брюнетку, которая ходит по улицам с расплывшимся мокрым пятном на джинсах, запомнят все. И забудут не скоро. Так что проблему надо решать. И как можно скорее.
Через два дома впереди на той же стороне улицы стоял небольшой одноэтажный домик шоколадного цвета. Все его окна были наглухо задернуты шторами. На крыльце лежали три газеты. Четвертая газета валялась прямо на дорожке у нижней ступеньки крыльца. Рози быстро огляделась, чтобы убедиться, что за ней никто не наблюдает, торопливо прошла через двор и свернула за дом. На заднем дворе было пусто. На ручке двери, закрытой алюминиевой сеткой, висела записка. Рози подошла поближе – ей уже приходилось семенить, сжимая ноги, – и прочла отпечатанное сообщение: «Привет, я Энн Корас. Я представляю местное отделение фирмы «Эйвон». На этот раз не застала вас дома, но я обязательно загляну еще раз. Спасибо! И если вас интересует продукция фирмы «Эйвон», позвоните мне по телефону 555–1731». Снизу, уже от руки, была проставлена дата. 17 апреля. Два дня назад.
Рози еще раз огляделась. С одной стороны ее закрывала густая живая изгородь, с другой – плотный ряд декоративных деревьев, все тех же лохов узколистых. Она быстренько расстегнула ремень и молнию на джинсах и присела в закутке между задним крыльцом и уложенными друг на друга плоскими бензиновыми канистрами. Только теперь она сообразила, что ее было прекрасно видно с верхних этажей двух соседних домов. Но теперь уже было поздно об этом тревожиться. И потом, по сравнению с тем облегчением, которое Рози испытывала сейчас, все остальное казалось настолько пустым и мелким… по крайней мере на данный момент.
Ты, похоже, совсем рехнулась.
Да, рехнулась. А то она не понимает… Но сейчас, когда ее переполненный мочевой пузырь все-таки освободился от болезненного давления и горячая струйка растеклась зигзагообразными ручейками по кирпичам в закутке между задним крыльцом и канистрами, все ее существо вдруг переполнилось странной безумной радостью. В это мгновение она поняла, что должен чувствовать человек, который только что перешел мост через реку, и оказался в чужой незнакомой стране, и сам поджег мост у себя за спиной… и теперь стоит на берегу и, вдыхая воздух полной грудью, смотрит на то, как превращается в пепел его единственный путь к отступлению.
Почти два часа она шла пешком по незнакомым улицам и кварталам и в конце концов вышла на широкую аллею где-то в западной части города. Перед входом в большой магазин «Мир красок и ковров» Рози увидела телефон-автомат и решила вызвать такси. Она позвонила, заказала машину и с удивлением узнала, где она сейчас находится – уже не в городе, а в предместье Мэплтон. Она стерла в кровь обе пятки. Но это и неудивительно: она прошла пешком более семи миль.
Такси подъехало через пятнадцать минут. За это время Рози успела сходить в маленький магазинчик в дальнем конце аллеи. Там она купила себе дешевенькие темные очки и ярко-красный шарфик из искусственного шелка. Она вспомнила, как Норман однажды сказал ей, что, если ты хочешь отвлечь внимание от своего лица, нужно надеть что-то яркое – что-то такое, что сразу «цепляет» взгляд.
Таксист оказался неопрятным толстяком с всклокоченными волосами, воспаленными красными глазами и дурным запахом изо рта. На его мешковатой вылинявшей футболке красовалась карта Южного Вьетнама, а снизу шла надпись: «ПОСЛЕ СМЕРТИ Я ПОПАДУ В РАЙ, ПОТОМУ ЧТО УЖЕ ОТСЛУЖИЛ СРОК В АДУ. ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, 1969». Первым делом толстяк быстро окинул Рози оценивающим взглядом. Его красные глазки-бусинки на миг задержались на ее губах, потом на груди, а потом на бедрах. После чего он потерял к пассажирке всяческий интерес.
– Куда едем, красавица? – спросил он.
– На автовокзал, пожалуйста.
– В Портсайд, что ли?
– Это автовокзал?
– Ага. – Он поднял глаза и поймал ее взгляд в зеркальце заднего вида. – Только это в другой конец города надо пилить. За двадцать баксов доедем легко. У тебя есть двадцать баксов?
– Конечно, – сказала Рози. Потом поглубже вдохнула и выпалила: – А можно будет проехать так, чтобы где-нибудь по пути остановиться у банкомата «Мерчантс-банка»?
– Эх, мне бы твои проблемы, – отозвался таксист и включил счетчик. На экране зажглось: ПОСАДКА $ 2,5.
Так у нее началась новая жизнь. Причем за начало отсчета Рози приняла то мгновение, когда надпись ПОСАДКА пропала и цифры на счетчике с тихим щелчком сменились с $ 2,5 на $ 2,75. Всё. Начиная с этого мгновения, она никогда больше не назовет себя Рози Дэниэльс, разве что только в тех случаях, когда без этого будет не обойтись. И не только потому, что Дэниэльс – это его фамилия и называться его фамилией просто опасно, но еще и потому, что теперь в ее жизни его не будет. Теперь она снова станет собой, Рози Макклендон, той девочкой, которая в восемнадцать лет оказалась в аду и пропала. Конечно, она понимала, что раз она носит фамилию мужа, иногда ей так или иначе придется называться этой фамилией, но в душе – для себя – она все равно будет оставаться Рози Макклендон.
На самом деле, я Рози, подумалось ей, когда таксист выехал на мост Транкатоуни. Она улыбнулась словам Мориса Сендака и голосу Кэрол Кинг, которые плыли в ее сознании, точно бесплотные призраки. Настоящая Рози, вот так.
Но так ли это на самом деле?
Настоящая она или нет?
Вот и проверим, сказала она себе. И проверка уже начинается. Прямо здесь и сейчас.
На Ирокез-сквер таксист остановился и указал пальцем на ряд банкоматов, установленных прямо на площади, где еще был фонтан и какая-то блестящая хромированная скульптура, непонятно что изображавшая. Крайний слева банкомат был ярко-зеленого цвета.
– Этот сойдет? – спросил таксист.
– Да, большое спасибо. Я ненадолго, на пару минут.
Но она все-таки провозилась гораздо дольше. Сначала ей никак не удавалось набрать правильную комбинацию цифр пин-кода, хотя клавиши были такими большими, что не попасть по ним можно было только при сильном желании. Когда же Рози с грехом пополам справилась с набором пин-кода, она надолго задумалась, сколько снять денег. В конце концов остановилась на семидесяти пяти долларах. Набрала семь-пять-запятая-ноль-ноль, нерешительно положила палец на клавишу ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИЮ и тут же отдернула руку. Если Норман ее разыщет, он ее изобьет смертным боем. Это за то, что она убежала из дома. Но когда он узнает, что она украла его кредитку… и осмелилась снять с нее деньги, он ее измордует так, что она очень надолго заляжет в больницу. (Измордует – вопросов нет. Если вообще не убьет, явственно прозвучало в сознании. Он же запросто может тебя убить. И если ты, Рози, об этом забыла, то ты просто дура.) Тогда стоит ли рисковать жизнью ради каких-то паршивых семидесяти пяти долларов? Не маловато ли будет?
– Да, – пробормотала она и опять протянула руку к клавишам с цифрами. На этот раз она набрала три-пять-ноль-запятая-ноль-ноль… и вновь замерла в нерешительности. Она понятия не имела, сколько денег – «наличности», как любил говорить Норман, – лежит на счету на карточке. Но триста пятьдесят долларов – это уже очень приличная сумма. Когда Норман узнает, он просто взбесится…
Ее рука уже потянулась к клавише СБРОС/ПОВТОР, но тут Рози снова задумалась: а не все ли равно. Он в любом случае взбесится. Отступать уже поздно. Пути назад нет.
– Вы еще долго, мэм? – раздался у нее за спиной раздраженный голос. – А то у меня обеденный перерыв закончится.
– Ой, простите, пожалуйста. – Рози даже подпрыгнула от неожиданности. – Просто я тут… задумалась.
Она нажала на клавишу ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИЮ. На экране банкомата зажглась надпись ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ. Ждать надо было недолго, но и за эти несколько секунд в воображении Рози успела возникнуть такая картина: сейчас банкомат разразится пронзительным воплем сирены и синтезированный механический голос заорет на всю площадь «ЭТА ЖЕНЩИНА ВОРОВКА! ЗАДЕРЖИТЕ ЕЕ! ЭТА ЖЕНЩИНА ВОРОВКА!»
Но вместо того, чтобы изобличить ее в воровстве, банкомат высветил на экране «спасибо», пожелал ей приятного дня и выдал семнадцать двадцаток и одну десятку. Рози робко, не поднимая глаз, улыбнулась молодому человеку, который дожидался своей очереди у банкомата, и едва ли не бегом вернулась к такси.
Автовокзал представлял собой низкое просторное здание, выкрашенное в унылый песчаный цвет. Автобусы самых разных компаний – не только «Грейхаунда», но и «Трейлуэйз», «Американ пасфайндерс», «Истерн хайвейз» и «Континентал экспресс» – окружали его по периметру. Они стояли, уткнувшись мордами в посадочные платформы, и были похожи на откормленных хромированных поросят, присосавшихся к невообразимо уродливой свиноматке.
Рози остановилась у главного входа и заглянула внутрь. Там было вовсе не так многолюдно, как она и надеялась, и боялась (в толпе она бы чувствовала себя безопаснее, но с другой стороны, за четырнадцать лет, в течение которых она не общалась почти ни с кем, кроме собственного мужа и его сослуживцев, которых он изредка приглашал к ним на обед, у нее развилась хроническая агорафобия, боязнь открытого пространства). Народу было действительно маловато. Скорее всего потому что была середина недели: не выходной и не праздник. И все же на первый взгляд человек двести там было. Одни слонялись без дела по залу, другие просто сидели на старомодных деревянных скамейках с высокими спинками, кто-то мучил игровые автоматы, кто-то пил кофе в закусочной, кто-то стоял в очереди за билетом. Маленькие детишки ревели, как испуганные потерявшиеся телята, цеплялись за руки матерей и, запрокинув голову, разглядывали выцветшие узоры на потолке. Громкий раскатистый голос, отдающийся гулким эхом, как глас Божий в библейско-эпических фильмах Сесила Б. ДеМилля[1], объявлял по радио маршруты ближайших автобусов: Эри, Пенсильвания; Нашвилл, Теннесси; Джексон, Миссисипи; Майами, Флорида (бестелесный раскатистый голос произнес «Майама»); Денвер, Колорадо.
– Женщина, – окликнул ее усталый голос. – Послушайте, женщина. Помогите, чем можете, а?
Она обернулась и увидела бледного парня с гривой засаленных черных волос, который сидел на полу у главного входа, прижавшись спиной к стене. На коленях парень держал табличку: «БЕЗДОМНЫЙ, БОЛЬНОЙ СПИДОМ. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА».
– У вас ведь наверняка завалялась какая-то лишняя мелочь. Может, подкинете пару монет? Вы ведь будете жить, наслаждаться жизнью, кататься на катере по Саранаку, а меня и на свете уже не будет. Помогите несчастному, а?
Рози вдруг охватила какая-то странная полуобморочная слабость на грани умственной и эмоциональной перегрузки. Ей показалось, что здание автовокзала начало увеличиваться в размерах и стало огромным, как кафедральный собор. В беспорядочном движении людей по проходам и закоулкам гигантского зала было что-то зловещее. Мимо Рози прошел мужчина с безобразным сморщенным мешком кожи сбоку на шее, который подрагивал, как живой. Мужчина шагал, низко наклонив голову, и волочил за собой за лямку брезентовый рюкзак. Рюкзак шипел по-змеиному, скользя по грязному плиточному полу. Из рюкзака выглядывала голова игрушечного Микки Мауса с беззаботной улыбкой на рожице. Раскатистый «глас Божий» объявил по вокзалу, что экспресс компании «Трейлуэйз», следующий в Омаху, отправляется через двадцать минут – пассажиров просят пройти на посадку к выходу номер семнадцать.
Ничего у меня не получится, вдруг подумала Рози. Я не смогу… не смогу жить в этом мире. И дело не в том, чтобы знать или не знать, где лежат пакетики с чаем и средства для мытья посуды. Дверь, за которой он меня бил, все-таки отгораживала меня от всей этой безумной путаницы. И теперь мне уже никогда не вернуться обратно – в ту дверь.
На мгновение у нее в сознании вспыхнул поразительно яркий образ из детства. У них в классе в воскресной школе висела такая картина: Адам и Ева, прикрывающие наготу фиговыми листками, бредут босиком по каменистой тропе с одинаковым выражением стыда и отчаяния на лицах. Бредут навстречу горькому и бесцветному будущему. У них за спиной остались врата в райский сад, утопающий в буйстве цветов. Грозный крылатый ангел стоит перед запертыми вратами, и меч у него в руках сияет ужасным светом.
– Не смей так думать, не смей! – закричала она, и парень, сидевший у входа, испуганно вздрогнул и едва не уронил табличку. – Не смей, слышишь?!
– О Господи, вы уж меня извините, пожалуйста, – пробормотал он, закатив глаза. – Эко вас шандарахнуло, и я не думал…
– Нет-нет… это я не про вас… это я о своем…
До нее вдруг дошло, что она сейчас делает – пытается оправдаться перед нищим попрошайкой, который сидит у входа на автовокзал. Полный бред. Рози так и сжимала в руке два доллара – сдачу, которую дал ей таксист. Она швырнула их в коробку из-под сигар, что стояла у ног парня с табличкой, и вошла в здание автовокзала.
Еще один молодой человек – привлекательный прощелыга с крошечными усиками в стиле Эррола Флинна[2] на красивом, но не внушающем никакого доверия лице – пристроился у дальней стены главного зала и затеял прямо на чемодане игру в «угадай карту из трех», которую Рози узнала, потому что видела передачу по телевизору.
– Женщина, угадайте карту, – предложил он. – Пиковый туз. Которая из трех?
Рози представился кулак, направленный ей в лицо. Она его видела, как наяву. Видела золотое кольцо на среднем пальце – кольцо с выгравированной на нем надписью: Верная служба обществу.
– Нет, спасибо, – сказала она. – Это уже не мои проблемы.
Он посмотрел на нее, как на беглую пациентку дурдома. Но Рози это нисколечко не задело. Ей не было дела до этого парня. Как и до парня у главного входа, который якобы – а может, и вправду – болен СПИДом. Как и до мужчины с безобразным наростом на шее и Микки Маусом в рюкзаке. У нее хватает своих проблем. Ее проблема – это Рози Дэниэльс… то есть Рози Макклендон… и это ее единственная проблема.
Она зашагала вперед по центральному проходу, но увидела урну и остановилась. На круглом зеленом боку железной корзины красовалась выполненная по трафарету короткая надпись в повелительном наклонении: НЕ СОРИТЬ! Рози открыла сумочку, достала кредитную карточку, пару секунд подержала ее в руке и решительно опустила в урну. Ей было жалко выбрасывать карточку, но с другой стороны, ей сразу же стало гораздо легче. Если оставить карточку у себя, то в какой-то момент она просто не устоит перед искушением снова снять с нее деньги… а Норман ведь не дурак. Он жестокий, да. Но далеко не дурак. Не стоит давать ему никаких зацепок. Потому что иначе он ее точно найдет. И это надо иметь в виду.
Рози сделала глубокий вдох, на пару секунд задержала дыхание, потом резко выдохнула и направилась к расположенным в центре зала справочным автоматам, чтобы посмотреть расписание автобусов. Она шла не оглядываясь. А если бы оглянулась, то увидела бы, что парень с усиками в стиле Эррола Флинна уже роется в урне в поисках той штуковины, которую только что выкинула эта придурковатая дамочка в темных очках и с ярко-красным шарфом на шее. Ему показалось, что это была кредитка. Может быть, он и ошибся. Но проверить все-таки не помешает. А вдруг ему повезет? Ведь иногда человеку везет. Да что – иногда?! Очень часто везет. Не зря же Америку называют Землей возможностей.
До ближайшего большого города в западном направлении было всего двести пятьдесят миль. Рози решила, что для нее это слишком близко. Она остановилась на следующем большом городе, на пятьсот пятьдесят миль подальше. Этот город тоже располагался на берегу озера, как и ее родной город, но в другом часовом поясе. Автобус – «Континентал экспресс» – отправлялся туда через полчаса. Она прошла к кассам и встала в очередь. Сердце отчаянно колотилось в груди, во рту пересохло. Когда мужчина, стоявший в очереди перед ней, уже отходил от окошка с билетом, ей пришлось закрыть рот ладонью, чтобы заглушить отрыжку, которая обожгла горло привкусом выпитого с утра кофе.
Сейчас тебе лучше не называться ни тем, ни другим своим именем, сказала она себе. Если в кассе попросят назвать твое имя, назовись как-нибудь по-другому.
– Я вас слушаю, мэм. – Кассир взглянул на нее поверх смешных половинчатых очков, опасно повисших на самом кончике носа.
– Анджела Флайт, – выпалила она. Так звали ее лучшую подругу. Еще в начальной школе. А после Анджелы у Рози и не было никаких друзей. Потому что в обрейвилльской средней школе она познакомилась с парнем, за которого вышла замуж через неделю после выпускного, и они с ним создали маленькое государство «на двоих»… государство, границы которого были закрыты для туристов.
– Простите, мэм?
Рози с ужасом сообразила, что вместо названия города, куда ей надо ехать, она назвала кассиру имя человека. Можно представить
(он, наверное, украдкой поглядывает на мои запястья и шею: не осталось ли там следов от смирительной рубашки),
как странно это прозвучало. Она так смутилась, что вся покраснела. Ей действительно было ужасно неловко. Она попыталась собраться с мыслями и привести их хотя бы в подобие порядка.
– Извините, – пробормотала она, и ее охватило одно неприятное и пугающее предчувствие: что бы ни ждало ее в будущем, это простое и жалкое слово будет тянуться за ней по пятам, как консервная банка, привязанная к хвосту бродячей собаки. Она четырнадцать лет прожила за дверью, которая наглухо отгораживала ее от мира, и теперь она чувствовала себя как перепуганная мышь, которая перепутала норки и сунулась в чужой дом.
Кассир по-прежнему смотрел на нее поверх забавных половинчатых очков, и теперь в его взгляде читалось сдержанное раздражение.
– Так я могу что-нибудь для вас сделать, мэм?
– Да, пожалуйста. Мне нужен билет на автобус, который уходит в одиннадцать ноль пять. Там еще есть места?
– Штук сорок, я думаю. Вам туда и обратно или только туда?
– Только туда. – Рози снова почувствовала, что краснеет. Она вдруг поняла, насколько значимыми и решающими были эти слова. Она попыталась выдавить из себя улыбку и повторила, стараясь, чтобы слова прозвучали не так весомо, как в первый раз: – Только туда, пожалуйста.
– С вас пятьдесят девять долларов семьдесят центов, – сказал кассир, и у нее все внутри перевернулось от облегчения. Она ожидала, что билет будет стоить гораздо дороже. Она уже приготовилась к тому, что ей придется потратить почти все деньги, которые у нее были.
– Спасибо.
Должно быть, кассир распознал в ее голосе нотки искренней благодарности, потому что он оторвался от бланка, который уже приготовился заполнять, и улыбнулся ей. И в его глазах больше не было ни раздражения, ни настороженности.
– Всегда рад помочь. Ваш багаж, мэм?
– Я… у меня нет багажа, – растерялась Рози и вдруг поняла, что боится его взгляда. Она попыталась придумать какое-то более или менее убедительное объяснение – наверняка это звучит подозрительно: одинокая женщина уезжает в далекий город безо всякого багажа, с одной только дамской сумочкой, – но ничего подходящего в голову не приходило. Однако, взглянув на кассира, она поняла, что никаких объяснений не нужно. Кассир не нашел в ее словах ничего подозрительного. Он даже не проявил ни малейшего любопытства. Он просто кивнул и принялся заполнять бланк билета. Рози вдруг сообразила, в чем тут дело. Вот только приятного в этом не было ничего. Таких, как она, в Портсайде навидались достаточно. Наверное, этот кассир чуть ли не каждый день продает билеты женщинам вроде нее – женщинам, которые прячут глаза за стеклами темных очков, покупают билеты в далекие города в других часовых поясах и выглядят так, словно они потеряли себя и забыли, что они делают и зачем.
Рози испытала несказанное облегчение, когда автобус отъехал от здания автовокзала (точно по расписанию), повернул налево, переехал через мост Транкатоуни и вырулил на шоссе I-78. Когда они проезжали мимо последнего из трех съездов в город, Рози увидела треугольное здание со стенами из сплошного стекла. Новый центральный офис полицейского управления. Ей вдруг пришло в голову, что вполне может так получиться, что сейчас муж сидит у себя в кабинете за одним из этих громадных окон и даже смотрит в окно на большой междугородний автобус, который едет на запад по федеральной скоростной автостраде. Она закрыла глаза и медленно сосчитала до ста. А когда снова открыла глаза, здание полицейского управления осталось уже позади. И будем надеяться, что навсегда.
В автобусе Рози села сзади, поближе к последнему ряду. У нее за спиной тихо гудел дизельный двигатель. Она снова закрыла глаза и прислонилась щекой к стеклу. Заснуть у нее не получится. Она слишком взвинчена, чтобы заснуть. Но отдохнуть все-таки не помешает. Потому что она уже чувствовала, что в ближайшее время у нее будет мало возможностей отдохнуть. А вот сил ей понадобится немало. Она до сих пор поражалась тому, как внезапно и быстро всё переменилось. Это было похоже, скорее, на острый сердечный приступ или удар. Но уж никак не на перемену в жизни. И «перемену» – это еще мягко сказано. Она не просто переменила жизнь, она вырвала прошлое с корнем, как фиалку из горшка. Ничего себе перемена… Нет, сейчас она не заснет. Ни за что.
И с этой мыслью она погрузилась в дрему – то самое мягкое забытье на грани яви и сна, когда ты еще не спишь, но уже не воспринимаешь реальность. Она плыла в этом зыбком пространстве, как легкий пузырек воздуха, смутно осознавая звуки, доносящиеся извне: ровный гул двигателя, шелест шин по асфальту, звонкий голос ребенка, который сидел в четырех-пяти рядах впереди, – он расспрашивал маму, долго ли им еще ехать до тети Нормы. И в то же время ее захватило странное ощущение, что она как бы вышла за пределы себя, и теперь ее больше ничто не связывает, и ее сознание раскрылось, как цветок (разумеется, роза), – раскрылось, как это бывает только на грани яви и сна, когда ты уже засыпаешь, но еще сознаешь себя.
На самом деле, я Рози…
Голос Кэрол Кинг поет песню на слова Мориса Сендака. Голос плывет в коридоре пространства, где сейчас Рози. Он доносится словно издалека. Отдается звенящим эхом в сопровождении хрупкой и призрачной музыки.
…настоящая Рози, вот так…
Похоже, я все-таки засыпаю, подумала она. Я засыпаю. Подумать только!
Со мной шутки плохи, приятель… Прими это просто как факт…
Серый призрачный коридор исчез, и она оказалась уже под открытым небом. В каком-то месте, где было темно. В ноздри ударили запахи лета – сладкие, сильные запахи, которые переполнили ее всю. Среди них особенно выделялся аромат жимолости, медленно расплывающийся в пространстве. Где-то в темноте стрекотали сверчки, и когда Рози подняла глаза, она увидела в небе луну, похожую на лицо, вырезанное из отполированной кости. Ее белый свет был везде. И в лунном свете туман, поднимавшийся от спутанных трав под ее босыми ногами, казался белесым дымом.
На самом деле, я Рози… настоящая Рози, вот так…
Она сложила ладони чашечкой, так что они почти соприкасались большими пальцами, подняла руки над головой и взяла луну в рамочку, как картину. И когда легкий ночной ветерок ласково погладил ее по рукам, ее сердце на миг переполнилось радостью, а потом сжалось от страха. Она почувствовала дремлющую жестокость этого места, как будто где-то поблизости в дурманяще ароматных травах притаились свирепые хищные звери с большими зубами.
Роза. Иди сюда, девочка. Нам надо поговорить. Очень серьезно поговорить.
Она обернулась и увидела, как его кулак несется к ней из темноты. Ледяные подтеки лунного света поблескивали на золотом кольце выпускника Полицейской академии. Она увидела, как его губы растянулись в подобие страшной улыбки…
…и, вздрогнув, проснулась. Она сидела в автобусе, на своем месте, прижимаясь щекой к стеклу. Лоб покрылся испариной. Дышала она тяжело, надрывно. Наверное, так продолжалось достаточно долго, потому что стекло почти все запотело от ее дыхания и сквозь него ничего не было видно. Она провела по стеклу ладонью и выглянула в образовавшийся просвет. Они уже почти выехали из города. За окном все еще тянулись бесконечные ряды пригородных автозаправочных станций и закусочных, но за ними уже виднелись поля.
Я ушла от него, думала она. Не важно, что будет со мной потом, главное, я от него ушла. Даже если теперь мне придется ночевать в подъездах или где-нибудь под мостом, но я все-таки от него ушла. Он больше уже никогда меня не ударит, потому что я от него ушла.
Но она вдруг поняла, что и сама до конца в это не верит. Он придет в ярость, когда узнает. И будет пытаться ее разыскать. В этом Рози ни капельки не сомневалась.
Он меня не найдет. Не найдет. Я не оставила никаких следов. Мне даже не пришлось называться именем школьной подруги, когда я покупала билет. Кредитку я выбросила, а это самое главное. Как он меня найдет? Никак не найдет…
И все же она боялась… он полицейский, и это его работа – искать пропавших людей. Ей надо быть осторожнее. Да, осторожнее.
На самом деле, я Рози… настоящая Рози, вот так…
Да, наверное, все это правильно. Вот только она себя чувствовала далеко не такой крутой, как героиня песни. Наоборот. Она себя чувствовала жалким обломком кораблекрушения в открытом море. Ужас, который она испытала под конец своего краткого сна, не исчез с пробуждением. Но, кроме страха, было и приятное возбуждение. И радость, и пьянящее ощущение если не силы, то хотя бы свободы.
Она откинулась на высокую спинку сиденья и стала смотреть в окно. Последние закусочные и магазины остались позади. Теперь за окном был уже настоящий сельский пейзаж: недавно вспаханные поля и деревья, подернутые той изумительной дымкой молодой зелени, которая бывает только в апреле. Она смотрела в окно, сцепив руки в замок на коленях, а большой серебристый автобус уносил ее навстречу пока еще неизвестному будущему.
II. Добрые люди
В первые недели новой жизни у Рози было немало неприятных моментов, но даже в самый, наверное, жуткий из них – когда она в три часа ночи вышла из автобуса в чужом незнакомом городе и вошла в здание автовокзала, который был раза в четыре больше портсайдовского, – она не жалела о своем решении.
Хотя ей было страшно.
Она встала у самых дверей выхода номер шестьдесят два, крепко сжимая сумку обеими руками и глядя дикими глазами на толпу людей, которые проходили мимо. Кто-то тащил за собой чемодан на колесиках, кто-то нес на плече коробку, перевязанную бечевкой. Парочки шли обнявшись: парни обнимали своих подруг за плечи, девушки обнимали парней за талию. Какой-то мужчина бросился к женщине, которая приехала на том же автобусе, что и Рози, обнял ее, сгреб в охапку, приподнял над полом и бешено закружил. Женщина вскрикнула от испуга, но испуганный крик тут же сменился восторженным воплем, который полыхнул, как фотовспышка, в переполненном суетой зале прибытия.
Вдоль правой стены тянулся длинный ряд игровых автоматов, и, несмотря на столь поздний час, буквально у каждого автомата толпились детишки – почти все в бейсболках с козырьком, сдвинутым на затылок, и с растрепанными волосами, выбивавшимися из-под кепок. «Попробуй еще раз, стажер-астронавт! – проскрежетал нечеловеческим синтезированным голосом ближайший к Рози автомат. – Попробуй еще раз, стажер-астронавт! Попробуй еще раз, стажер-астронавт!»
Рози медленно прошла мимо игровых автоматов и вошла в главный зал автовокзала. Она не знала, что делать дальше. Но одно она знала твердо: никогда в жизни она не решится выйти на улицу в такой поздний час. Она почему-то не сомневалась, что стоит ей выйти из здания автовокзала, как ее тут же изнасилуют, убьют и запихают в ближайший мусорный бак. Она взглянула налево и увидела двух полицейских, которые спускались по эскалатору с верхнего этажа. Один из них небрежно вертел в руках резиновую дубинку, а второй улыбался неприятной, жестокой улыбкой, которая сразу напомнила Рози про человека, который остался в другом городе в восьмистах милях отсюда. Он тоже так улыбался: одними губами. А в его настороженных бегающих глазах не было и тени улыбки.
А вдруг они каждый час-полтора проверяют людей на вокзале и выпроваживают на улицу всех, у кого нет билетов? И что ты тогда будешь делать?
Если такая проблема возникнет, она как-нибудь с ней разберется. Проблемы надо решать по мере их поступления. А пока что Рози отошла от эскалатора и направилась в отгороженный закуток, где стояли жесткие пластиковые кресла с небольшими телевизорами, закрепленными на ручках. Здесь можно было посидеть и посмотреть телевизор, который включался автоматически, если опустить монетку в специальную прорезь. Народу там было немного, человек десять – двенадцать. На ходу Рози украдкой поглядывала на полицейских. К ее несказанному облегчению, они пошли совершенно в другую сторону. Часа через два с половиной – максимум через три – на улице будет уже светло. Вот тогда, если ее попросят на выход, она возражать не будет. По пока не рассвело, она собиралась оставаться на вокзале, где горит свет и где много людей.
Рози уселась в одно из кресел с телевизором. Через два кресла слева сидела девушка в вытертой джинсовой куртке. Она дремала, держа на коленях рюкзак. Наверное, ей что-то снилось. Потому что ее глаза передвигались под веками, густо закрашенными фиолетовыми тенями. С нижней губы стекала серебристая струйка слюны. На правой руке у нее была броская татуировка. Четыре слова, набитые ярко-синими прописными буквами: Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО ЛЮБИМОГО. Ну и где он теперь, твой любимый, милая? – подумала Рози. Она скользнула взглядом по пустому экрану выключенного телевизора и уставилась на стену справа. На стене красовались размашистые слова, выведенные красным маркером: ОТСОСИ МОЙ ТУХЛЫЙ ЧЛЕН. Рози поспешно отвела глаза, как будто эти слова могли сжечь ей сетчатку, если смотреть на них слишком долго. Она обвела взглядом зал. На дальней стене висели огромные подсвеченные часы. 3:16 утра.
Еще два с половиной часа, и я смогу выйти, подумала Рози и стала ждать, когда пройдут эти два с половиной часа.
Рози ужасно хотелось есть. В последний раз она ела еще вчера, часов в шесть вечера, когда автобус остановился на полчаса у придорожной закусочной. Она купила себе чизбургер и бутылочку лимонада и с тех пор не ела вообще ничего. Она просидела в «телекресле» до четырех часов, а потом решила, что все-таки надо бы перекусить. Рядом с окошками касс был небольшой кафетерий. Туда-то она и направилась, переступая через людей, которые спали прямо на полу. Многие спящие прижимали к себе большие пластиковые мешки для мусора, набитые до отказа и перехваченные клейкой лентой. В кафетерии Рози взяла себе кофе, сок и миску рисовых хлопьев. Она уже поняла, что зря беспокоилась из-за того, что ее – безбилетницу – могут выгнать из здания на улицу. Эти люди, спящие на полу, никуда ехать не собирались. Это были бездомные бродяги, которые ночевали в здании автовокзала. Ей было их жалко, действительно жалко. Но в то же время ей было приятно знать, что у нее тоже будет где переночевать, если назавтра она не найдет ничего более подходящего. Извращенное утешение, но все же.
А если он приедет сюда, в этот город, куда он пойдет первым делом? Как ты думаешь, откуда он начнет поиски?
Но это же глупо. Он ее не найдет. Он просто не сможет ее разыскать. И тем не менее при одной только мысли о том, что муж будет ее искать, Рози пробрал озноб.
Перекусив, она сразу почувствовала себя лучше. Сил заметно прибавилось, а спать расхотелось. Она еще долго сидела за столиком и неторопливо пила свой кофе, пока не заметила, что помощник официанта, парнишка-чиканос, поглядывает на нее с нескрываемым раздражением (так ему нетерпелось убрать со стола). Рози быстро допила кофе и направилась обратно в свой закуток с «телекреслами». По пути, рядом с офисом по прокату автомобилей, она увидела киоск с неоновой вывеской в виде синего с белым круга. По верхней синей полоске круга шла надпись: ПОМОЩЬ В ДОРОГЕ. Не без горькой иронии Рози подумала, что если на этом вокзале, да и вообще в целом мире и есть человек, который действительно остро нуждается в помощи, то этот человек – она.
Она шагнула к киоску со спасательным кругом. Внутри сидел человек – мужчина средних лет в толстых роговых очках и с заметно редеющими волосами. Он читал газету. Рози сделала еще шаг по направлению к киоску и снова остановилась. Ведь она же не собирается обращаться к нему за помощью, правда? Что она ему скажет?! Что она убежала от мужа? Что она вышла из дома буквально в том, в чем была, даже не причесавшись и захватив только сумку и кредитную карточку?!
А почему нет? – явственно прозвучал в сознании издевательский голос миссис Сама Рассудительность, в котором не было ни грана сочувствия. Рози аж вздрогнула, как от пощечины. Начнем с того, что уж если тебе хватило решимости от него уйти, то почему же тебе не хватает смелости откровенно признаться в своем проступке?
Рози не знала, хватит ей смелости или нет, но она знала одно: ей будет трудно рассказывать незнакомому человеку о самом важном событии своей жизни, да еще в пятом часу утра. И потом, все равно может так получиться, что он меня просто пошлет куда подальше. Может быть, он здесь сидит для того, чтобы объявлять по вокзалу о потерявшихся детишках или помогать людям, которые потеряли билет.
Но ноги как будто сами несли ее в направлении киоска «Помощь в дороге», и Рози вдруг поняла, что действительно собирается поговорить с этим незнакомым мужчиной в роговых очках и с редеющими волосами. Да, она собирается с ним поговорить. По одной очень простой причине: у нее просто нет выбора. Ей, наверное, еще не раз предстоит разговаривать с незнакомыми людьми и рассказывать им о том, что она сбежала от мужа, что целых четырнадцать лет она прожила как во сне – за закрытой дверью, – что она совершенно не разбирается в жизни и почти ничего не умеет делать, что ей нужна помощь и что ей остается надеяться только на доброту и сердечность посторонних людей.
Но во всем этом нет моей вины, правильно? – подумала Рози и сама поразилась своему спокойствию.
Она подошла к киоску и, вцепившись одной рукой в ремешок сумки, положила свободную руку на стойку. Она с надеждой и страхом смотрела на склоненную голову человека в роговых очках. Сквозь редеющие волосы, аккуратно расчесанные тонкими прядками, просвечивала загорелая кожа в веснушках. Рози ждала, когда он оторвется от своей газеты, но он, кажется, зачитался. Газета была иностранной, и буквы были какие-то непонятные: то ли греческие, то ли русские. Мужчина бережно перевернул страницу и нахмурился, глядя на фотографию двух футболистов, которые боролись друг с другом за мяч.
– Простите, пожалуйста, – несмело выдохнула Рози, и мужчина поднял голову.
Пусть глаза у него будут добрыми, вдруг подумала она. Даже если он мне не сможет ничем помочь, пусть глаза у него будут добрыми… и пусть он увидит меня, меня – настоящего человека, который стоит перед ним и которому не за что уцепиться, кроме как за ремешок этой сумки.
Она заглянула ему в глаза, и глаза у него были добрыми. Близорукие и расплывчатые за толстыми стеклами очков, они все-таки были добрыми.
– Мне так неудобно, но может быть, вы мне поможете? – выдавила она.
Сотрудник службы «Помощь в дороге» представился Питером Словиком. Он очень внимательно выслушал Рози и ни разу ее не перебил. Она рассказала ему почти все, потому что, подумав, пришла к заключению, что нельзя полагаться на доброе расположение незнакомых людей, если ты в разговоре с ними будешь неискренней и утаишь хотя бы часть правды о себе – от стыда или из гордости, все равно. Она рассказала ему почти все, кроме одной очень важной вещи. Но она просто не знала, как выразить это словами. Как выразить ощущение полной незащищенности. Как объяснить, что она себя чувствует неготовой к тому, чтобы жить в этом мире. Ведь только в последние восемнадцать часов до нее начало доходить, что она совершенно не знает жизнь – почти все, что она знает о жизни, она знает лишь по телепередачам и по газетам, которые муж приносил домой.
– Как я понимаю, вы уезжали, не думая ни о чем. Просто поддались порыву, – сказал мистер Словик. – Но пока вы ехали в автобусе, вы, наверное, успели подумать о том, что вы будете делать и куда вы пойдете, когда доберетесь до нужного места. Есть какие-то мысли?
– Я подумала, может быть, я для начала найду гостиницу. Знаете, только для женщин. Такие еще остались?
– Да, у нас в городе я знаю три. Только в самой дешевой из них цены такие, что вас разорят за неделю. Это дорогие гостиницы для состоятельных дам, которые приезжают в город, чтобы развеяться – походить по магазинам… или в гости к родным, которые не имеют возможности поселить их у себя.
– Ага, – приуныла Рози. – А если мне обратиться в Ассоциацию молодых христианок?
Мистер Словик покачал головой:
– Их последнее общежитие закрылось еще в девяностом году. У них были большие проблемы со всякими психованными и наркоманками. В общем, пришлось закрыться.
Ее охватила секундная паника, но потом она вспомнила о тех людях, которые спят на полу, обнимая во сне перетянутые клейкой лентой мусорные мешки со своим нехитрым имуществом. В крайнем случае буду спать здесь, сказала она себе.
– А у вас есть какие-нибудь предложения? – спросила она.
Пару секунд он просто смотрел на нее, задумчиво постукивая по нижней губе кончиком шариковой авторучки, – самый обыкновенный мужчина, плюгавенький, с непримечательным лицом и водянистыми невыразительными глазами, который, однако, увидел ее и поговорил с ней, а не послал куда подальше. И еще он не сказал, чтобы я наклонилась поближе к нему, потому что он хочет поговорить со мной очень серьезно, добавила она про себя.
Словик, похоже, принял решение. Он расстегнул свой пиджак (скромный полиэстеровый пиджачок из магазина готового платья, который явно знал лучшие времена) и достал из внутреннего кармана визитную карточку. На той стороне, где под логотипом «Помощи в дороге» было отпечатано его имя, он вывел адрес – аккуратными печатными буквами. Потом он перевернул карточку и расписался на чистой стороне. Он писал так размашисто, что роспись едва уместилась на карточке. Рози стало смешно. Эта роспись напомнила ей один случай из американской истории, который они разбирали на школьном уроке. Учитель рассказывал, почему Джон Хэнкок, подписываясь под Декларацией Независимости, написал свое имя такими большими буквами. «А чтобы король Георг прочитал без очков», – якобы заявил Джон Хэнкок.
– Я разборчиво написал? – спросил мистер Словик, протягивая Рози карточку. – Вы разберете адрес?
– Дарем-авеню, 251.
– Замечательно. Положите ее к себе в сумочку и постарайтесь не потерять. Когда вы придете на место, может так получиться, что вас попросят ее показать. Сразу вам объясню, куда я вас направляю. Это что-то вроде приюта. Убежище для женщин, которые слишком многого натерпелись в жизни. Называется «Дочери и сестры». Заведение уникальное в своем роде. Судя по тому, что вы мне рассказали, вас там должны принять.
– А долго мне можно будет там оставаться?
Он пожал плечами:
– Я так думаю, все зависит от каждого конкретного случая.
Так вот кто я теперь, не без горечи подумала Рози. Конкретный случай.
Наверное, он догадался, о чем она думает, потому что он улыбнулся. Его улыбка была некрасивой – скорее всего из-за некрасивых зубов, – но зато теплой и искренней. Он прикоснулся к ее руке. Немного неловко и робко. И тут же отдернул руку.
– Знаете, миссис Макклендон, если муж издевался над вами так, как вы говорите, то ваша жизнь уже повернулась к лучшему… вы сами ее изменили к лучшему, что бы ни ждало вас впереди.
– Да, – сказала она. – Я тоже так думаю. В конце концов, если меня там не примут и я ничего себе не найду, я ведь всегда могу переночевать здесь на полу, правильно?
Он аж скривился:
– Ну до этого, я думаю, не дойдет.
– В жизни всякое может случиться. – Она кивнула в сторону двоих бездомных, которые спали, прижавшись друг к другу, на пальто, расстеленных с краешка на скамейке. Один из них натянул на лицо грязную оранжевую кепку, чтобы закрыться от света, который здесь никогда не гасили.
Пару секунд Словик смотрел на них, потом перевел взгляд обратно на Рози.
– До этого не дойдет, – повторил он уже увереннее. – Городские автобусы останавливаются прямо у главного входа. Выйдете, повернете налево и сразу увидите остановку. Там все очень просто. Участки тротуара раскрашены в разные цвета в соответствии с автобусными маршрутами. Вам нужна оранжевая линия, поэтому ждите автобуса на оранжевом островке. Понятно?
– Да.
– Билет стоит доллар. Водители очень не любят возиться со сдачей. Так что лучше вам дать ему ровно доллар.
– У меня есть мелкие деньги.
– Хорошо. Выйдете на углу Дирборн и Эльк-стрит, подниметесь по Эльк-стрит два квартала… или три, точно не помню. В любом случае не потеряетесь – выйдете к Дарем-авеню. На Дарем повернете налево. Пройдете еще четыре квартала, но это недалеко. Увидите большой белый дом. Я бы сказал, что фасад нуждается в покраске, но, возможно, его уже и покрасили, я не знаю. Вы все запомнили?
– Да.
– И еще одно. Оставайтесь в здании автовокзала, пока на улице не рассветет. И пока не рассвело, никуда отсюда не выходите – даже на автобусную остановку.
– Я как раз и собиралась дождаться рассвета, – сказала она.
В автобусе «Континентал экспресс», который привез ее в этот город, ей удалось поспать всего два-три часа, да и то урывками, и поэтому вовсе неудивительно, что, когда она сошла с городского автобуса оранжевой линии, с ней случилось именно то, что случилось: она заблудилась. Уже потом Рози решила, что она, наверное, с самого начала ошиблась и пошла не в ту сторону по Эльк-стрит, но тогда ее меньше всего волновали причины. Тогда ее больше всего волновал результат – почти три часа бесполезных блужданий по незнакомым улицам. Квартал за кварталом. Она искала Дарем-авеню, но никак не могла найти. Ноги гудели. Поясница заныла. Голова разболелась. И она уже поняла, что здесь ей никто не поможет. Никакой Питер Словик. Здесь таких просто нет. Прохожие либо вообще не обращали на нее внимания, либо украдкой поглядывали на нее с недоверием, подозрением, а то и вовсе с откровенным презрением.
Вскоре после того, как Рози вышла из автобуса, она прошла мимо грязного и явно бандитского бара под названием «Пропусти рюмочку». Жалюзи на окнах были опущены, пивные рекламные вывески не горели, дверь закрывала решетка. Когда минут двадцать спустя она вышла к тому же бару (и только тогда поняла, что ходит кругами: все дома казались ей одинаковыми), жалюзи по-прежнему были опущены, но рекламные вывески закрылись и решетку на двери убрали. В дверном проеме, прислонившись спиной к косяку, стоял мужчина в рабочем комбинезоне и с кружкой пива в руке. Рози глянула на часы. Половина седьмого утра.
Она опустила голову, так чтобы даже случайно не встретиться взглядом с мужчиной, еще крепче вцепилась в ремешок сумочки и прибавила шагу. Наверняка этот мужчина у бара знает, где Дарем-авеню, но ей совсем не хотелось его расспрашивать. Он был слишком похож на человека, который любит поговорить с людьми – и особенно с женщинами – очень серьезно.
– Эй, крошка, – окликнул он Рози, когда она проходила мимо «Пропусти рюмочку». Его голос звучал безо всякого выражения, как голос говорящего автомата. И хотя Рози совсем не хотелось смотреть на этого человека, она все-таки оглянулась через плечо и бросила в его сторону быстрый испуганный взгляд. У него были жидкие волосы, очень бледное лицо в россыпи родинок или шрамов, похожих на не до конца зажившие ожоги, и рыжие длинные свисающие усы, как у Дэвида Кросби[3], на которых белели капельки пивной пены. – Эй, крошка, не хочешь зайти пропустить стаканчик ты ничего себе так симпатявая даже очень шикарные сиськи ну чего скажешь не хочешь чуток поразвлечься я бы тебе впялил сзади давай заходи позабавимся ну чего скажешь?
Она отвернулась и пошла дальше, заставляя себя идти спокойно, не убыстряя шагов. Она низко склонила голову, как женщина-мусульманка, которая вышла на рынок одна, и заставила себя сделать вид, что она его не замечает. А то бы он запросто мог увязаться следом за ней.
– Эй крошка постой как насчет встать на карачки что скажешь? Мы бы по-быстрому перепихнулись я бы тебе впялил сзади давай заходи мы по-быстрому.
Она завернула за угол и с облегчением вздохнула. Вздох, как живой, вырвался из груди судорожным рывком. Сердце испуганно колотилось в груди. До этой секунды она даже и не вспоминала о своем родном городе и о знакомом квартале, но теперь ее страх перед мужчиной в дверях грязного бара и ощущение полной потерянности и дезориентации – ну почему эти дома такие одинаковые, почему? – пробудили в ней если и не тоску по дому, то, во всяком случае, что-то очень похожее. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой одинокой. И она уже не сомневалась, что дальше будет еще хуже. Ей вдруг пришло в голову, что вполне может так получиться, что она никогда не вырвется из этого кошмара – что все, что происходит с ней сейчас, это просто генеральная репетиция той жизни, которая ждет ее впереди. И что теперь так будет всегда. Под конец у нее зародилось совсем уже нехорошее подозрение, что в этом городе и нет никакой Дарем-авеню; что мистер Словик из «Помощи в дороге» на самом деле не такой добрый и славный, каким он ей показался, – может быть, он вообще психопат-извращенец с садистским уклоном, который развлекается тем, что отправляет таких вот растерянных и несчастных людей бродить по незнакомому городу, чтобы «жизнь медом не казалась».
В четверть девятого по ее часам – солнце давно уже встало, и день обещал быть не по сезону жарким – Рози прошла мимо одного дома, у подъездной дорожки к которому толстая женщина в старом домашнем халате неторопливо складировала на тележку пустые мусорные баки. Все ее движения были исполнены величавого достоинства, как будто она исполняла какой-то священный ритуал.
Рози подошла поближе и сняла темные очки.
– Простите, пожалуйста.
Женщина резко обернулась и исподлобья взглянула на Рози. Взгляд у нее был недобрый и хмурый, а на лице застыло жесткое и воинственное выражение, какое бывает у женщин, которым приходится вечно выслушивать оклики типа «корова ты жирная» с той стороны улицы или из проезжающих мимо автомобилей.
– Чего надо?
– Я ищу дом номер двести пятьдесят один на Дарем-авеню, – сказала Рози. – Такое место. Называется «Дочери и сестры». Мне объясняли, как туда попасть, но я, наверное…
– Что?! Лесбиянки паршивые, которые на пособие живут – ни хрена не делают?! Ты ко мне не по адресу, девочка. Мне этой мерзости даром не надо. Катись-ка ты лучше отсюда к такой-то матери. Давай отгребывай.
Женщина отвернулась и – все так же медленно и величаво – покатила тележку к дому, придерживая гремящие баки пухлой белой рукой. Ее огромные ягодицы под вылинявшим халатом колыхались, как студень, при каждом шаге. У крыльца она остановилась и обернулась к Рози:
– Ты что, глухая?! Тебе говорю. Отгребывай подобру-поздорову. А то щас полицию вызову.
Слово «полиция» было как удар по чувствительному месту. Рози поспешно надела темные очки и пошла прочь. Полицию?! Нет уж, спасибо. Вот только полиции ей сейчас и не хватает для полного счастья. Но потом – через пару кварталов, когда она отошла подальше от бесноватой толстухи, – Рози вдруг поняла, что на самом-то деле ей стало легче. По крайней мере она убедилась, что «Дочери и сестры» (известные в некоторых кварталах как лесбиянки паршивые, которые на пособие живут – ни хрена не делают) действительно существуют. А это кое-что. Пусть один шаг, но все-таки в правильном направлении.
Еще через два квартала ей попался небольшой магазинчик со стойкой для велосипедов у входа и вывеской в окне: ГОРЯЧИЕ СВЕЖИЕ БУЛОЧКИ. Рози зашла в магазин, купила булочку – действительно свежую и горячую; мама пекла точно такие же, – и спросила у продавца, как пройти на Дарем-авеню.
– Вы слегка сбились с пути, – сказал он.
– Слегка – это как?
– Мили на две, я думаю. Идите, я вам покажу.
Он положил костлявую руку ей на плечо, подвел к входной двери и указал на оживленный перекресток всего в квартале от булочной.
– Вот это Дирборн-авеню.
– О Господи, правда? Так она совсем рядом?! – Рози не знала, плакать ей или смеяться.
– Ага. Вот только загвоздка в том, что Старушка Ди тянется почти через весь город. Видите тот заколоченный кинотеатр?
– Да.
– Доходите до него и поворачиваете на Дирборн направо. Пройти надо будет кварталов шестнадцать, если не все восемнадцать. Пешком – удовольствие ниже среднего. Так что езжайте-ка вы на автобусе, всяко лучше.
– Да, на автобусе лучше, – сказала Рози, хотя знала, что пойдет пешком. У нее совсем не осталось мелочи, и если водитель автобуса начнет возмущаться, что ему надо возиться со сдачей, она просто не выдержит и заплачет. (Ее мысли путались от усталости, и ей даже в голову не пришло, что продавец, с которым она сейчас разговаривает, разменял бы ей доллар без всяких проблем.)
– Вы доедете до…
– …до Эльк-стрит.
Он взглянул на нее с раздражением:
– Что же вы, девушка?! Если вы сами все знаете, то зачем было спрашивать?!
– Ничего я не знаю, – выпалила она. В голосе старика не было никакой злобы, да и особенного раздражения тоже, но глаза все равно защипало от слез. – Ничего я не знаю! Я тут брожу по кварталам не первый час, я устала, и я…
– Ну хорошо, хорошо, – сказал он. – Вы успокойтесь, пожалуйста. Не горячитесь. Все будет в порядке. Выйдете из автобуса у Эльк-стрит. Пройдете вперед два или три квартала. И выйдете прямо к Дарем-авеню. Просто, как сапог. У вас адрес-то точный есть?
Рози молча кивнула.
– Ну вот и славно, – заключил продавец. – Теперь-то вы точно уже не заблудитесь.
– Спасибо.
Старик достал из заднего кармана мятый, но чистый носовой платок и протянул его Рози:
– Вот возьмите и вытрите под глазами, милая. А то у вас тушь потекла.
Она медленно шла по Дирборн-авеню, почти не замечая автобусов, которые с пыхтением проезжали мимо. Через каждые один-два квартала она отдыхала на скамейках автобусных остановок. Головная боль, которая возникла скорее всего из-за сильных переживаний и чувства полной растерянности, прошла, зато ноги и поясница разболелись еще сильнее. До Эльк-стрит Рози дошла за час. Там она повернула направо и спросила у первой же встречной женщины – совсем молодой и беременной, – правильно ли она идет к Дарем-авеню.
– Отвали, – рявкнула молодая женщина, и глаза ее вспыхнули такой яростью, что Рози невольно попятилась.
– Извините, пожалуйста.
– Извините, пожалуйста! Мне твои извинения, знаешь до какого места?! Да что ты вообще до меня докопалась со своими расспросами?! Отвали-ка ты лучше.
Она оттолкнула Рози с такой неожиданной силой, что та едва не упала на проезжую часть. Онемев от изумления, Рози тупо уставилась вслед молодой женщине, потом отвернулась и пошла дальше своей дорогой.
По Эльк-авеню она шла еще медленнее. Это была улица маленьких магазинчиков. Химчистки, цветочные лавки, гастрономы с корзинами фруктов, выставленными прямо на улицу перед входом, и магазинчики канцтоваров громоздились буквально один на другой. Рози валилась с ног от усталости. Она не знала, надолго ли ее хватит. Быть может, еще немного – и она просто упадет. Прямо здесь, посреди улицы. Не в силах не то что идти, а вообще стоять. Она немного воспряла духом, когда вышла к Дарем-авеню, но это воодушевление быстро иссякло. Куда мистер Словик сказал повернуть: налево или направо? Нет, не вспомнить. Рози решила свернуть направо, но обнаружила, что номера домов возрастают, начиная где-то с середины четвертой сотни.
– Обратный ход, – пробормотала она, разворачиваясь кругом. Спустя десять минут она стояла перед большим белым домом (который действительно остро нуждался в покраске) в три этажа, отделенным от тротуара широкой ухоженной лужайкой. Все окна были зашторены. На крыльце стояло около дюжины плетеных стульев, но сейчас там никто не сидел. Никакой вывески с названием «Дочери и сестры». Но на табличке с номером дома на колонне слева от ступеней крыльца было написано: 251. Рози медленно прошла по вымощенной плитняком дорожке и поднялась по ступеням. Она сняла сумку с плеча и теперь держала ее в руке.
Тебя прогонят, прошептал в сознании злорадный голосок. Тебя прогонят, и придется тебе возвращаться на автовокзал. И тебе надо будет поторопиться, чтобы приехать туда пораньше и занять себе место на полу.
Кнопка звонка была заклеена изолентой, обернутой в несколько слоев, а замочная скважина – залита металлом. Зато слева от двери висел новенький домофон с прорезью для карточки электронного замка и переговорным устройством с единственной кнопкой. Под кнопкой была небольшая табличка НАЖМИТЕ И ГОВОРИТЕ.
Рози нажала на кнопку. За время своего долгого утреннего «путешествия» пешком по городу она успела обдумать и отрепетировать про себя несколько вариантов вступительных объяснений: что ей сказать, как представиться. Но теперь, когда она наконец добралась до «Дочерей и сестер», даже самые идиотские и незамысловатые из тщательно проработанных построений напрочь вылетели из памяти. В голове было пусто. То есть абсолютно. Рози просто отпустила кнопку и стала ждать. Время шло. Секунды падали, как кусочки свинца. Она уже собралась позвонить еще раз, но тут из динамика прозвучал женский голос – металлический и бесстрастный:
– Могу я вам чем-то помочь?
До этой секунды она не плакала. Мужчина у бара ее напугал. Беременная женщина привела в полное недоумение. Но из-за них Рози не плакала. Зато теперь, когда она услышала этот голос в динамике, слезы потекли у нее по щекам, и она была просто не в силах их остановить.
– Надеюсь, что да, – всхлипнула Рози, вытирая слезы свободной рукой. – Простите, пожалуйста. Но я здесь совсем одна, в этом городе. Я никого здесь не знаю, и мне негде остановиться. Если у вас нет мест, я, конечно, уйду. Но вы не могли бы меня впустить хоть на пару минут. Я посижу, отдохну и уйду. И если позволите, выпью воды.
Ответа не было так долго, что Рози решила позвонить еще раз. Она уже протянула руку к кнопке, но тут снова включился динамик и металлический голос спросил, кто направил ее сюда.
– Человек из киоска «Помощь в дороге» на автовокзале. Дэвид Словик. – Она на секунду задумалась и тряхнула головой: – Нет, не Дэвид. Питер. Его зовут Питер.
– Он дал вам визитную карточку?
– Да.
– Достаньте ее, пожалуйста.
Рози открыла сумку и принялась судорожно перебирать ее содержимое. Куда могла деться визитка? Глаза опять защипало от слез. Еще немного – и она бы, наверное, точно расплакалась. Но карточка все же нашлась. Она завалилась за пакетик салфеток «Клинекс».
– Вот она, карточка. Что надо сделать – опустить ее в почтовый ящик?
– Нет, – отозвался голос. – Там видеокамера, прямо над вами.
Рози испуганно вскинула голову. И действительно: прямо над дверью была установлена видеокамера с круглым черным глазком, который как будто за ней наблюдал.
– Пожалуйста, поднесите карточку к камере. Только не лицевой стороной, а обратной.
Рози сделала, как ей сказали. Теперь она поняла, почему мистер Словик расписался на обороте такими большими буквами, что его роспись едва уместилась на карточке.
– Хорошо, – сказал голос в динамике. – Сейчас вам откроют.
– Спасибо.
Рози достала салфетку и вытерла щеки. Но толку от этого было мало. Слезы текли и текли, и их ничто не могло остановить.
В тот вечер, в тот самый час, когда Норман Дэниэльс лежал на диване в гостиной, глядел в потолок и сосредоточенно размышлял, с чего начинать поиски этой сучки (нужна зацепка, думал он, хотя бы какая-нибудь зацепка, пусть даже мелочь какая-то, главное, чтобы было с чего начать), его жена собиралась на встречу с Анной Стивенсон. Ближе к вечеру Рози впала в какое-то странное, но очень приятное состояние покоя – такое блаженное чувство покоя бывает только в хорошем сне. Впрочем, ей до сих пор не верилось, что это не сон.
Сначала ее накормили завтраком (это был очень поздний завтрак или, может быть, ранний обед), а потом отвели в спальню на первом этаже, где она проспала шесть часов мертвым сном. Когда Рози проснулась, ее пригласили к Анне, но сначала опять накормили – жареной курицей с картофельным пюре и зеленым горошком. Она ела жадно и в то же время как-то виновато, не в силах отделаться от мысли, что она впихивает в себя пищу, которая ей только снится и которой нельзя насытиться. На десерт подали апельсиновое желе, в котором, как жуки в янтаре, застыли кусочки консервированных фруктов. Другие женщины за столом украдкой поглядывали на нее, но их любопытство было вполне дружелюбным. Они переговаривались друг с другом, но Рози никак не могла уловить, о чем идет разговор. Кто-то упомянул «Индиго герлс». Эту рок-группу Рози немножко знала – она как-то видела их по телевизору, когда ждала Нормана с работы. В передаче «В городе Остине».
Когда подали десерт, кто-то из женщин включил кассету с записями Литтла Ричарда[4], а две другие вышли из-за стола и лихо сплясали джиттербаг[5], вихляя бедрами и извиваясь всем телом. Остальные подбадривали танцорок смехом и аплодисментами. Рози рассеянно и без всякого интереса наблюдала за танцем. Ей вдруг пришло в голову, что, может быть, здесь и вправду собрались «лесбиянки паршивые, которые на пособие живут – ни хрена не делают». Потом, когда все поели и принялись убирать за стола, Рози тоже хотела помочь, но ей не позволили.
– Пойдемте со мной, – сказала одна из женщин. Кажется, ее звали Консуэло. У нее на лице был широкий уродливый шрам. От левого глаза и вниз, почти через всю щеку. – Анна хочет с вами поговорить.
– А кто это, Анна?
– Анна Стивенсон. – Консуэло вывела Рози в короткий коридорчик, который соединялся с кухней. – Здешняя начальница.
– А какая она?
– Сейчас сами увидите.
Консуэло открыла перед Рози дверь комнаты, которая раньше, наверное, служила кладовкой, но сама не вошла. Осталась стоять в коридоре.
Почти всю комнату занимал огромный письменный стол, заваленный бумагами. За столом сидела женщина, может быть, чуточку полноватая, но зато очень красивая. Ее короткие седые волосы были уложены в аккуратную прическу. С этой прической она была очень похожа на Мод – героиню популярного комедийного телесериала – в исполнении Беатрис Артур. Строгое сочетание белой блузки и черного джемпера еще больше подчеркивало сходство. Рози робко приблизилась к столу. Она почти не сомневалась, что теперь, когда ее накормили и дали немного поспать, ей вежливо скажут, что пора и честь знать. Про себя Рози решила, что, если это случится, она не будет ни спорить, ни умолять: в конце концов это их дом, и спасибо уже за то, что ее накормили – целых два раза. Тем более ей все равно не придется спать на полу на автовокзале. Пока еще не придется. Оставшихся денег должно хватить на две-три ночи в каком-нибудь недорогом отеле или мотеле. Все могло быть и хуже. Гораздо хуже.
Она понимала, что это правильно, но решительные манеры женщины за столом и прямой острый взгляд ее голубых глаз – наверное, за долгие годы эти глаза повидали не одну сотню таких вот Рози, которые приходили сюда, в этот маленький кабинет, – все же немного ее пугали.
– Садитесь, пожалуйста, – пригласила Анна.
Рози уселась на единственный в комнате стул, не считая того, на котором сидела сама хозяйка кабинета (ей пришлось снять с сиденья ворох бумаг и положить их на пол, потому что ближайшая полка была забита до отказа). Анна представилась первой и спросила у Рози, как ее имя.
– На самом деле, наверное, Рози Дэниэльс, – сказала она. – Но я решила вернуть себе девичью фамилию, Макклендон. Наверное, это не по закону, но я не хочу называться фамилией мужа. Он меня бил, и поэтому я от него ушла. – Ей показалось, что ее слова звучат как-то неубедительно. Анна может подумать, что она сбежала от мужа после первого же раза, когда он ее поколотил. Она невольно притронулась рукой к носу, который все еще побаливал на переносице. – Мы с ним прожили достаточно долго, но я только теперь набралась решимости, чтобы уйти.
– Долго – это сколько?
– Четырнадцать лет. – Рози вдруг поняла, что больше не может смотреть в глаза Анне Стивенсон. Она опустила взгляд и уставилась на свои руки, сцепленные в замок на коленях. Она так сильно сжимала пальцы, что их костяшки побелели.
Сейчас она спросит, почему я терпела так долго, подумала она. Она не скажет, что во мне, может быть, было что-то такое болезненно-извращенное и мне нравилось, что муж меня бил. Она не скажет, но про себя подумает.
Но Анна спросила совсем о другом. Она спросила, давно ли Рози ушла из дома.
Рози задумалась. Это был непростой вопрос. И дело было не только в том, что она переехала в другой часовой пояс. Поездка в автобусе и непривычный многочасовой дневной сон сбили ее чувство времени.
– Примерно тридцать шесть часов назад, – сказала она, подумав. – Плюс-минус час-полтора.
– Ага, – заключила Анна Стивенсон. Рози все ждала, что сейчас Анна достанет какие-то бланки, которые либо протянет ей и попросит заполнить, либо начнет заполнять сама. Но та просто сидела и спокойно смотрела на Рози через огромный стол, заваленный бумагами. И это очень нервировало. – А теперь расскажите мне, как это было. Расскажите все.
Рози сделала глубокий вдох, собралась с мыслями и рассказала про каплю крови на простыне. Ей совсем не хотелось, чтобы Анна подумала, будто она такая ленивая – или просто придурочная, – что сбежала от мужа, с которым прожила четырнадцать лет, только потому, что ей не хотелось перестилать постель. Однако она опасалась, что Анна именно так и подумает. Рози не знала, как описать те сложные противоречивые чувства, которые охватили ее при виде крошечного пятнышка крови на простыне, и она не нашла в себе сил признаться, что среди этих чувств самым сильным была злобная ярость – новое и незнакомое ощущение, которое в то же время казалось родным и настоящим, как старый друг. Но она все-таки рассказала Анне о том, как она раскачивалась в кресле: так сильно, что даже боялась сломать винни-пухское кресло.
– Это я так называю мое кресло-качалку, – пояснила она и покраснела так густо, что щеки буквально горели огнем, только что не дымились. – Я понимаю, что это глупо…
Анна Стивенсон взмахнула рукой, прерывая Рози на полуслове:
– Расскажите о том, что вы делали после того, как решили уйти.
Рози рассказала о том, как она взяла кредитную карточку. Рассказала о нехорошем предчувствии – почти что уверенности, – что у Нормана сработает его обостренная интуиция и он либо позвонит, либо приедет домой. Она не нашла в себе сил рассказать этой строгой красивой женщине о том, что ей было так страшно, что она едва не обмочилась и ей пришлось забежать к кому-то на задний двор, но зато она рассказала о том, что сняла деньги с карточки, и даже назвала сумму. Она объяснила, почему приехала именно в этот город: потому что решила, что он расположен достаточно далеко, и потому что до отправления автобуса оставалось совсем мало времени. Она говорила сбивчиво, урывками. То и дело умолкала, чтобы собраться с мыслями, обдумать, о чем рассказывать дальше, и как-то справиться с изумлением. Ведь ей до сих пор с трудом верилось в то, что она все-таки сделала то, что сделала. В конце она рассказала о том, как заблудилась сегодня утром, и показала Анне визитную карточку Питера Словика. Анна мельком взглянула на карточку и протянула ее обратно.
– Вы хорошо его знаете, мистера Словика? – спросила Рози.
Анна улыбнулась, но Рози показалось, что в этой улыбке был и оттенок горечи.
– Да. Он мой друг. Старый друг. И очень хороший друг. И еще он друг таких женщин, как вы.
– В общем, я вас нашла, – заключила Рози. – Я не знаю, что будет дальше, но хоть что-то я сделала.
Анна Стивенсон опять улыбнулась:
– Да, и сделали немало.
Рози все-таки набралась смелости – за последние тридцать шесть часов она только и делала, что набиралась смелости, и все душевные силы были уже на исходе, – и спросила, можно ли будет остаться на ночь у «Дочерей и сестер». Только на одну ночь.
– Если вам нужно, то можете оставаться и дольше, – сказала Анна. – Наше учреждение – это вообще-то приют… частное заведение, что-то вроде гостиницы для женщин, которым нужно прийти в себя и собраться с силами. Вы можете здесь оставаться хоть восемь недель, а если понадобится, то и дольше. У нас, в «Дочерях и сестрах», нет никаких жестких правил по поводу сроков. Мы вообще стараемся избегать жестких правил. – Было заметно, что Анна гордится своим учреждением (и скорее всего неосознанно), и Рози вдруг вспомнилась фраза, которую она выучила тысячу лет назад, еще в школе, на уроке французского: L’etat, c’est moi. Государство – это я. И только потом до нее дошло, что ей сейчас сказали.
– Восемь… восемь…
Она почему-то подумала про того бледного парня, который сидел у входа в портсайдский автовокзал и держал на коленях табличку «БЕЗДОМНЫЙ, БОЛЬНОЙ СПИДОМ». Интересно, а что бы он чувствовал, если бы кто-то из прохожих взял и бросил ему в коробку стодолларовую бумажку?! Рози вдруг поняла, что она это знает. Потому что она сейчас чувствовала то же самое.
– Простите, вы сказали, восемь недель?
Она почти не сомневалась, что сейчас Анна ей скажет: Вымойте уши, девушка. Дней, я сказала. Восемь дней. Неужели вы думаете, нам больше делать нечего, как держать тут таких, как вы, восемь недель?! Иногда головой надо думать.
Но Анна кивнула: да.
– Хотя очень немногие женщины остаются у нас так надолго. И мы этим гордимся. Вам надо будет заплатить за комнату и еду. Хотя нам бы хотелось думать, что наши цены вполне приемлемые. – Она опять улыбнулась с оттенком законной гордости. – Только должна сразу вас предупредить, что условия у нас не самые замечательные. Почти весь второй этаж переоборудован под общую спальню. Там тридцать кроватей… вернее даже, раскладушек… и так получилось, что одна из них освободилась буквально на днях. Поэтому, собственно, мы и можем вас принять. Сегодня вы спали в комнате нашей штатной сотрудницы, которая здесь живет. Штат у нас небольшой: всего три консультанта.
– А разве не надо получить разрешение? – прошептала Рози. – Ну там… обсудить мою кандидатуру на каком-то совете или комитете?
– Я и есть комитет, – отозвалась Анна. Уже потом Рози подумала, что эта женщина, должно быть, давно уже не замечает, что ее голос звучит не то чтобы заносчиво, но слегка самодовольно. – «Дочерей и сестер» основали мои родители, а они были людьми состоятельными. Это частное предприятие, которым я управляю как доверительный собственник. Я сама выбираю, кого приглашать остаться, а кого не приглашать… хотя при этом я всегда стараюсь учитывать мнение всех женщин, которые в данный момент живут в «Дочерях и сестрах». Для меня их мнение очень важно. Я бы даже сказала, что оно для меня имеет решающее значение. Вы им понравились.
– Это же хорошо, правда? – несмело спросила Рози.
– Конечно. – Анна принялась перебирать бумаги у себя на столе и наконец нашла, что искала, за компьютером-ноутбуком, который стоял у нее слева. Она протянула Рози лист бумаги – фирменный бланк с отпечатанным текстом и шапкой, набранной синими буквами: «Дочери и сестры». – Вот. Прочитайте внимательно и распишитесь. Если вкратце, то там написано, что вы согласны платить шестнадцать долларов в сутки за комнату и еду и что при необходимости оплату можно отсрочить. На самом деле это даже не официальный, юридически правомочный договор. Просто обещание. Было бы хорошо, если бы вы заплатили половину вперед, пусть даже и по частям. То есть, пока вы тут живете, вы можете постепенно выплачивать долг, когда у вас будут деньги.
– Я могу заплатить, – сказала Рози. – У меня еще есть кое-какие деньги. Даже не знаю, как мне вас благодарить, миссис Стивенсон.
– Миссис – это для деловых партнеров, а для вас я просто Анна, – с улыбкой проговорила Анна, наблюдая за тем, как Рози расписывается на бланке. – И благодарить никого не надо. Ни меня, ни Питера Словика. Вас сюда привело само Провидение. Провидение с большой буквы, как в романах Чарлза Диккенса. Я действительно в это верю. Слишком много я повидала женщин, которые приходили к нам сломленными и подавленными, а уходили исцеленными и уверенными в себе. Питер – один из немногих людей в этом городе, кто направляет ко мне таких женщин, как вы. Но сила, которая привела вас к нему… Рози, это было Провидение.
– С большой буквы.
– Все верно. – Анна мельком взглянула на подпись и положила листок на полку справа от стола. Рози не сомневалась, что уже назавтра этот бланк с ее подписью затеряется там в бумажных завалах.
– Ну вот. – Анна произнесла это тоном человека, который только что покончил со скучнейшими формальностями и теперь может спокойно поговорить о том, что ему действительно интересно. – А что вы умеете делать?
– Делать? – переспросила Рози. Ей вдруг стало плохо. Она уже поняла, что сейчас будет.
– Да, делать. Что вы умеете делать? Может, вы знаете стенографию, например?
– Я… – Рози с трудом сглотнула. В старшей школе она изучала стенографию. Целых два года. И сдавала ее на «отлично». Но это было давно, а теперь для нее стенография как китайская грамота. – Нет, не знаю. Когда-то училась, но теперь все забыла.
– Другие секретарские навыки?
Она покачала головой. Глаза защипало. Рози сморгнула, чтобы сдержать непрошеные слезы. Она опять стиснула руки так, что костяшки пальцев побелели.
– Делопроизводство? Машинопись?
– Нет.
– Математика? Бухгалтерский учет? Банковское дело?
– Нет!
Анна Стивенсон рассеянно вытащила из-под кучи бумаг у себя на столе карандаш и в задумчивости постучала ластиком на его конце по своим белоснежным зубам.
– А официанткой работать вы сможете?
Рози очень хотелось ответить «да», но она представила себе огромные подносы, которые официантки таскают туда-сюда целый день… и подумала о своей пояснице и почках.
– Нет, – прошептала она. Она поняла, что сейчас расплачется. Она уже плакала: комната и женщина с той стороны стола расплывались во влажном тумане. – Во всяком случае, не сейчас. Может быть, через пару месяцев. Спина у меня… ей надо окрепнуть. – Она умолкла. Потому что ей самой показалось, что ее слова звучат глупо и лживо. Услышав что-то подобное по телевизору, Норман всегда цинично смеялся и отпускал едкие замечания насчет «кадиллаков», купленных на государственное пособие, и талонов на бесплатные обеды для миллионеров.
Однако Анна Стивенсон, похоже, восприняла это нормально.
– Но ведь что-то вы делать умеете, Рози? Хоть что-нибудь?
– Да! – Рози сама поразилась той ярости, которая прорывалась в ее словах, но она была просто не в силах справиться с собой и скрыть эту злость. – Да, кое-что я умею. Вытирать пыль, мыть посуду, стелить постель, пылесосить полы, готовить ужины на двоих и раз в неделю спать с мужем. И еще я умею сносить побои. И у меня это здорово получается. Как вы думаете, здесь поблизости нет никакого спортивного зала, где нужны спарринг-партнеры для отработки ударов?
И тут она разрыдалась по-настоящему. Она плакала тихо, уткнувшись лицом в ладони, как привыкла за годы, проведенные с мужем. Она плакала и ждала, что сейчас Анна прогонит ее и скажет, что хотя наверху есть свободная койка, она лучше примет сюда кого-нибудь, кто действительно нуждается в помощи и не изощряется в остроумии.
Что-то коснулось ее руки. Рози отняла руку от лица и увидела, что Анна протягивает ей коробку с салфетками «Клинекс». И – что самое поразительное – Анна Стивенсон улыбалась.
– Я думаю, вам не придется устраиваться в спортзал спарринг-партнером, – сказала она. – У вас все образуется, я уверена. Все будет в порядке. Потому что так всегда и бывает. Вот, возьмите салфетку и вытрите слезы.
Пока Рози вытирала глаза, Анна рассказала ей про отель «Уайтстоун», с которым у «Дочерей и сестер» давно уже установились взаимовыгодные партнерские отношения. Отец Анны в свое время состоял в совете директоров корпорации, которой принадлежит этот отель. Многие женщины, обращавшиеся за помощью к «Дочерям и сестрам», сначала работали в «Уайтстоуне» – заново учились самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и получать от этого удовольствие. Анна сказала, что Рози будет работать ровно столько, сколько позволит больная спина, и что если после трех недель ее самочувствие не улучшится, ей нужно будет уйти с работы и лечь на обследование в больницу.
– Вы будете работать вместе с женщиной, которая все там знает. Это наша сотрудница, которая здесь постоянно живет. Она вас научит всему, что нужно. И она будет за вас отвечать. Если вы что-нибудь украдете, отвечать будет она, а не вы… но вы ведь не будете ничего красть, правда?
Рози покачала головой.
– Я никогда не брала чужого. Только кредитную карточку мужа. И сняла с нее деньги всего один раз. Чтобы было, на что уехать.
– Вы поработаете в «Уайтстоуне», пока не найдете что-нибудь более подходящее. А я уверена, что найдете. Провидение, не забывайте.
– С большой буквы.
– Да. Я прошу вас только об одном. Пока вы будете работать в «Уайтстоуне», постарайтесь работать хорошо. Хотя бы для того, чтобы другие женщины, которые придут туда после вас, могли без проблем получить работу. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Рози кивнула:
– Подумай о тех, кто придет за тобой, и не порть впечатление.
– Все верно. Подумай о тех, кто придет за тобой. Я рада, что вы теперь с нами, Роза Макклендон.
Анна поднялась из-за стола и протянула Рози обе руки, как бы принимая ее в семью. В этом жесте явственно ощущалась та самая безотчетная самонадеянность, которую Рози замечала в Анне и раньше. Рози замялась, а потом тоже встала и прикоснулась к ее рукам. Их пальцы переплелись над столом, заваленным кучей бумаг.
– Мне надо сказать вам еще три вещи, – проговорила Анна. – Это очень важно. Поэтому я попрошу вас слушать внимательно и ни о чем больше не думать. Хорошо?
– Хорошо.
Чистый взгляд Анны Стивенсон буквально заворожил Рози.
– Во-первых, вы не должны укорять себя за то, что взяли кредитную карточку мужа. Вы ее не украли. Это были ваши общие деньги. Не только его, но и ваши тоже. Во-вторых, по закону вы имеете полное право взять свою девичью фамилию. Это ваша фамилия, которая останется вашей на всю жизнь. И в-третьих, вы можете освободиться, если вы этого захотите.
Она умолкла, пристально глядя на Рози своими необыкновенными голубыми глазами поверх их сплетенных рук.
– Вы меня понимаете? Вы можете освободиться, если вы этого захотите. Освободиться от его рук, освободиться от его мыслей, освободиться от него. Вы хотите этого? Освободиться и быть свободной?
– Да. – Голос у Рози дрогнул. – Хочу. Больше всего на свете.
Анна Стивенсон перегнулась через стол, ласково поцеловала Рози в щеку и одновременно стиснула ее руки.
– Значит, вы пришли туда, куда нужно. Добро пожаловать домой, дорогая.
Начало мая. Настоящая весна. Время, когда молодые мужчины – по идее – должны размышлять исключительно о любви, предвкушая прекрасное лето и бурный всплеск чувств, но у Нормана Дэниэльса голова была занята совсем другим. Ему нужна была зацепка. Пусть даже маленькая зацепка. И вот она появилась. Правда, не сразу. Прошло почти три недели, мать их растак. Но зацепка все-таки появилась.
Он сидел на скамейке в парке – в восьмистах милях от города, где его жена в эту минуту перестилала постели в гостиничных номерах, – крупный мужчина в красной рубашке поло и серых широких брюках. В правой руке он давил ярко-зеленый теннисный мяч, ритмично сжимая и разжимая кулак. Мышцы предплечья напрягались и расслаблялись в такт движениям кисти.
Второй мужчина перешел через улицу, остановился на тротуаре, оглядел парк, заметил мужчину, сидящего на скамейке, и направился прямо к нему. Ему пришлось увернуться от просвистевшей мимо тарелки-фрисби, а потом и вовсе остановиться в испуге, когда громадная немецкая овчарка, которая неслась за тарелкой, едва не сбила его с ног. Этот второй мужчина был и помоложе, и пощуплее того, который сидел на скамейке. У него было красивое, но не внушающее никакого доверия лицо. И тонкие усики в стиле Эррола Флинна. Он подошел и нерешительно остановился перед мужчиной, который задумчиво мял в руке теннисный мяч.
– Тебе чего, парень? – спросил мужчина с теннисным мячом.
– Это вы – Дэниэльс?
Мужчина с теннисным мячом кивнул головой. Ага.
Мужчина с усиками в стиле Эррола Флинна указал кивком в сторону новенькой ультрасовременной высотки из острых углов и стекла на той стороне улицы.
– Там один парень сказал, чтобы я с вами поговорил. Сказал, что вы в парке сидите. Сказал, что вы, вероятно, поможете мне разобраться с одной проблемой.
– Лейтенант Морелли, что ли? – спросил мужчина с теннисным мячом.
– Ага. Он самый.
– И что у тебя за проблема?
– А то вы не знаете, – буркнул мужчина с усиками в стиле Эррола Флинна.
– Вот что, парень. Послушай, что я тебе скажу… может, знаю. А может, и нет. Но в любом случае я – тот человек, который тебе нужен, а ты – грязный паршивый мудила, и жизнь у тебя мудацкая. И тебе светят крупные неприятности. Так что лучше тебе не умничать, а отвечать на мои вопросы. Конкретно сейчас я тебя спрашиваю: что у тебя за проблема? Вот и давай излагай. Громко и с расстановкой.
– Да вот, срезался на наркоте, – сказал мужчина с усиками в стиле Эррола Флинна, угрюмо глядя на Дэниэльса. – Впарил товар одному чуваку, а он оказался агентом ФБР. Из отдела борьбы с наркотиками.
– Ну ты попал, парень, – присвистнул мужчина с теннисным мячом. – Это уже уголовщина. То есть запросто можно тебе впаять по статье уголовное преступление. Но все оказалось гораздо хуже, как я понимаю. У тебя что-то нашли в бумажнике. Одну мою вещь.
– Ага. Вашу долбаную кредитку. Ну мне и везет. Как утопленнику. Находишь кредитку в помойке, а потом выясняется, что это кредитка легавого.
– Ну, садись, – великодушно предложил Дэниэльс. Но когда мужчина с усиками в стиле Эррола Флинна собрался было присесть с правого края скамейки, Норман раздраженно тряхнул головой. – С другой стороны, идиот. С другой стороны.
Мужчина с усиками попятился и робко присел на скамейку слева от Дэниэльса. Он тупо уставился на правую руку своего собеседника, ритмично и резко сжимавшую теннисный мяч. Раз… два… три. Толстые синие вены на руке копа извивались, как змеи, под белой кожей.
Мимо пролетела тарелка-фрисби. Оба мужчины проследили взглядом за немецкой овчаркой, которая бросилась за тарелкой. Стремительные и мягкие движения пса напоминали движения лошади, мчащейся галопом.
– Красивый пес, – сказал Дэниэльс. – Овчарки вообще красивые. Мне они всегда нравились, а тебе?
– Ага, симпатичный зверь, – отозвался мужчина с усиками, хотя на самом деле считал, что это просто уродливая лохматая образина, которая при первой же благоприятной возможности с большим удовольствием вцепится тебе в задницу.
– Нам надо о многом поговорить, – сказал полицейский с теннисным мячом. – И мне что-то подсказывает, приятель, что это будет самый решающий разговор в твоей недолгой, но очень дерьмовой жизни. Ты готов к нему, мой юный друг?
Мужчина с усиками тяжело сглотнул – в горле как будто застрял комок – и, наверное, в тысячный раз за сегодняшний день пожалел о том, что не выбросил эту проклятую карточку на помойку. И что его дернуло оставить ее у себя?! Как можно быть таким долбаным идиотом?!
Впрочем, он знал, почему так получилось, что он оказался таким долбаным идиотом. Просто он не терял надежды, что рано или поздно отыщет способ, как снять деньги с карточки. Потому что он был оптимистом. В конце концов это Америка. Земля возможностей. А еще (если совсем уже начистоту) он просто забыл о том, что кредитка так и валяется у него в бумажнике вместе с чужими визитными карточками, которые он всегда подбирает. А все из-за этого кокаина. Странно он «пробивает»: дает тебе силы бежать, вот только ты ни хрена не помнишь, почему ты бежишь и куда.
Полицейский смотрел на него и улыбался. Но одними губами. Его глаза не улыбались. Его глаза были такими… голодными. Молодой человек с усиками вдруг почувствовал себя маленьким поросенком из сказки о трех поросятах, который присел на скамейку рядом со злым серым волком.
– Послушайте, я ведь ни разу и не воспользовался этой вашей кредиткой. Давайте сразу с этим разберемся. Вам ведь сказали, правда? Я, на хрен, ни разу ею не воспользовался.
– А как бы ты, интересно, воспользовался, – хохотнул полицейский, – если не знаешь пин-кода? Мой пин-код – это почти мой домашний телефон, а моего домашнего телефона в адресной книге нет… как у большинства полицейских. Но ты уже в курсе, я думаю. Наверняка ведь проверил.
– Нет! – выпалил мужчина с усиками. – Ничего я не проверял!
Разумеется, он проверял. Он перерыл всю телефонную книгу после того, как «обломился» со всевозможными комбинациями, составленными из цифр номера дома и почтового индекса, которые были набиты на карточке. Он перепробовал, наверное, все банкоматы, которые есть в этом городе. Он передавил столько клавиш с цифрами, что у него пальцы распухли. Он себя чувствовал как последний кретин, который решил поиграться на самом дебильном на свете игровом автомате.
– А что, интересно, получится, если проверить компьютер, управляющий банкоматами «Мерчантс-банка»? – спросил полицейский. – Есть у меня смутное подозрение, что в графе СБРОС/ПОВТОР моя карточка встретится раз этак много. Скажем, около миллиарда. Может, проверим? И если я окажусь не прав, я тебя угощаю роскошным обедом. Что ты по этому поводу скажешь, приятель?
Мужчина с усиками уже и не знал, что сказать. Ни по этому поводу, ни вообще. У него было дурное предчувствие. Очень дурное предчувствие. А коп между тем продолжал давить в руке теннисный мячик. Сжимал его и отпускал, сжимал и отпускал, сжимал и отпускал… И как только рука не устанет.
– Тебя зовут Рамон Сандерс, – сказал полицейский по имени Дэниэльс. – И за тобой тянется хвост преступлений длиной с мою руку. Воровство, мошенничество, наркотики, проституция. Все, кроме физического насилия, избиений и прочего в том же духе. В такие дела ты не лезешь, правильно? Вы, грязные пидоры, очень не любите, когда вас бьют. Даже те, кто по виду – ну чистый Шварценеггер. Они, конечно, не прочь нацепить на себя узкую майку, чтобы покрасоваться накачанным торсом перед лимузином у входа в какой-нибудь клуб для гомиков, но если кто-то всерьез собирается дать вам по морде, то вы тут же линяете, только пятки сверкают. Я не прав?
Рамон Сандерс решил, что ему лучше всего промолчать.
– А я так не прочь дать кому-то по морде, – сказал полицейский по имени Дэниэльс. – И ногами забить. И даже слегка укусить. – Он произнес это как будто задумчиво, рассеянно провожая глазами немецкую овчарку, которая сейчас возвращалась к хозяину с тарелкой-фрисби в зубах. – Как тебе это нравится, кокаиновая ты морда?
Рамону это совсем не нравилось, но он опять счел за лучшее промолчать. Он очень старался сохранять невозмутимое выражение, но дурное предчувствие уже вспыхнуло красным сигналом тревоги у него в мозгу, и неприятная дрожь испуга прошла по нервам. Сердце забилось быстрее – оно набирало скорость, как поезд, отъезжающий от перрона. Он то и дело украдкой поглядывал на крупного мужика в красной рубашке-поло, и с каждым разом ему все меньше и меньше нравилось то, что он видел. Правая рука полицейского не расслаблялась ни на секунду. Вены налились кровью, мышцы вздулись, как свежие дрожжевые булки.
Похоже, Дэниэльс и не ждал, что Рамон что-то скажет. Теперь он повернулся к Рамону. И он улыбался… то есть, казалось, что он улыбался, потому что его глаза вовсе не улыбались. Его глаза были холодными и пустыми, как две блестящие новенькие монеты в двадцать пять центов.
– У меня для тебя есть хорошие новости, парень. Хочешь отмазаться от обвинения в распространении наркотиков? Это можно устроить. Окажи мне одну небольшую услугу, и будешь свободным, как птичка. Как тебе такой вариант?
Рамону совсем не хотелось ничего говорить. Будь его воля, он бы и дальше молчал себе в тряпочку, но сейчас был уже не тот случай. На этот раз полицейский обратился к нему вовсе не риторически – он задал вопрос и хотел получить ответ.
– Замечательно, – проговорил Рамон, очень надеясь, что говорит то, что нужно. – Замечательно, просто здорово. Большое спасибо, что вы мне даете такой классный шанс.
– Знаешь, Рамон, по-моему, ты мне нравишься, – сказал полицейский, а потом протянул левую руку и сделал такое, от чего обалдевший Рамон просто выпал в осадок. Да и кто бы поверил, что крутой и упертый мужик типа этого Дэниэльса способен вот так вот запросто запустить руку тебе в промежность и откровенно тебя возбуждать на скамейке в общественном парке – на глазах у Господа Бога, на глазах у играющих на площадке детей, на глазах у любого, кто глянет в их сторону. Рука Дэниэльса мягко скользила по кругу, передвигалась вверх и вниз и из стороны в сторону над той самой штучкой из плоти и крови, которая так или иначе управляла всей жизнью Рамона с того кошмарного дня, когда двое отцовских приятелей, которых Рамон должен был называть дядя Билл и дядя Карло, по очереди отымели его, тогда еще девятилетнего мальчика. А дальше случилось совсем уже невероятное. То есть, наверное, это было вполне естественно, однако в сложившейся ситуации представлялось действительно невероятным: Рамон почувствовал, что у него встает.
– Да, кажется, ты мне нравишься. И кажется, даже очень нравишься, грязный ты хреносос в лоснящихся черных штанишках и остроносых туфлях. А почему бы и нет? – заговорил полицейский, продолжая поглаживать член Рамона. Время от времени он менял направления движений и иногда слегка сдавливал плоть, от чего Рамон замирал, сдерживая дыхание. – И это очень хорошо, Рамон, что ты мне нравишься. Уж поверь мне на слово. Потому что на этот раз ты действительно вляпался. И если тебя привлекут, то сядешь по полной программе. Но знаешь, что меня больше всего беспокоит? Лефингвелл и Брустер… те ребята, которые тебя взяли… они очень смеялись, когда вернулись в отдел. Они над тобой смеялись, и это нормально. Но было у меня нехорошее ощущение, что они смеялись и надо мной, а это уже не нормально. Я не люблю, когда надо мной смеются. И обычно я это так не оставляю. Но сегодня утром мне пришлось промолчать. Вот поэтому я теперь для тебя – лучший друг. Я даже готов тебя вытащить и отмазать от очень серьезного обвинения в распространении наркотиков, хотя у тебя и нашли мою долбаную кредитку. И знаешь почему?
Тарелка-фрисби опять пролетела мимо, и немецкая овчарка снова рванулась за ней. Но Рамон Сандерс уже не замечал ничего вокруг. Его плоть под рукой копа напряглась уже до предела – до состояния стального рельса. И ему было страшно. Он себя чувствовал мышкой, попавшейся кошке в лапы.
На этот раз Дэниэльс сжал пальцы сильнее, так что Рамон сдавленно застонал. Пот струился по его лицу цвета кофе с молоком. Его тонкие усики были похожи на дохлого червяка под проливным дождем.
– Знаешь, Рамон?
– Нет.
– Потому что та женщина, которая выбросила кредитку, это моя жена, – сказал Дэниэльс. – Была жена. Вот поэтому они и смеялись, Лефингвелл и Брустер. Она украла мою кредитку, сняла с нее несколько сотен баксов – деньги, которые я заработал своим трудом, – а потом, когда карточка снова всплыла, оказалось, что ее подобрал паршивый сладенький пидор по имени Рамон. Неудивительно, что они ржали, как кони.
Рамону хотелось сказать: Пожалуйста, не делайте мне больно. Я вам все расскажу, только не делайте мне больно. Он хотел это сказать, но не мог выдавить из себя ни слова. Ни единого слова. У него все внутри сжалось. В таких случаях говорится, что дырка в заднице стянулась до полного исчезновения.
Дэниэльс наклонился еще ближе к нему – так близко, что Рамон чувствовал запах его дыхания: смесь табака и виски.
– Видишь, я тебе все рассказал как есть. Можно сказать, поделился с тобой сокровенным. А теперь я хочу, чтобы ты тоже мне кое-что рассказал. – На этом возбуждающие поглаживания прекратились. Сильные пальцы сомкнулись вокруг напряженных яиц Рамона и легонько сдавили сквозь тонкую ткань легких брюк. Над рукой полицейского явно просматривались очертания вставшего члена, похожего на игрушечную бейсбольную биту – из тех, которые продаются в любом сувенирном киоске на стадионе. Рамон чувствовал силу, заключенную в этой руке. – И я тебе настоятельно рекомендую рассказать все как есть. И знаешь почему?
Рамон тупо покачал головой. У него было такое чувство, как будто где-то внутри у него прорвало кран с горячей водой и теперь все его тело сочится испариной.
Дэниэльс поднес правую руку – ту, в которой мял теннисный мяч, – прямо к носу Рамона. А потом резко стиснул кулак. Раздался негромкий треск рвущейся ткани и шипение воздуха – пшшш, – когда его пальцы проткнули яркую ворсистую оболочку. Мяч тут же скукожился, сдулся, а потом почти вывернулся наизнанку.
– Я могу повторить то же самое правой рукой, – сказал Дэниэльс. – Ты мне веришь?
Рамон попытался сказать, что да, верит, но опять не смог выдавить из себя ни слова. Так что он просто кивнул головой.
– И имей это в виду. Хорошо?
Рамон снова кивнул.
– Замечательно. Значит, так, Рамон. Я хочу, чтобы ты мне сказал вот что. Я понимаю, что ты просто маленький грязный педик, который про женщин не знает вообще ни фига, разве что только в блаженной юности пару раз отымел свою матушку в задницу… уж больно видок у тебя поганый, ну в точности как у сыночка, который наяривает свою матушку… но ты уж, пожалуйста, напряги свое воображение. Как ты думаешь, что должен чувствовать человек, который приходит домой с работы и узнает, что его жена – женщина, которая обещала тебя любить, почитать и повиноваться тебе, твою мать, – сбежала из дома, прихватив заодно и твою кредитку? Как ты думаешь, что должен чувствовать человек, когда он узнает, что жена сняла с его карточки деньги, чтобы оплатить себе развлекуху, а потом этак запросто выбросила кредитку в мусорную корзину на автовокзале, где ее потом подобрал некий паршивый педрила?
– Да, неприятно, – прошептал Рамон. – Ему должно быть неприятно, я думаю, пожалуйста, офицер, не делайте мне больно, пожалуйста, не надо…
Дэниэльс медленно сжал руку и сжимал ее до тех пор, пока сухожилия на запястье не натянулись, как гитарные струны. Волна боли – тяжелой, как жидкий свинец, – прокатилась внизу живота, и Рамон попытался закричать. Однако сумел выдавить из себя только хрип.
– Неприятно? – прошептал Дэниэльс ему в лицо. Его дыхание было горячим и влажным, и от него несло виски и табаком. – И это всё, что ты можешь сказать?! Ты и вправду тупой, как полено. И все же… я думаю, что ответ, в общем, правильный. Но не совсем.
Рука разжалась, но только чуть-чуть. Внизу живота у Рамона плескалась горячая боль, однако член так и стоял колом. Рамон не любил боли, он не понимал тяги некоторых извращенцев ко всяким таким мазохистским штучкам и свой могучий стояк объяснял только одним: легавый прижимал его член основанием ладони, перекрывая отток крови. Рамон поклялся себе, что, если ему удастся выйти из этого парка живым, он пойдет прямо в церковь Святого Патрика и прочитает пятьдесят молитв во славу Девы Марии. Нет, пятьдесят – это мало. Сто пятьдесят.
– Они там все надо мной смеются. – Дэниэльс указал кивком в сторону нового здания полицейского управления. – Ну да, просто животики надрывают от смеха. А вы слышали, наш-то крутой Норман Дэниэльс?! Жена от него сбежала… но сначала подставила парня на деньги. Прихватила с собой почти все его сбережения.
Дэниэльс издал какой-то неопределенный звук, больше всего похожий на рычание взбешенного зверя, которое можно услышать разве что в зоопарке, а потом снова сжал яйца Рамона. Боль была невыносимой. Рамон резко подался вперед, и его вырвало – белыми кусками творога в коричневых подтеках, наверное, непереваренными остатками сырной запеканки, которую он ел на обед. Дэниэльс как будто этого и не заметил. Он глядел в ясное небо над спортивной площадкой и, похоже, был полностью погружен в свои мысли.
– А теперь предположим, тебя привлекут по делу, – сказал он задумчиво. – Мне оно надо, как думаешь? Надо мне выставлять себя на посмешище перед всем управлением, да еще вдобавок перед судом? Только мне этого и не хватало.
Он обернулся и посмотрел прямо Рамону в глаза. Он улыбался. Но от этой улыбки Рамону хотелось кричать.
– А теперь я тебя спрошу, – сказал он, – и ты мне ответишь. Но если ты мне соврешь, приятель, я тебе откручу твои сладкие яйца и скормлю их тебе на ужин.
Дэниэльс снова сжал пальцы, и на этот раз перед глазами Рамона поплыли черные пятна. Бедный парень изо всех сил старался держаться. Если он сейчас хлопнется в обморок, этот бесноватый легавый точно его убьет.
– Ты понимаешь, что я тебе говорю?
– Да, – выдавил Рамон. – Я понимаю! Я все понимаю!
– Ты был там в зале автовокзала и видел, как она выбросила кредитку в мусорную корзину. Это я уже знаю. Но мне хотелось бы знать, что она делала потом.
Рамон едва не расплакался от облегчения. Потому что он знал, как ответить на этот вопрос. А ведь мог и не знать… но тут ему повезло. Тогда, на вокзале, он проводил взглядом женщину, чтобы удостовериться, что она на него не смотрит… а потом, минут через пять, когда он уже благополучно спрятал кредитку к себе в бумажник, он снова заметил ту женщину. Ее было трудно не заметить. Ее красный шарфик сразу бросался в глаза – яркое пятно в безликой толпе.
– Она пошла к кассам! – выкрикнул Рамон из темноты, в которую он погружался все дальше и дальше. – Она пошла к кассам!
Его усилия были вознаграждены очередным безжалостным сжатием. У Рамона было такое чувство, как будто ему расстегнули брюки, облили яйца горючей жидкостью и подожгли.
– Это понятно, что она пошла к кассам! – рявкнул Дэниэльс ему в лицо. – Она собиралась куда-то уехать. А зачем еще люди приходят на автовокзал?! Думаешь, для того, чтобы поглядеть на таких идиотов, как ты?! Я хочу знать, к какому окошку она подошла… и когда это было, мать-перемать! Когда и какой автобус!
Рамон мысленно возблагодарил Господа Бога, Иисуса Спасителя и Деву Марию. Потому что – опять же – он знал, как ответить на эти вопросы.
– «Континентал экспресс»! – завопил он. Впечатление было такое, что его собственный голос звучит откуда-то издалека. – Она подошла к кассе «Континентал экспресс». В половине одиннадцатого. Или без четверти!
– «Континентал экспресс»? Ты уверен?
На этот вопрос Рамон Сандерс уже не ответил. Он завалился боком на скамейку. Одна рука с тонкими пальцами свесилась чуть ли не до земли. Его лицо было мертвенно-бледным, и только на скулах горели два алых пятна. Мимо прошла молодая парочка – парень и девушка. Они покосились на человека, лежащего на скамейке, потом взглянули на Дэниэльса, который уже успел убрать руку из Рамоновой промежности.
– Не беспокойтесь, пожалуйста, – сказал Дэниэльс с лучезарной улыбкой. – Он эпилептик. – Он выдержал паузу и улыбнулся еще лучезарнее. – Я о нем позабочусь. Я из полиции.
Парень с девушкой прибавили шагу и ушли не оглядываясь.
Дэниэльс приобнял Рамона за плечи одной рукой. Кости парня под его рукой казались тоненькими и хрупкими, как птичьи крылышки.
– Оп-па, деточка. Вставай, – сказал он и поднял безвольное тело Рамона, придавая ему сидячее положение. Голова у Рамона болталась, как головка цветка на сломанном стебле. Он тут же начал заваливаться набок. Из его горла вырвался сдавленный хрип. Дэниэльс снова поднял его, и на этот раз Рамон удержался в сидячем положении.
Дэниэльс сидел рядом с ним на скамейке, наблюдая за тем, как немецкая овчарка радостно носится туда-сюда за тарелкой-фрисби. Он завидовал этой собаке. Вообще всем собакам. На самом деле. У них нет никакой ответственности, никаких обязательств. Им не надо работать – во всяком случае, в этой стране. Их кормят. У них есть где спать. А когда они отправляются в мир иной, им не приходится беспокоиться, что их ждет за гробовой доской: небеса или ад. Однажды, еще в Обрейвилле, он говорил с отцом О’Брайном на эту тему, и преподобный отец сказал, что у зверей нет души – когда они умирают, они просто гаснут, как искры праздничного фейерверка в День независимости. Конечно, очень даже возможно, что этого пса еще в ранней щенячьей юности лишили мужского достоинства, но тем не менее…
– Хотя, с другой стороны, может, оно и к лучшему, – задумчиво пробормотал Дэниэльс и погладил Рамона в паху, где член парня уже увядал, а яйца начали разбухать. – Правда, приятель?
Рамон пробулькал что-то нечленораздельное. Так бормочет во сне человек, которому снится кошмар.
Вот такие дела, размышлял Дэниэльс. Все, что есть, – все твое. Обходись тем, что есть, и будь этим доволен. Может быть, в следующей жизни ему повезет, и он родится немецкой овчаркой, и будет вовсю наслаждаться жизнью: носиться в парке за тарелочкой-фрисби, выглядывать из окошка хозяйского автомобиля по пути домой и обжираться экологически чистой собачьей едой. Но в этой жизни он был человеком со всеми человеческими проблемами.
Но зато он хотя бы мужчина, в отличие от этого маленького паршивца.
«Континентал экспресс». Рамон видел, как она покупала билет у окошка «Континентал экспресс» в половине одиннадцатого или без четверти одиннадцать. И она, надо думать, не стала бы ждать слишком долго. Она боялась его и не стала бы ждать слишком долго. В этом Дэниэльс был уверен на сто процентов. Значит, ему надо выяснить, куда отправлялся автобус, который выехал из Портсайда в районе одиннадцати утра, и потом еще следующий автобус. Скорее всего она уехала в какой-нибудь большой город, где – по ее разумению – легко затеряться.
– Ничего у тебя не получится, – произнес Дэниэльс вслух, наблюдая за тем, как овчарка подпрыгнула и схватила тарелку в воздухе своими длинными белыми зубами. Нет, у нее ничего не получится. Может быть, она думает, что у нее получится. Но она ошибается. Сейчас у него много работы. Но в выходные он этим займется. Для начала засядет на телефон. Жалко, что у него есть свободное время только на выходных. Но тут уже ничего не поделаешь. В конторе полный завал, все стоят на ушах. Назревает большая облава (и если ему повезет, это будет его облава). Но зато потом, когда все закончится, он посвятит все свое время поискам Рози, и уже очень скоро она пожалеет о своем опрометчивом поступке. Да. Она будет жалеть о нем всю оставшуюся жизнь. Которая будет недолгой, но очень… очень…
– Напряженной, – проговорил он вслух. И да – это было как раз подходящее слово. Самое подходящее слово.
Дэниэльс поднялся и быстрым шагом направился в сторону полицейского управления на той стороне улицы. Он даже не оглянулся на парня, который остался сидеть на скамейке – явно в полубессознательном состоянии, с упавшей на грудь головой и руками, безвольно сложенными поверх паха. Для инспектора уголовной полиции, выпускника Полицейской академии Нормана Дэниэльса, больше не существовало никакого Рамона. Сейчас Дэниэльс размышлял о своей жене и о том, что ей в скором времени предстоит узнать много чего поучительного. Им надо будет о многом поговорить. И они обязательно поговорят, как только он ее выследит и найдет. Ему есть о чем рассказать ей: о кораблях с парусами, о сургуче и, уж конечно, о том, что бывает с плохими женами, которые обещают любить, почитать и повиноваться, а потом исчезают в неизвестном направлении, прихватив с собой кредитную карточку мужа. Они обязательно поговорят.
И очень серьезно поговорят.
Она опять застилала постель, но теперь она себя чувствовала по-другому. Теперь все было по-другому: другая постель, другая комната, другой город. И самое главное – в этой постели она никогда не спала и никогда спать не будет.
Ровно месяц прошел с тех пор, как она сбежала из дома и покинула город в восьмистах милях к востоку отсюда, и теперь ей жилось гораздо лучше. Ее по-прежнему беспокоили боли в спине, но и спина потихонечку выздоравливала. Это было уже заметно. И хотя конкретно сейчас, в эту минуту, почки болели ужасно, Рози все-таки понимала, что это нормально. Ведь она убирала уже восемнадцатый номер. А когда она только пришла на работу в «Уайтстоун», она была близка к обмороку после двенадцати номеров, а после уборки в четырнадцати номерах ей становилось так плохо, что приходилось просить Пэм о помощи. Потому что у нее просто не было никаких сил. Но за четыре недели все изменилось. И изменилось к лучшему. Теперь Рози на собственном опыте убедилась, что четыре недели – это действительно большой срок, тем более если за эти недели тебя ни разу не лупцевали по почкам и не били в живот кулаком.
И пока этого было достаточно.
Она приоткрыла дверь, выглянула в коридор и осмотрелась по сторонам. В коридоре не было ни единой живой души – только стояло несколько подносов с грязной посудой, оставшейся после завтрака в номерах, и две тележки с бельем: тележка Пэм в конце коридора у номера люкс «Озеро Мичиган» и ее собственная тележка у двери номера 624.
Рози шагнула к своей тележке и достала банан из-под стопки чистых полотенец. Потом вернулась в номер 624 и уселась в мягкое кресло у окна. Она неторопливо очистила банан и стала есть его, глядя на озеро, которое в этот безветренный майский день блестело как серебристое зеркало под легкой изморосью. Всю ее переполняло одно пронзительное и простое чувство – благодарность. Ее жизнь была не такой уж и радужной – по крайней мере на данном этапе, – но все же она была лучше, чем Рози смела надеяться в тот памятный день в середине апреля, когда она поднялась на крыльцо «Дочерей и сестер» и остановилась у двери, глядя на панель переговорного устройства и на замочную скважину, залитую металлом. Тогда ее будущее виделось ей в самых мрачных тонах. Тогда ей казалось, что впереди ее ждут только отчаяние и темнота. Сейчас ей тоже было невесело: почки болели, ноги гудели и просто подкашивались, и она отдавала себе отчет, что ей вовсе не хочется проработать всю жизнь внештатной горничной в отеле «Уайтстоун», – но она ела вкусный банан и сидела в мягком уютном кресле. И ей было действительно хорошо. В эту минуту она бы не променяла это кресло и этот банан ни на какие сокровища мира. За те недели, которые Рози прожила без Нормана, она научилась радоваться таким вот приятным мелочам: почитать полчаса перед сном, поболтать о последних фильмах и телепередачах с другими женщинами, когда они вечером все вместе моют посуду, или устроить себе пятиминутную передышку и просто посидеть в кресле и съесть банан.
А еще ей было очень приятно знать, что будет потом, и быть уверенной, что с ней не случится ничего неожиданного – ничего такого, что причинит ей боль. Например, она знала, что ей осталось убрать всего-навсего два номера, а потом они с Пэм пойдут домой – спустятся по черному лифту для персонала и выйдут из здания через заднюю дверь. По пути к автобусной остановке (Рози уже разобралась с маршрутами городских автобусов и теперь запросто ориентировалась на оранжевой, красной и синей линиях) они, может быть, завернут в «Пузатый чайник» и выпьют по чашечке кофе. Простые житейские мелочи. Маленькие радости. Выходит, в жизни не все так плохо. В жизни есть и хорошее. Она, наверное, знала об этом в детстве, но потом забыла. Но теперь она заново учится радоваться жизни, и эти уроки ей нравятся. Ей еще очень многого не хватает. Но у нее появилось и много такого, чего не было раньше… и пока этого более чем достаточно. К тому же она еще толком и не определилась, что именно ей нужно. Она подумает об этом потом, когда переедет из «Дочерей и сестер». Почему-то у Рози было ощущение, что она не задержится там надолго – что уже очень скоро у нее будет квартира или хотя бы комната. Может, она переедет, как только в городе освободится первая же квартира из тех, которые значились в «списке Анны» – как женщины из «Дочерей и сестер» между собой называли список недорогих квартир, снимать которые было вполне по средствам.
В дверном проеме возникла тень, и, прежде чем Рози успела сообразить, куда спрятать недоеденный банан, не говоря уж о том, чтобы подняться с кресла, в номер заглянула Пэм.
– Ага, вот ты и попалась, – рявкнула она и весело рассмеялась, когда Рози подпрыгнула от испуга.
– Никогда так больше не делай, Пэмми! Ты меня так напугала.
– Да ладно. Никто тебя не уволит за то, что ты сидишь в кресле и ешь банан, – сказала Пэм. – Ты бы видела, что здесь иногда творится. Что у тебя там осталось? Двадцать второй и двадцатый?
– Ага.
– Тебе помочь?
– Да нет, тебе вовсе не за чем…
– Да мне несложно, – сказала Пэм. – Правда. Всего-то два номера! На пару мы их уберем за пятнадцать минут. Ну чего, приступаем?
– Давай, – с благодарностью проговорила Рози. – Но тогда я тебя угощаю в «Пузатом чайнике». Кофе и, если захочешь, пирожное.
Пэм улыбнулась:
– Если там есть с шоколадным кремом, то уж точно хочу, можешь не сомневаться.
Хорошие дни… почти четыре недели хороших дней.
В ту ночь, когда Рози уже легла спать, – она лежала в постели, подложив руки под щеку, глядя в темноту и прислушиваясь к тихим всхлипам через две-три раскладушки слева; это плакала женщина, которая появилась в «Дочерях и сестрах» только сегодня вечером, – ей вдруг пришло в голову, что хорошими эти дни были не потому, что в них было много хорошего, а потому, что в них не было ничего плохого. В них не было Нормана. Но Рози уже понимала, что очень скоро одного только отсутствия Нормана ей будет мало – для того, чтобы чувствовать, что она живет полной и настоящей жизнью.
Скоро, но еще не сейчас. Сейчас мне достаточно и того, что есть, размышляла она. И даже более чем достаточно. Спокойные тихие дни… работа, еда и сон… и никакого Нормана Дэниэльса.
Она начала засыпать, ее мысли уже путались в полусне, и в голове опять зазвучал голос Кэрол Кинг – та самая колыбельная, под которую Рози засыпала почти каждый день: На самом деле, я Рози… Настоящая Рози, вот так… Со мной шутки плохи, приятель… Прими это просто как факт…
А потом была темнота и ночь – и таких ночей становилось все больше, – когда ей не снились плохие сны.
III. Провидение
Когда в следующую среду Рози и Пэм Хэверфорд уже уходили домой после работы, в лифте Рози заметила, что Пэм выглядит как-то неважно.
– Это все из-за месячных, – сказала Пэм, когда Рози спросила, что с ней такое. – Живот прямо крутит.
– Может, сходим в кафе, попьем кофе?
Пэм на секунду задумалась и покачала головой:
– Сегодня давай без меня. Мне сейчас ничего не хочется – только скорее вернуться к «Сестричкам» и закрыться в свободной спальне, пока никто не вернулся с работы и не начался обычный гвалт. Выпью таблетку мидола и посплю пару часиков. И, может быть, снова почувствую себя человеком.
– Тогда я с тобой, – решительно заявила Рози, когда двери лифта открылись и они с Пэм направились к выходу.
Пэм покачала головой.
– Не надо, – сказала она и улыбнулась Рози. – Я еще не настолько плоха, чтобы не добраться до дома самостоятельно. А ты уже взрослая девушка и вполне можешь сходить в кафе без пожилой компаньонки. Кто знает… может, тебе подвернется какое-нибудь интересное приключение.
Рози вздохнула. Для Пэм «интересное приключение» всегда означало знакомство с мужчиной, который должен являть собой гору накачанных мышц, рельефно выступающих из-под обтягивающей футболки наподобие монументальных геологических образований. Что же касается Рози, то подобные «приключения» абсолютно ее не прельщали.
К тому же она была замужем.
Рози невольно взглянула на свою руку. Она носила два обручальных кольца: простое золотое, которое Норман надел ей на палец в день свадьбы, и золотое кольцо с бриллиантом, которое он подарил ей, когда делал предложение. Уже потом, перебирая в памяти все, что случилось в тот день, она так и не сумела разобраться, насколько этот почти что случайный взгляд определил дальнейший ход событий, но одно она знала точно: именно в этот момент, когда она мельком взглянула на свое кольцо – которое носила не снимая и никогда особенно о нем не задумывалась, – ее вдруг осенило, что ведь это ее кольцо. Обручальное кольцо с бриллиантом чуть больше карата было самой дорогой вещью из всех, которые Норман подарил ей за всю их совместную жизнь. Но до сегодняшнего дня Рози и в голову не приходило, что это кольцо – ее собственность и она может делать с ним все что угодно. Скажем, избавиться от него, если ей этого хочется (причем избавиться любым способом).
Несмотря на отчаянные возражения Пэм, Рози все-таки проводила ее до автобусной остановки за углом и дождалась с ней автобуса. Рози действительно очень не нравилось, как выглядит Пэм: бледная, с огромными синячищами под глазами и болезненными складками в уголках рта. К тому же ей было приятно, что она тоже может о ком-нибудь позаботиться. И уж тем более – о Пэм, которая всегда проявляла к ней самое искреннее участие. Рози уже собралась было ехать домой вместе с Пэм. Просто чтобы удостовериться, что подруга добралась нормально. Но в последний момент искушение выпить крепкого кофе (и может быть, съесть кусочек фруктового пирога) все-таки пересилило.
Рози проследила за тем, как Пэм села в автобус, и помахала ей рукой. Пэм помахала ей в ответ со своего места у окна, и автобус отъехал от остановки. Рози еще пару секунд постояла на месте, а потом развернулась и пошла по бульвару Хитченс обратно к «Пузатому чайнику». Ей почему-то вспомнилось, как она блуждала по городу в первый день, когда она только сюда приехала. На самом деле она почти ничего не запомнила из тех кошмарных часов. В основном она помнила только свои ощущения: страх и чувство полной потери ориентации. Но две фигуры проступали в памяти, как две темные скалы посреди клубящегося тумана. Беременная женщина и мужчина с усами, как у Дэвида Кросби. Мужчина запомнился ей особенно. Как он стоял с пивной кружкой в руках, привалившись спиной к двери бара. Как он смотрел на нее. Как он кричал ей.
(эй крошка эй крошка)
Или даже не ей, а так… на ее счет. В какой-то момент эти воспоминания захватили ее целиком, как это свойственно только самым плохим, самым неприятным воспоминаниям – воспоминаниям о тех временах, когда мы чувствуем себя потерянными, и беспомощными, и неспособными ничего изменить, – и она прошла мимо «Пузатого чайника», потому что уже ничего вокруг не замечала. В ее пустых невидящих глазах были лишь страх и отчаяние. Она все еще думала про того человека у дверей бара. Он очень сильно ее напугал. И еще он напомнил ей Нормана. И дело было не в их внешнем сходстве. А скорее в манере держаться. Она помнила, как он стоял, привалившись спиной к косяку: весь напряженный и собранный, готовый в любую секунду сорваться с места. И он бы сорвался, если бы Рози дала ему повод… если бы она просто глянула в его сторону…
Кто-то схватил ее сзади за плечо. Рози едва не закричала от страха. Она обернулась, ни капельки не сомневаясь, что это либо Норман, либо мужчина с рыжими усами. Но это был незнакомый парень в деловом летнем костюме.
– Простите, если я вас напугал, – сказал он, – но мне показалось, что вы собираетесь броситься под машину.
Рози растерянно огляделась по сторонам и увидела, что стоит на углу Хитченс и Уотертауэр-драйв, на одном из самых оживленных перекрестков города – в трех, если не четырех кварталах от «Пузатого чайника». Поток машин тек по улице, как металлическая река. Только теперь до нее дошло, что этот парень, который схватил ее за плечо и удержал на тротуаре, может быть, спас ей жизнь.
– С… спасибо. Большое спасибо.
– Да не за что, – отозвался он.
На той стороне Уотертауэр на светофоре для пешеходов зажглись белые буквы ИДИТЕ. Молодой человек еще раз с любопытством взглянул на Рози, а потом сошел с тротуара на «зебру» перехода и затерялся в толпе пешеходов, которые устремились на ту сторону улицы.
Рози осталась стоять на месте. У нее было странное ощущение, как будто в голове что-то сместилось. При этом она испытывала несказанное облегчение, как это бывает, когда человек просыпается после кошмарного сна. И это действительно был кошмар, подумала она. Я не спала, шла по улице, но мне все равно снился кошмар. Сон наяву. Или «обратный кадр», как в кино, когда пленку мотают назад. Она опустила глаза и увидела, что стоит, судорожно вцепившись в сумку обеими руками и прижимая ее к животу, то есть держит ее точно так же, как и в тот жуткий день почти пять недель тому назад, когда она бродила по улицам в поисках Дарем-авеню. Рози повесила сумку на плечо, развернулась и зашагала обратно.
Квартал самых фешенебельных магазинов города начинался как раз за Уотертауэр-драйв. Сейчас Рози шла по улице, которая уводила прочь от Уотертауэр. Здесь размещались магазины поменьше и поскромнее. Были среди них и такие задрипанные лавчонки, которые производили совсем уже жалкое впечатление. Рози шла неторопливо, разглядывая убогие витрины магазинчиков подержанной одежды, которые тщились сойти за шикарные бутики. Она прошла мимо обувной лавки, в витрине которой были выставлены плакаты «ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ ТОЛЬКО АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» и «БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА», мимо магазина уцененных товаров под названием «Не дороже пятерки» – здесь вся витрина была завалена дешевыми куклами-пупсами явно мексиканского или манильского производства, – мимо магазина кожаных изделий «Мотоциклетная мама», мимо убогонькой лавки с громким названием «Avec Plaisir»[6], где продавались совсем уже устрашающие товары – искусственные члены, наручники и кружевные трусики с большим вырезом в промежности. Прежде чем перейти через улицу, Рози на пару минут задержалась перед затянутой черным бархатом витриной, изумленно разглядывая все эти кошмарные штучки, выставленные на всеобщее обозрение. До «Пузатого чайника» осталось всего полквартала, но Рози уже решила, что на сегодня она обойдется без кофе и пирога. Она просто сядет на автобус и поедет домой, к «Дочерям и сестрам». Для одного дня приключений достаточно.
Но всё получилось иначе. На дальнем углу перекрестка, где Рози только что перешла через дорогу, она заметила скромный и ничем не примечательный магазинчик с неоновой вывеской прямо в витрине: ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: БЕРЕМ ПОД ЗАЛОГ – ДАЕМ ССУДЫ – ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ. Именно последняя из предлагаемых услуг привлекла внимание Рози. Она снова взглянула на обручальное кольцо у себя на пальце и вспомнила, что сказал ей Норман незадолго до свадьбы: Если будешь выходить с ним на улицу, Роза, поворачивай его камнем назад, так, чтобы им не светить. Камушек все-таки дорогой, и маленьким девочкам небезопасно гулять с таким камнем на пальце.
Однажды она у него спросила (это было еще до того, как он приступил к ее «воспитанию» и она поняла, что его лучше вообще ни о чем не спрашивать), сколько стоит кольцо. В ответ Норман лишь покачал головой и снисходительно улыбнулся – улыбкой отца, чей ребенок хочет узнать, почему небо голубое и сколько снега на Северном полюсе. Не бери в голову, сказал он. Это тебя не касается. Но если тебе интересно, то я скажу, что на те же деньги я мог бы купить себе новый «бьюик». Но я решил подарить тебе камушек. Потому что я люблю тебя, Роза.
И вот теперь, стоя на перекрестке, Рози как будто заново пережила те чувства, которые охватили ее тогда. Она испугалась, потому что нельзя не бояться мужчину, который способен на такой сумасбродный поступок: запросто отказаться от новенького автомобиля, чтобы купить своей девушке кольцо с бриллиантом. Но при этом у нее слегка захватило дух. Потому что поступок Нормана был очень волнующим, романтичным и даже немножечко эротичным. Он подарил ей бриллиант, с которым опасно выходить на улицу. Бриллиант, который стоит, как новый «бьюик». Потому что я люблю тебя, Роза.
Наверное, он не врал… наверное, он и вправду ее любил. Но это было четырнадцать лет назад, и у девушки, которую он любил, были ясные глаза, высокая крепкая грудь, плоский живот и стройные бедра. У девушки, которую он любил, не было крови в моче.
Рози стояла на перекрестке напротив неприметного ломбарда с неоновой вывеской в витрине, смотрела на обручальное кольцо у себя на пальце и прислушивалась к своим ощущениям. Может быть, она что-то такое почувствует… отголосок былого страха или даже романтического настроения. Но когда стало ясно, что ничего такого она не чувствует, Рози решительно направилась к двери в ломбард. Уже очень скоро она переедет от «Дочерей и сестер», и если сейчас ей дадут за кольцо приемлемую сумму денег, то она сможет уехать, полностью расплатившись за еду и проживание. И может быть, у нее даже останется несколько «лишних» сотен долларов.
А может, мне просто хочется скорее избавиться от кольца, сказала она себе. Может быть, мне надоело таскать на пальце новенький «бьюик», который он так себе и не купил.
На двери висела табличка: ГОРОД СВОБОДЫ – ЛОМБАРД. Рози это название показалось немного странным. Она слышала уже несколько прозвищ этого города, но все они были связаны либо с озером, либо с погодой. Интересно, с чем связано это название… Впрочем, сейчас ее мысли были заняты совсем другим. Она решительно распахнула дверь и вошла в магазин.
Она ожидала, что внутри будет темно. И там действительно было темно, но в то же время – и это было уже неожиданно – все помещение ломбарда «Город свободы» заливал мягкий золотистый свет. Солнце уже садилось и светило прямо вдоль бульвара, и его теплые косые лучи проникали через окна ломбарда, которые выходили как раз на запад. Один луч падал прямо на саксофон, висевший на стене напротив окна, и казалось, что этот сияющий инструмент соткан из пламени.
И это скорее всего не случайно, подумала Рози. Его специально повесили именно здесь. Очень умно придумано. Да, все объяснялось просто. Но у Рози все равно появилось странное ощущение почти что сказочного очарования. Ее завораживал даже запах, царивший внутри ломбарда, – запах пыли, веков и тайн. Откуда-то слева доносилось тихое тиканье множества заведенных часов.
Она медленно прошла по центральному проходу. С одной стороны располагался стеллаж с акустическими гитарами, подвешенными за грифы, с другой – застекленные полки со всевозможными электрическими бытовыми приборами и музыкальными центрами. Здесь вообще было на удивление много этих громадных многофункциональных аудиосистем, которые иногда называют «гробами с музыкой».
В дальнем конце прохода располагался длинный прилавок. На стене за прилавком светилась еще одна неоновая надпись, выгнутая дугой. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ – это было написано синим. А чуть ниже, красными буквами: МЫ ПОКУПАЕМ, МЫ ПРОДАЕМ, МЫ МЕНЯЕМ.
Ага, только что на брюхе не ползаем, подумала Рози с тенью легкой улыбки, направляясь к прилавку. За прилавком сидел мужчина с ювелирной лупой в глазу. Он внимательно разглядывал какой-то предмет, который лежал перед ним на подушечке. Подойдя ближе, Рози заметила, что это были часы-луковица со снятой задней крышечкой. Мужчина за прилавком что-то подкручивал в механизме стальной отверткой, настолько тонкой, что ее было почти не видно. Рози отметила про себя, что это совсем еще молодой человек. Может быть, ему не было и тридцати. У него были длинные – почти до плеч – волосы. Одет он был очень своеобразно: в белую рубашку и синий шелковый жилет. Это было действительно необычно, но зато очень эффектно и стильно.
Что-то сдвинулось в сумраке слева. Повернувшись в ту сторону, Рози увидела пожилого мужчину, который сидел на корточках и перебирал кипы потрепанных книжек в мягких обложках, сваленных прямо на полу под вывеской СТАРОЕ ДОБРОЕ ЧТИВО. По́лы его длинного пальто разметались по полу, как веер. А рядом, как верный пес, поджидающий завозившегося хозяина, стоял старомодный черный портфель, обтрепавшийся по краям.
– Могу я вам чем-то помочь, мэм?
Она обернулась к мужчине за прилавком. Он уже успел вынуть из глаза лупу и теперь с дружелюбной улыбкой смотрел на Рози. Глаза у него были карими, с едва уловимым зеленоватым оттенком. Очень красивые глаза. У Рози даже мелькнула шальная мысль, а не подходит ли он под разряд «какого-нибудь интересного приключения» с точки зрения Пэм? Нет. Наверное, все-таки не подходит. Из-за отсутствия ярко выраженных тектонических плит и рельефных бугров под рубашкой.
– Может быть, – отозвалась она.
Она сняла оба кольца и убрала в карман простое золотое кольцо, которое Норман надел ей на палец в день свадьбы. Рука без колец смотрелась какой-то чужой и странной, но Рози решила, что со временем она привыкнет. Женщина, которая ушла из дома, не захватив с собой даже смену белья, сможет привыкнуть к чему угодно. Рози протянула руку и положила кольцо с бриллиантом на бархатную подушечку рядом со старинными часами, в которых копался молодой ювелир.
– Скажите, пожалуйста, сколько оно может стоить? – спросила она и, подумав, добавила: – И сколько вы можете за него заплатить, если я соберусь его продавать?
Молодой человек надел кольцо на кончик большого пальца и поднес его к свету, падающему в окно – косому солнечному лучу, в котором плясали сверкающие пылинки. Камень вспыхнул, переливаясь разноцветными искрами, и на миг Рози стало жалко с ним расставаться. Но потом ювелир мельком взглянул на нее… только мельком, но и этого быстрого взгляда было вполне достаточно, чтобы Рози успела увидеть в его глазах какое-то странное выражение, которое она не смогла разобрать. Как будто его взгляд говорил: Это что, шутка такая?
– Что? – сразу насторожилась она. – Что-то не так?
– Да нет, все нормально, – сказал он. – Одну секунду.
Он снова вставил в глаз лупу и стал внимательно изучать камень в ее обручальном кольце. А когда он наконец оторвался от камня и снова взглянул на Рози, она сразу все поняла по его глазам. Она все поняла, но почему-то не удивилась и не рассердилась. Не было ни обиды, ни сожаления, а только усталое, растерянное недоумение: как же она раньше не догадалась?! Как можно быть такой дурой?!
Нет, Рози, не наговаривай на себя, сказал внутренний голос. Ты никакая не дура. Если бы где-то в глубине души ты не знала, что камень фальшивый – а ты это знала с самого начала, – ты бы его отнесла в ломбард гораздо раньше. Неужели ты – взрослая женщина тридцати двух лет – и вправду верила, что Норман Дэниэльс сподобился подарить тебе кольцо, которое стоит даже не сотни, а тысячи долларов? Неужели ты в это верила?
Нет. Наверное, не верила. Во-первых, в его глазах она просто того не стоила. А во-вторых, человек, у которого стоит по три замка на парадной и задней двери, во дворе у которого установлена электронная система охраны, реагирующая на движение, в машине которого тоже подключена охранная сигнализация… в общем, такой человек никогда не позволил бы своей жене выйти на улицу с кольцом, которое стоит как новый автомобиль.
– Камень фальшивый, да? – спросила Рози упавшим голосом.
– Ну… – протянул ювелир. – Это чистейшей воды цирконий, но уж никак не бриллиант, если вас именно это интересует.
– Именно это и интересует, – проговорила она с нажимом. – А что же еще?!
– С вами все в порядке? – вдруг встревожился ювелир, и на его лице появилось выражение искреннего участия. Теперь, когда Рози разглядела этого человека получше, она подумала, что он даже моложе, чем ей показалось сначала. Ему, наверное, лет двадцать пять. Но уж никак не тридцать.
– Черт, я не знаю, – сказала она. – Наверное, да.
Но она все равно достала из сумки салфетку «Клинекс». Просто на всякий случай. В последнее время ее часто пробивало на слезы. Причем совершенно неожиданно. Или на приступы истерического смеха; такое тоже случалось нередко. Рози очень надеялась, что на этот раз ей удастся избежать подобных истерических проявлений. Или хотя бы продержаться еще пару минут, чтобы выйти отсюда, не уронив собственного достоинства.
– Вот и хорошо, – сказал ювелир. – И вы не волнуйтесь, я все понимаю. Правда. Если б вы знали, сколько сюда к нам приходит женщин… женщин вроде вас…
– Да ладно вам, перестаньте, – оборвала его Рози. – Если мне будет нужна поддержка, я пойду и куплю себе лифчик на косточках.
Никогда в жизни Рози не разговаривала с мужчинами вот так. Ее слова прозвучали грубо, двусмысленно и откровенно провокационно. Но, с другой стороны, она никогда и не чувствовала ничего подобного… словно она несется в открытом космосе… или идет по натянутому на головокружительной высоте канату, под которым нет страховочной сетки. Что ж, это было вполне закономерно. И даже в чем-то забавно. Весьма достойное завершение супружеской жизни. Но я решил подарить тебе камушек. Она помнила, как он это произносил. Его голос дрожал от избытка чувств. А в его серых глазах действительно блестели слезы. Потому что я люблю тебя, Роза.
На миг ей показалось, что она все-таки рассмеется истерическим смехом. Но она все же сдержала себя неимоверным усилием воли.
– Но хоть сколько-нибудь оно стоит? – спросила она. – Или вообще ничего не стоит? Может быть, это вообще побрякушка из автомата со жвачкой?
На этот раз молодой ювелир не стал надевать лупу. Он просто снова подставил кольцо под свет.
– Ну, хоть сколько-нибудь оно стоит. – В его голосе явственно слышалось облегчение. Наверное, он был рад, что может сказать ей хоть что-то приятное. – Сам камень, конечно, дешевка… баксов на десять потянет, не больше. Но вот оправа… она стоит долларов двести. Разумеется, я вам столько не дам, – поспешно добавил он. – Иначе отец надает мне по шее. В воспитательных целях. Правда, Робби?
– Твой батюшка вечно тебя воспитывает, – откликнулся пожилой господин, сидевший на корточках возле книжек. – Дети, они для того и существуют… чтобы было кого воспитывать. – Он даже не поднял головы.
Ювелир посмотрел на него, потом перевел взгляд на Рози и вдруг приоткрыл рот и засунул туда один палец, изображая, что его сейчас вырвет. Рози не видела ничего подобного со школьных времен и поэтому улыбнулась. Молодой человек улыбнулся в ответ.
– Могу предложить за него пятьдесят долларов. Устроит?
– Нет, спасибо.
Она забрала кольцо, задумчиво оглядела его со всех сторон и завернула в неиспользованную салфетку «Клинекс», которую так и держала в руке.
– Вы можете заглянуть и в другие ломбарды, – предложил ювелир. – Их поблизости есть еще несколько. – Если кто-то предложит вам больше, я заплачу ту же сумму. Таково папино правило, и я с ним согласен.
Рози опустила салфетку с кольцом в сумочку и защелкнула замок.
– Спасибо, но я подумала, что не буду его продавать. Оставлю на память.
Она почувствовала на себе пристальный взгляд пожилого мужчины, который перебирал книги – и которого молодой ювелир назвал Робби. Она обернулась и увидела, что он действительно смотрит на нее с выражением какой-то странной сосредоточенности. Но ей было уже все равно. Пускай себе смотрит. У них свободная страна.
– Человек, который подарил мне это кольцо, уверял, что оно стоит, как новый автомобиль, – сказала она. – Представляете?
– Представляю, – без малейшего колебания отозвался молодой ювелир, и Рози вспомнила, как он сказал ей, что все понимает, потому что она – далеко не первая женщина, которая пришла сюда и узнала неприятную правду о своем якобы драгоценном сокровище. При всей своей молодости он уже наверняка вдоволь наслушался самых разных историй на ту же тему. Может быть, лишь с незначительными вариациями.
– Да, наверное, вы представляете, – проговорила она. – Но тогда вам должно быть понятно, почему я хочу сохранить кольцо. Когда я снова начну влюбляться в кого-то до полного отупения… или мне просто покажется, что я влюбляюсь… я достану кольцо и буду смотреть на него, пока не вылечусь.
Она подумала о Пэм Хэверфорд, у которой на обеих руках красовались длинные рваные шрамы. Летом девяносто второго ее муженек в очередной раз напился и выкинул ее на улицу через застекленную дверь. Пэм подняла руки, защищая лицо. И в итоге она получила шестьдесят швов на одной руке и сто пять – на второй. Однако и после этого Пэм прямо вся расплывалась от счастья, если какой-нибудь строитель или маляр восхищенно присвистывал, глядя на ее ноги, когда она проходила мимо. И как, интересно, это называется? Долготерпение или непроходимая тупость? Поразительная жизнеспособность или тяжкая форма склероза? Про себя Рози определяла подобное состояние как «синдром Хэверфорд» и очень надеялась, что эта болезнь не заразна.
– Как скажете, мэм, – отозвался ювелир. – Знаете, мне ведь вечно приходится говорить неприятные вещи хорошим людям. И мне это ужасно не нравится. Я даже думаю, что именно поэтому нас и не любят, владельцев ломбардов. Работа у нас такая: говорить людям горькую правду. А кому это понравится?
– Никому, – согласилась Рози. – Никому не понравится, мистер…
– Стейнер, – подсказал он. – Билл Стейнер. А мой отец – Эйб Стейнер. Вот наша визитная карточка.
Он протянул Рози визитку, но она лишь улыбнулась, покачав головой:
– Она мне вряд ли понадобится. Всего хорошего, мистер Стейнер.
Она направилась к выходу. На этот раз Рози пошла по боковому проходу, потому что увидела, что пожилой господин направляется прямо к ней по центральному. В одной руке он держал свой потрепанный портфель, в другой – несколько старых книжек. Может, он вовсе и не собирался с ней заговорить, как ей показалось поначалу. Но в одном Рози была уверена: лично ей не хотелось ни с кем разговаривать. Сейчас ей больше всего хотелось поскорее уйти из ломбарда со странным названием «Город свободы», сесть на автобус и напрочь забыть о том, что она вообще сюда заходила.
Она шла по проходу, не глядя по сторонам. Она только мельком отметила про себя, что в этой части ломбарда собраны предметы декоративного искусства: небольшие статуэтки и картины, в рамках и без рамок, расставленные на пыльных полках. Рози смотрела прямо перед собой. Она была не в том настроении, чтобы любоваться картинами и статуэтками, пусть даже и самыми что ни есть распрекрасными. Но тут ее что-то дернуло остановиться и повнимательнее присмотреться к одной картине. Это было странное ощущение. Как будто не взгляд зацепил картину.
Как будто картина сама притянула взгляд.
Такого неодолимого притяжения Рози не испытывала никогда раньше, ни к какой другой вещи. Но она почему-то не восприняла это как нечто из ряда вон выходящее. За последний месяц в ее жизни произошло много всего, чего никогда не было раньше. Мало того, это странное притяжение даже не показалось ей ненормальным (во всяком случае, поначалу). И это было вполне объяснимо. Все четырнадцать лет жизни с Норманом Дэниэльсом Рози прожила в тесном замкнутом мирке, отрезанном от большого мира, и она просто не знала, как отличить ненормальное от нормального. Ее представления о поведении людей в определенных ситуациях складывались в основном по слащавым телесериалам и кинофильмам, которые ей удалось посмотреть в те редкие дни, когда муж приглашал ее в кино (Норман Дэниэльс ходил на все фильмы с Клинтом Иствудом). И в рамках этих представлений из мира грез теперешнее ошеломление Рози казалось вполне нормальным. В фильмах и сериалах людей всегда «прошибает» до самых глубин души.
Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Сейчас имело значение только одно – то притяжение, которое исходило от этой картины. Оно захватило Рози целиком и заставило позабыть обо всем: о том, что ее кольцо оказалось дешевой фальшивкой, о том, что она собиралась как можно скорее уйти из ломбарда, о том, с каким удовольствием она предвкушала, как сядет в автобус синей линии и даст наконец отдых усталым ногам. Она действительно обо всем забыла. И думала только: Смотри. Смотри, какая картина! Просто удивительная картина.
Картина – написанное маслом полотно в деревянной рамке, размером примерно два на три фута – стояла на полке между остановившимися часами и фарфоровым голышом-херувимчиком. Рядом с ней были другие картины (старый раскрашенный фотоснимок собора Святого Павла, акварель с фруктами в вазе, венецианские гондолы в лучах рассвета, гравюра с изображением охотничьей сценки, на которой свора каких-то невообразимых существ гнала по туманным английским болотам двух худосочных зверюг, с виду явно несъедобных), но Рози взглянула на них лишь мельком. Ее занимала только одна картина. Женщина на холме. Она и только она. И по сюжету, и по художественному исполнению эта картина мало чем отличалась от тех картин, которые обычно пылятся на полках ломбардов и сувенирных лавок и которых полно на любой барахолке или дворовой распродаже по всей стране (и по всему миру, уж если на то пошло), и тем не менее она пробудила в душе у Рози тот чистейший и благоговейный восторг, который рождается при соприкосновении с произведениями истинного искусства. Есть вещи, которые действительно трогают душу. Это может быть песня, которая заставляет нас плакать. Или книга, которая открывает нам новый взгляд на мир и заставляет задуматься – пусть даже и не надолго – о таких вещах, о которых мы просто не думали раньше. Это может быть стихотворение, которое наполняет нас радостью жизни, или танец, заставляющий нас на минуту забыть о том, что когда-нибудь мы все умрем.
Всплеск чувств, вызванный этой картиной, был настолько пронзительным и внезапным – он был настолько оторван от повседневной реальной жизни, – что поначалу Рози вообще «поплыла». Ее мысли рассыпались в беспорядке, и она просто-напросто растерялась, не зная, как справиться с этим неожиданным наплывом обжигающих ощущений. Пару мгновений она себя чувствовала коробкой передач, которую резко перевели со скорости на нейтралку… и хотя двигатель ревел, как сумасшедший, ничего не происходило. А потом сцепление схватилось, и коробка мягко переключилась обратно на скорость.
Это такая вещь, которую мне бы хотелось иметь у себя в новой квартире, подумала Рози. Вот почему я так разволновалась. Потому что мне хочется, чтобы эта картина была моей.
Она с благодарностью ухватилась за эту мысль. Да, у нее будет совсем небольшая квартира. Всего одна комната. Но ей обещали, что это будет большая комната с отдельной ванной и закутком под кухню. Но как бы там ни было, это будет первая в ее жизни квартира, которая принадлежит только ей. Ей одной. Вот почему это важно. И вещи, которыми Рози обставит свою квартиру, они тоже очень важны… и тем более самая первая из этих вещей. Она будет особенно значимой, потому что задаст тон для всего остального.
Да. И пусть даже в этой квартире жили десятки людей до Рози – людей одиноких и небогатых, – и еще многие будут жить после нее, для нее эта квартира все равно станет домом. Последние пять недель были как переходный период, пробел между старой и новой жизнью. Когда она переедет в квартиру, которую ей обещали, вот тогда у нее и начнется по-настоящему новая жизнь… своя жизнь. И эта картина – которую Норман не видел и не высказывал в ее адрес никаких критических суждений, – которая принадлежит только ей одной, может стать символом этой новой жизни.
Именно так ее здравый смысл – то разумное рациональное начало, которое не готово принять или хотя бы допустить, что в мире есть вещи сверхъестественные или паранормальные, – объяснил, оправдал и логически обосновал ее неожиданный и пронзительный внутренний отклик на эту картину с женщиной на холме.
Это была единственная картина в рамке под стеклом (Рози где-то слышала или читала, что картины, написанные маслом, обычно не закрывают стеклом, потому что краски должны дышать или что-то вроде того). В левом нижнем углу прямо на стекло была налеплена желтая самоклеящаяся бумажка с надписью: $ 75 ИЛИ?..
Рози протянула руки, чтобы взять картину, и увидела, что руки слегка дрожат. Она взялась за бока рамки, осторожно сняла картину с полки и направилась обратно к прилавку. Пожилой господин с потрепанным портфелем так и стоял в конце прохода, внимательно глядя на Рози. Но она его не замечала. Она прошла прямо к прилавку и бережно положила картину перед Биллом Стейнером.
– Нашли что-нибудь интересное? – спросил он.
– Да. – Она легонько постучала пальцем по бумажке с ценой. – Тут написано, семьдесят пять долларов или знак вопроса. Я так понимаю, что можно поторговаться. Вы говорили, что можете дать пятьдесят долларов за мое кольцо. Может быть, поменяемся? Баш на баш? Вы мне – картину, а я вам – кольцо?
Стейнер прошел вдоль прилавка, поднял откидную доску у дальней стены, вышел в торговый зал, вернулся обратно и встал рядом с Рози с ее стороны. Он внимательно посмотрел на картину – так же внимательно, как он смотрел на кольцо… но на этот раз в его взгляде читалось искреннее недоумение.
– Что-то я эту картину не помню. Мне кажется, я ее раньше не видел. Это, наверное, мой старик ее где-то отрыл. Он у нас – главный ценитель искусства, а я так… подай-принеси.
– Значит ли это, что вы не можете…
– Торговаться? Да что вы! Дай мне волю, я бы только и делал, что торговался. Но сейчас я готов отказать себе в этом маленьком удовольствии. Давайте сделаем, как вы сказали: натуральный обмен баш на баш. Потому что мне будет приятно, что вы теперь не уйдете отсюда в подавленном настроении, мрачно глядя себе под ноги.
И тут Рози опять сделала нечто такое, чего раньше не делала никогда: она обняла Билла Стейнера за шею и едва ли не расцеловала его в порыве восторга.
– Спасибо! Большое спасибо!
Стейнер рассмеялся.
– О Господи, не за что, – сказал он. – Вот ведь, такое со мной в первый раз происходит: чтобы кто-то из покупателей обнял меня в этих священных унылых чертогах. А вам только эта картина понравилась? Может, еще парочку подберете?
Пожилой человек в пальто – тот, кого Билл назвал Робби, – подошел, чтобы тоже взглянуть на картину.
– С учетом того, как обычно относятся люди к владельцам ломбардов, можешь считать, что тебе повезло.
Билл Стейнер кивнул:
– Это точно.
Рози почти и не слышала их разговора. Она лихорадочно рылась в сумке в поисках салфетки, в которую завернула кольцо. Она провозилась гораздо дольше, чем требовалось, потому что то и дело отвлекалась и поглядывала на картину. На свою картину. Наверное, в первый раз Рози думала о переезде в квартиру, которую ей обещали, с таким нетерпением. Это будет ее собственная квартира, а не просто походная раскладушка – одна из многих. Ее собственная квартира и ее собственная картина, которую она первым делом повесит на стену. Да, первым делом, подумала Рози, когда ее пальцы сомкнулись на завернутом в салфетку кольце. Как только въеду в квартиру, так сразу ее и повешу. В тот же день. Она развернула кольцо и протянула его Стейнеру, но он этого не заметил. Он внимательно изучал картину.
– Похоже, что это оригинальное полотно. Настоящие краски, а не печатная копия, – сказал он. – И краски, похоже, не очень качественные. Может, ее поэтому и закрыли стеклом… чтобы приличнее смотрелось. Интересно, а что там за здание у подножия холма? Какой-нибудь особняк сгоревший?
– По-моему, это развалины храма, – проговорил пожилой человек с потрепанным портфелем. – Может быть, древнегреческого. Хотя сложно сказать.
И действительно сложно, потому что развалины здания, о котором шла речь, утопали по самую крышу в густых зарослях зелени. Побеги дикого винограда оплетали колонны на фасаде. Колонн было пять. Шестая лежала расколотая на куски. Рядом с упавшей колонной угадывались очертания опрокинутой статуи. Из густой зелени проглядывало только белое каменное лицо, обращенное к небу, которое художник щедро зачернил грозовыми тучами.
– Да, – согласился Стейнер. – Но как бы там ни было, на мой скромный взгляд, здание явно не вписывается в перспективу. Оно слишком крупное для того расстояния, которое вроде бы предполагается.
Старик кивнул.
– Но это, я думаю, необходимое допущение. Иначе была бы видна только крыша. А так мы видим колонны и упавшую статую.
Для Рози детали на заднем плане не имели вообще никакого значения. Все ее внимание было сосредоточено на центральной фигуре картины. На вершине холма – лицом к развалинам храма и соответственно спиной к зрителю – стояла женщина. Статная, стройная женщина с длинными светлыми волосами, заплетенными в косу, и широким золотым браслетом на правом предплечье. Ее левая рука была приподнята к лицу, как будто она закрывала глаза от солнца. Это было немного странно, потому что все небо было затянуто тучами и солнца не наблюдалось. Но все равно складывалось впечатление, что женщина закрывает глаза от яркого света. На ней было короткое, до колен, платье – Рози решила, что это тога, – которое закрывало только одно плечо, так что второе плечо оставалось голым. Ярко-красное одеяние с пурпурным отливом. Женщина на картине стояла в высокой траве, которая доходила ей почти до колен, и поэтому было никак не возможно определить, была она в обуви или босиком.
– И в каком это стиле написано? – спросил Стейнер у Робби. – Классицизм? Неоклассицизм? К чему ты ее отнесешь?
– Лично я отнесу ее к малохудожественной мазне, – усмехнулся Робби. – Но мне кажется, я понимаю, чем она привлекла эту женщину. В ней есть настроение, в этой картине. Она как будто пронизана чувством. Детали как будто классические, согласен… похожие часто встречаются на старинных гравюрах… но ощущение явно готическое. И композиция необычная. Центральная фигура располагается спиной к зрителю. Это действительно очень странно. А в целом… я бы не стал утверждать, что эта юная дама выбрала самую лучшую из имеющихся в наличии картин, но, вне всяких сомнений, она выбрала самую своеобразную.
Рози по-прежнему не обращала внимания на их разговор. Она жадно рассматривала картину, открывая для себя новые детали, которые не сразу бросались в глаза. Например, темно-лиловый веревочный пояс на талии у женщины – под цвет отделки на тоге. Или полоска кожи на обнаженной левой груди, приоткрывшаяся под поднятой рукой. Пусть мужчины болтают о художественных достоинствах или отсутствии таковых. Их слова ничего не значат. Это – замечательная картина. Рози казалось, что она может смотреть на нее часами, не отрываясь. И может быть, будет смотреть, когда переедет в свою квартиру и повесит картину на стену.
– Ни названия, ни подписи, – сказал Стейнер. – Разве что…
Он перевернул картину. На задней стенке мягким черным углем, уже немного размазанным, было написано: РОЗА МАРЕНА.
– Ага, – протянул он с сомнением. – Вот и имя художницы. Как мне кажется. Странное имя, однако. Может быть, псевдоним.
Робби покачал головой и открыл было рот, чтобы высказать свое мнение, но решил промолчать, потому что заметил, что женщина, выбравшая картину, тоже хочет что-то сказать.
– Это название картины, – сказала она, а потом вдруг добавила ни с того ни с сего: – Это меня зовут Рози.
Стейнер озадаченно взглянул на нее.
– Да ладно вам, это просто совпадение.
Но Рози не стала бы утверждать, что это было простым совпадением. Она перевернула картину лицевой стороной вперед.
– Вот смотрите. – Она легонько постучала пальцем по стеклу над пурпурной тогой женщины на холме. – Этот цвет… пурпурно-красный… он называется роза марена.
– Она права, – подтвердил Робби. – Кто-то… наверное, художник… или, скорее, последний владелец картины, поскольку уголь стирается быстро, назвал картину по цвету хитона изображенной здесь женщины.
– Пожалуйста, – обратилась Рози к Стейнеру, – может быть, перейдем к делу? У меня мало времени. Я уже опаздываю.
Стейнер собрался еще раз спросить, точно ли Рози решила брать эту картину, но увидел ее лицо и понял, что спрашивать не обязательно. Но он увидел и понял не только это. У нее был усталый и замкнутый вид – такой вид бывает у человека, который в последнее время переживает большие трудности. Такие лица бывают у женщин, которые запросто могут принять искренний интерес и участие за насмешку, а простой деловой разговор – за попытку ухаживания. Стейнер увидел все это и просто кивнул:
– Натуральный обмен. Кольцо за картину. И мы расстаемся довольными и счастливыми.
– Да, мы расстаемся довольными и счастливыми, – улыбнулась Рози. В первый раз за последние четырнадцать лет она улыбалась кому-то так искреннее и открыто. Это была ослепительная улыбка. И когда Стейнер увидел ее, он мгновенно в нее влюбился.
Рози вышла на улицу и замерла у дверей ломбарда, рассеянно глядя на автомобили, что проносились мимо. Точно так же она себя чувствовала в раннем детстве, когда выходила с папой из кинотеатра после хорошего и интересного фильма – ошеломленная и слегка обалдевшая, она уже вроде бы и вернулась в реальный мир, но какая-то ее часть все еще оставалась там, в придуманном мире грез. Но картина была не придуманной, а настоящей. И если у Рози и возникали сомнения на этот счет, ей достаточно было взглянуть на большой сверток под мышкой.
У нее за спиной распахнулась дверь, и на улицу вышел старик с портфелем. Сейчас Рози было так хорошо, что и все люди вокруг казались ей добрыми и хорошими. Она улыбнулась пожилому мужчине, как мы улыбаемся людям, вместе с которыми мы пережили пусть даже и странные, но все равно замечательные моменты.
– Простите, пожалуйста, – сказал он, – можно мне вас попросить об одной небольшой услуге? Вы не откажетесь?
Рози мгновенно насторожилась. Ее улыбка тут же погасла.
– Смотря что за услуга, но вообще-то я не оказываю никаких услуг незнакомым людям. – И это еще слабо сказано. На самом деле, она даже и не разговаривает с незнакомыми людьми.
Он как будто смутился, и это слегка успокоило Рози.
– Да, наверное, мое предложение прозвучит странно. Но может так получиться, что от него будет польза для нас обоих. Кстати, позвольте представиться. Леффертс. Роб Леффертс.
– Рози Макклендон, – сказала Рози. Она уже пожалела о том, что вообще вступила в беседу. Может, ей даже не стоило называть ему свое имя. Надо бы поскорее распрощаться и уйти восвояси. – Знаете, мистер Леффертс, у меня мало времени… мне надо бежать, я уже опаздываю…
– Я вас очень прошу. – Он поставил портфель на землю, открыл бумажный пакет, который держал в другой руке, и достал потрепанную книжку в мягкой обложке. Одну из тех, которые он выбрал в ломбарде. На обложке был изображен мужчина в полосатой тюремной робе, готовый шагнуть в темный пролет: то ли в пещеру, то ли в тоннель. – Вас это не затруднит. Прочитайте, пожалуйста, первый абзац этой книги. Вслух.
– Прямо здесь? – Рози растерянно огляделась. – Посреди улицы? Но зачем?
Но он лишь повторил:
– Я вас очень прошу.
Рози взяла книжку, рассудив про себя, что, если она сейчас выполнит его просьбу, он оставит ее в покое и она сможет уйти, не наделав еще каких-нибудь глупостей. А уйти ей хотелось как можно скорее, потому что ей вдруг пришло в голову, что дедуля немного того… с приветом. Может быть, он и не буйный, но с головой у него явно не все в порядке. А если он все-таки буйный, то лучше выяснить это прямо сейчас, пока они не отошли от ломбарда – и Билла Стейнера.
Книга называлась «Темный тоннель». Автора Рози не знала: какой-то Дэвид Гудис. Она открыла страницу с уведомлением об ответственности за нарушение авторских прав. Ничего удивительного, что она и не слышала про такого писателя (хотя название книги показалось ей смутно знакомым): «Темный тоннель» вышел в 1946 году, за шестнадцать лет до ее рождения.
Она взглянула на Роба Леффертса. Он энергично закивал головой, явно сгорая от нетерпения… и Рози еще показалось, что его взгляд светился надеждой. Странно, с чего бы? Но ей действительно так показалось.
Рози открыла книгу на первой странице и начала читать. Она и сама почему-то разволновалась (с кем поведешься, от того и наберешься, как часто говаривала ее мама). Хорошо еще, что абзац оказался совсем небольшим.
– «Ему просто не повезло. Но не повезло крупно. Перри был невиновен. Этот скромный и славный парень никогда не желал другим зла, жил себе тихо и никому не мешал. Но так получилось, что «против» него было все, а «за» не было ничего. Присяжные признали его виновным. Судья зачитал приговор: пожизненное заключение. И его увезли в Сан-Квентин».
Рози закрыла книжку и вернула ее Леффертсу.
– Ну как я справилась? Ничего?
Он улыбнулся, явно очень довольный.
– Лучше, чем ничего, госпожа Макклендон. Но я вас еще попрошу… только один небольшой отрывок… уж порадуйте старика… – Он быстро перелистал книжку, открыл ее на нужной странице и протянул обратно Рози. – Пожалуйста, только диалог. Разговор Перри с таксистом. Со слов: «Знаете, это забавно». Вот здесь, видите?
Рози видела. И на этот раз возражать не стала. Она уже поняла, что Леффертс совсем не буйный. И может быть, даже не псих. Тем более что оно почему-то не проходило: то непонятное, но волнующее возбуждение, которое охватило ее, когда она начала читать первый абзац. Как будто сейчас что-то произойдет… или уже происходит. Что-то по-настоящему интересное.
Происходит, вот именно, радостно отозвалось в душе. Это картина, Рози… ты не забыла, что теперь у тебя есть картина?
Да, конечно. Картина. При одной только мысли о ней настроение у Рози сразу же поднималось, и она себя чувствовала счастливой.
– Странно все это, – произнесла она вслух и улыбнулась. Ей было так хорошо, так хорошо… она просто не могла не улыбаться.
Леффертс кивнул с таким видом, как будто Рози только что сообщила ему, что ее имя – мадам Бовари.
– Да, наверное, со стороны это действительно смотрится странно, и тем не менее… вы нашли, откуда читать?
– Ага.
Она быстро пробежала глазами диалог, пытаясь по речи героев составить себе представление об их характерах. С таксистом все было понятно: Рози сразу представился Джеки Глисон[7] в роли Ральфа Крамдена в старом сериале «Молодожены», который сейчас повторяли по вечерам по восемнадцатому каналу. С Перри было сложнее. Обобщенный характер положительного героя, достаточно пресный и невыразительный. Впрочем, ладно. Чего напрягаться?! Всего-то и нужно, что прочитать полстраницы. Рози откашлялась и начала читать. Уже через пару секунд диалог захватил ее целиком. Она совершенно забыла о том, что стоит на углу оживленного перекрестка, держа под мышкой картину, завернутую в бумагу. Она не замечала, что прохожие с любопытством поглядывают на нее и Леффертса. Она вся погрузилась в книжку.
«– Знаете, это забавно, – сказал таксист. – Я часто определяю по лицам, о чем люди думают. Чем занимаются в жизни. А иногда я даже могу сказать, кто они… вы, например.
– Я, например. И кто же я?
– Вы человек, у которого куча проблем.
– Нет у меня никаких проблем, – буркнул Перри.
– Да ладно, приятель. Уж я-то знаю, – отозвался таксист. – Я разбираюсь в людях. Скажу даже больше. Все ваши проблемы, они из-за женщин.
– И опять мимо. Я женат и вполне счастлив в браке».
Неожиданно Рози поняла, каким должен быть голос у Перри. Он сам собой зазвучал у нее в голове: голос Джеймса Вудса, нервный и напряженный, но при этом слегка ироничный. Это открытие ее окрылило, и она с воодушевлением продолжила чтение. Теперь она представляла себе двух живых людей – сцену из несуществующего фильма с Джеки Глисоном и Джеймсом Вудсом, – которые едут в такси по ночному городу и беседуют вроде бы ни о чем, и тем не менее каждый старается «поддеть» собеседника.
«– Не мимо, а в самую точку. Вы не женаты. Но были женаты, и брак у вас был неудачным.
– Ага, я все понял. Вы при этом присутствовали. Все это время вы прятались в спальне, в шкафу.
– Я расскажу вам про вашу жену, – сказал таксист. – Она была бабой крутой и стервозной. У нее были большие запросы. Она хотела всего и сразу. И чем больше она получала, тем больше хотела. И она всегда получала, чего хотела. Такая вот хрень».
Рози дошла до конца страницы. Ее почему-то пробил озноб. Она молча закрыла книжку и протянула ее Леффертсу, который стоял с таким видом, как будто готов был плясать от счастья.
– У вас замечательный голос! – объявил он. – Низкий, но не занудный, мелодичный и очень чистый, безо всякого различимого акцента – я это понял с самого начала, но голос сам по себе еще ничего не значит. Вы умеете читать! Вы действительно читаете!
– Разумеется, я умею читать. – Рози не знала, то ли ей рассмеяться, то ли обидеться. – Я что, похожа на Маугли, который вырос с волками?
– Нет, конечно же, нет. Я имею в виду другое. Просто часто бывает, что даже очень хорошие чтецы не умеют читать вслух. Они, конечно, читают легко, без запинки, но безо всякого выражения. А диалог, он гораздо сложнее простого повествования… я бы сказал, это решающее испытание. Но когда вы читали, я слышал двух разных людей. Я их действительно слышал!
– Я тоже. Но вы извините меня, мистер Леффертс, мне действительно надо идти. Я…
Она уже развернулась, чтобы уйти, но тут мистер Леффертс протянул руку и легонько дотронулся до ее плеча. Другая женщина, с бо́льшим жизненным опытом, уже давно бы сообразила, что ей устроили прослушивание, пусть даже и посреди оживленной улицы, и не слишком бы удивилась тому, что сказал мистер Леффертс. А вот Рози не сразу оправилась от потрясения, когда он предложил ей работу.
В те минуты, когда Роб Леффертс слушал, как беглая женушка Нормана Дэниэльса читает отрывки из книжки на углу оживленной улицы, сам Норман Дэниэльс сидел у себя в кабинете – тесной маленькой комнатушке на четвертом этаже нового здания полицейского управления. Он сидел, положив ноги на стол и сцепив руки в замок на затылке. Впервые за несколько лет у него появилась возможность положить ноги на стол; обычно стол был завален горой бумаг – бланками, протоколами, обертками от гамбургеров и пирожков, незаконченными отчетами, циркулярами, памятными записками и прочей дрянью, которая накапливалась месяцами. Норман был не из тех людей, которые привыкли убирать за собой (за пять недель его дом, который Рози всегда содержала в идеальном порядке, стал похож на Майами после урагана Эндрю), и обычно его кабинет красноречиво об этом свидетельствовал. Однако сейчас здесь царил чуть ли не идеальный порядок. Почти весь день Норман убил на уборку. Выгреб все ненужные бумаги. Отнес три громадных мешка с этим мусором вниз, в подвал. Он решил сделать все сам, потому что не слишком надеялся на уборщицу-негритоску, которая работала в управлении по будним дням от полуночи до шести утра. Черномазым нельзя доверять никакую работу. Этот урок Норман усвоил от своего отца и не раз убеждался в его правоте. Все политики и поборники прав человека почему-то никак не усвоят простую вещь: черномазые не умеют и не хотят работать. Натура у них такая, африканская.
Норман задумчиво оглядел непривычно чистый стол, на котором остался только телефон – и лежали сейчас его ноги, – и перевел взгляд на стену справа. Раньше эта стена была вся увешана бумагами: листовками с портретами преступников в розыске, срочными донесениями, результатами лабораторных исследований, меню ресторанов с доставкой обедов домой или в офис. Там же висел большой календарь, на котором Норман красной ручкой отмечал даты судебных разбирательств и дни свиданий со сговорчивыми подружками. Но сейчас стена была абсолютно голой. Беглый осмотр кабинета завершился на картонных ящиках из-под виски, составленных у двери. Глядя на них, Норман задумался о том, что жизнь – штука действительно непредсказуемая. Взять, к примеру, его самого. Нрав у него крутой, вспыльчивый. Он этого не отрицает. Он даже готов признать, что из-за собственной вспыльчивости сам иногда нарывается на неприятности. Причем нарывается так конкретно, что потом еще долго из них выпутывается. И если бы год назад ему сказали, что его кабинет будет выглядеть так, как сейчас, он бы сделал отсюда элементарный вывод: в конечном итоге он все же нарвался на неприятности, из которых уже не смог выпутаться, и его поперли с работы. Либо в его личном деле накопилось такое количество строгих выговоров, когда тебя увольняют за систематическое нарушение устава, либо его застали за избиением подозреваемого. Взять того же Рамона Сандерса. Он получил по заслугам, паршивый педик. И Норман был искренне убежден, что именно так и следует поступать с такой мразью. В конце концов он тоже не святой Антоний… Но у всякой игры есть правила, и правила следует соблюдать – или хотя бы не попадаться, когда их нарушаешь. Это как с черномазыми. Все знают (по крайней мере все белые), что черномазые не умеют и не хотят работать, но никто не скажет об этом вслух.
Но его не поперли с работы. Он просто переезжает в другой кабинет. Переезжает из этой дерьмовой каморки, где просидел столько лет – а если точнее, то с первого дня президентства Буша. Переезжает в нормальный офис с нормальными стенами, которые, как говорится, поднимаются до самого потолка и опускаются до самого пола. Его не увольняют. Наоборот, его повышают в должности. Точно как в песенке Чака Берри, где он поет по-французски «C’est la vie – это жизнь». Жизнь – штука непредсказуемая, и ты никогда не знаешь, где тебе повезет.
Облава прошла успешно. По-настоящему большая облава. Для Нормана, возглавлявшего операцию, все обернулось на редкость удачно. Как по заказу. И теперь его задница ценится в управлении на вес золота. Такое вот сказочное превращение.
В этом деле с наркотиками оказалось замешано полгорода. Обычно в подобных делах многое остается неясным, и их невозможно распутать до конца… но на этот раз Норману повезло. Все встало на свои места, все сложилось одно к одному. Как будто дюжину раз подряд на рулетке выпадала семерка, на которую ты ставил с завидным упорством, и каждый раз твоя ставка удваивалась. Его оперативная группа арестовала больше двадцати человек, причем половина из них оказались большими «шишками», и все аресты прошли без сучка и задоринки – никто даже и не сопротивлялся. Окружной прокурор, должно быть, балдеет в оргазме, равных которому у него не было с той блаженной поры, когда он в старшей школе наяривал своего кокер-спаниеля. Норман, который когда-то всерьез опасался, что в один распрекрасный день этот недоношенный дегенерат, окружной прокурор, все-таки привлечет его к уголовной ответственности, если он не научится сдерживать свой взрывоопасный нрав, вдруг превратился в его любимчика. Чак Берри прав: действительно, никогда не знаешь, где тебе повезет.
– «Холодильник набит жратвой и имбирным пивом», – пропел Норман и улыбнулся. Это была радостная и бодрая улыбка. Такая улыбка, которая сразу же располагает к себе и заставляет людей улыбаться в ответ. Но у Рози от этой улыбки прошли бы мурашки по коже, и ей бы отчаянно захотелось превратиться в невидимку. Про себя она называла такую улыбку кусачей улыбкой Нормана.
Казалось бы, все замечательно. Повышение по службе, новый кабинет… Весна в разгаре. Замечательная весна. Только на самом деле для Нормана это была мерзопакостная весна. Просто дерьмовая, говоря откровенно. И все из-за Розы. Он думал, что все закончится очень быстро. Но все получилось не так, как должно было получиться. Рози по-прежнему где-то гуляет. И его это страшно бесило.
Он поехал в Портсайд в тот же день, когда он так замечательно поговорил со своим добрым другом Рамоном в парке через дорогу от полицейского управления. Он приехал туда с фотографией Розы, но от нее было мало толку. Зато когда он упомянул про темные очки и красный шарф (ценные детали, которые выдал ему Рамон Сандерс в ходе их дружественной беседы), один из двоих кассиров дневной смены в кассах «Континентал экспресс» припомнил, что видел такую женщину. Но вот в чем загвоздка: он никак не мог вспомнить, куда она собиралась ехать. Проверить же записи он не мог, потому что никаких записей не было. Она расплатилась наличными и не оформляла багаж.
Норман изучил расписание «Континентал экспресс» и нашел три возможных варианта. Однако третий – автобус на час сорок пять – он отбросил как наименее вероятный. Она бы не стала сидеть на вокзале так долго. Стало быть, оставалось лишь два варианта: большой город в двухстах пятидесяти милях отсюда и еще один город, побольше первого, в самом сердце Среднего Запада.
А потом Норман сделал ошибку – и только потом до него дошло, что это была ошибка, – которая стоила ему по меньшей мере двух недель. Он решил, что она не захочет уезжать далеко от дома, от города, где она родилась и выросла… кто угодно, но только не Роза, эта забитая серая мышка. Но теперь…
Все ладони у Нормана были изрезаны тонкими белыми шрамами. Эти полукруглые шрамы остались от ногтей, но причина была не в ногтях. Причина была в голове – в раскаленной печи, которая, сколько Норман себя помнит, вечно пылала на грани кипения.
– Ты что, страх забыла? – пробормотал он. – А зря. Очень зря. Но ничего, я тебе напомню.
Да. Он до нее доберется. Обязательно доберется. Потому что без Рози все, что случилось этой весной – блестяще провернутая операция, хорошая пресса, репортеры, которые очень его удивили своим неожиданно уважительным отношением, и даже повышение по службе, – вообще ничего не значит. И те женщины, с которыми он спал после того, как Рози сбежала из дома, это тоже вообще ничего не значит. Имеет значение только одно: она от него ушла. Но еще больше его беспокоит другое: он знать не знал, что она собирается выкинуть что-то подобное. И самое главное, что его бесит: она утащила его кредитку. Она ею воспользовалась только раз. И сняла-то всего ничего, какие-то вшивые триста пятьдесят баксов. Но дело не в этом. Дело в том, что она взяла вещь, которая принадлежит ему. Она забыла, кто в доме хозяин. Такая вот хрень, мать ее. И вот за это она заплатит. Причем заплатит по полной программе.
Сполна.
Норман уже задушил одну из тех женщин, с которыми спал после побега Рози. Задушил своими руками, а тело спрятал под башней зернохранилища на западном берегу острова. И опять виноват его вспыльчивый нрав? Может быть, на него снизошло временное помешательство? Приступ неудержимого бешенства? Он как будто отключился, а когда снова пришел в себя… Он помнил только, что подцепил эту женщину на панели, на Фримонт-стрит, где по вечерам собираются проститутки, – миниатюрную миленькую брюнеточку в тесных обтягивающих леггинсах и с такими огромными сиськами, что они просто вываливались из лифчика. Крошка Мэй[8] отдыхает. Он до последнего не замечал, как сильно она похожа на Рози (во всяком случае, теперь он старался себя убедить, что именно так все и было). Он действительно не замечал никакого сходства, пока не начал душить эту женщину – прямо на заднем сиденье своей теперешней служебной машины, неприметного четырехлетнего «шевроле». Просто так получилось, что она повернула голову, и свет от яркого фонаря на башне зернохранилища на мгновение осветил ее лицо; свет упал под определенным углом, и шлюха вдруг превратилась в Рози, в эту сучку, которая ушла от него, не оставив даже прощальной записки, ни одного, мать ее, слова, и прежде чем сам Норман понял, что происходит, он уже захлестнул шлюхину шею ее же лифчиком, и у шлюхи вывалился язык, а ее глаза выскочили из орбит, как стеклянные шарики. Но что самое неприятное: теперь, когда шлюха была мертва, она ни капельки не походила на Розу. Ни капельки.
Он, конечно, не стал ударяться в панику… да и с чего бы ему было паниковать? Не в первый раз, все ж таки.
Знала ли Рози об этом? Может, она что-то чувствовала?
Может, она потому и ушла? Потому что боялась, что он…
– Не будь идиотом, – сказал он себе и закрыл глаза.
И понял, что зря это сделал. Перед глазами сразу возникла картина, которая в последнее время чуть ли не каждую ночь донимала его в его снах: зеленая кредитная карточка «Мерчантс-банка», разросшаяся до гигантских размеров и плывущая в темноте, как огромный раскрашенный дирижабль. Норман поспешно открыл глаза. Руки болели. Он разжал кулаки и безо всякого удивления уставился на продавленные порезы у себя на ладонях. Он давно уже свыкся с этими стигматами своего буйного нрава и знал, как с этим бороться: надо взять себя в руки. Надо подумать и разработать план. И для начала надо еще раз перебрать в памяти все, что мы имеем на данный момент.
Он сразу же позвонил в полицейское управление в ближайшем из двух городов, назвал себя и дал им подробное описание Розы. Он сказал, что ее подозревают в участии в крупном мошенничестве с кредитными карточками (кредитка никак не давала ему покоя; в последнее время он только об этом и думал. Он назвал ее имя как Роза Макклендон. Он почему-то не сомневался, что она взяла свою девичью фамилию. Но даже если Норман ошибался и она решила оставить его фамилию, это можно представить как забавное совпадение: что у подозреваемой та же фамилия, что и у следователя. В конце концов Дэниэльс – это все же не Тржевский или Бошатц.)
А еще он отправил им факсом две фотографии Розы. Один любительский снимок от прошлого августа, когда давний приятель и сослуживец Нормана, Рой Фостер, щелкнул Рози сидящей на заднем крыльце. Норману ужасно не нравилась эта фотка, – в частности, потому что на ней было видно, что Рози к своим тридцати годам нагуляла изрядный жирок, – но снимок был черно-белым, и лицо Розы на нем вышло четко. Вторая фотография представляла собой истинное произведение искусства (у них в управлении работал штатный художник-портретист, талантливый сукин сын по имени Эл Келли, который состряпал этот портрет в нерабочее время по личной просьбе Нормана): та же женщина, но с шарфом на голове.
Полицейские из того, ближнего, города оказались парнями толковыми. Они задавали правильные вопросы и вели поиски именно там, где надо: в приютах для бездомных бродяг, дешевых мотелях и временных общежитиях для проезжих, где тебе могут позволить взглянуть на список постояльцев, если ты знаешь, кого и как спрашивать. Однако их поиски не увенчались успехом. Все свободное время Норман только и делал, что висел на телефоне в отчаянных – и пока что безрезультатных – поисках хоть какого-то следа, хоть какой-то зацепки. Он даже не пожалел денег и сделал запрос, чтобы ему прислали по факсу список фамилий всех тех, кто в течение прошедшего месяца подал прошение на получение водительских прав. И опять мимо.
Норман не допускал даже мысли о том, что он не сумеет найти свою беглую женушку, что она просто исчезнет и избежит наказания за свои многочисленные проступки (и прежде всего за то, что уперла его кредитку), но теперь ему все же пришлось признать, что он, похоже, ошибся в своих расчетах. Похоже, Рози уехала в тот второй город, подальше. Наверное, она так боялась его, что решила, что двести пятьдесят миль – это еще недостаточно далеко.
Впрочем, и восемьсот пятьдесят – это тоже недалеко.
И она скоро об этом узнает.
Что-то он здесь засиделся. Надо бы разыскать тележку и начать потихонечку перевозить весь свой хлам в новый кабинет двумя этажами выше. Норман убрал ноги со стола, и в этот момент зазвонил телефон. Он снял трубку.
– Инспектор Дэниэльс? – раздался в трубке вопросительный голос.
– Он самый, – отозвался Дэниэльс, а про себя уточнил (причем безо всякого удовольствия): инспектор первого ранга Дэниэльс, между прочим.
– Это Оливер Роббинс.
Роббинс. Роббинс. Имя вроде знакомое, только…
– Из «Континентал экспресс». Я продал билет на автобус той женщине, которую вы разыскиваете.
Дэниэльс тут же весь подобрался и выпрямился на стуле.
– Да, мистер Роббинс, я вас прекрасно помню.
– Я вас видел по телевизору, – сказал Роббинс. – Я так рад, что вы взяли всю эту банду. Наркотики – это ужасно. Знаете, мы, работники автовокзала, чуть ли не каждый день наблюдаем, как молодежь балуется наркотиками. Печальное зрелище.
– Да. – Дэниэльс ничем не выказывал своего нетерпения. – Я полностью с вами согласен.
– А этих людей правда посадят в тюрьму?
– Не всех, но большинство точно сядет. Могу я вам чем-то помочь?
– Вообще-то я очень надеюсь, что это я вам смогу помочь, – сказал Роббинс. – Помните, вы просили, чтобы я вам позвонил, если вдруг что-то вспомню? Про эту женщину в темных очках и с красным шарфом.
– Да. – Голос у Нормана оставался по-прежнему спокойным и дружелюбным, но свободная рука сама сжалась в кулак, и ногти впивались в ладонь все глубже и глубже.
– Я думал, что вряд ли еще что-нибудь вспомню, но сегодня утром, когда я был в душе… я действительно кое-что вспомнил. Я думал об этом весь день, и я уверен, что именно так все и было. Она именно так и сказала.
– Что сказала? – Норман по-прежнему говорил ровно, спокойно и даже любезно, но теперь из-под ногтей сжатой в кулак руки показалась кровь. Он открыл пустой ящик стола и свесил над ним кулак, так чтобы кровь капала внутрь. Небольшое крещение – на удачу того бедолаги, кого посадят теперь в этой дерьмовой каморке.
– Понимаете, она не сказала, куда собирается ехать. Это я ей сказал. Наверное, поэтому я и не смог вспомнить, когда вы спрашивали, инспектор Дэниэльс, хотя обычно я на память не жалуюсь.
– Что-то я не понимаю.
– Когда люди покупают билеты, обычно они говорят, куда едут, – пояснил Роббинс. – «Один до Нэшвилла, туда и обратно» или «Пожалуйста, до Лэнсинга, только туда». Вы следите за моей мыслью?
– Да.
– А эта женщина не сказала, куда поедет. Она назвала не место, а время, когда хочет ехать. Я это вспомнил сегодня в душе. Она сказала: «Мне нужен билет на автобус на одиннадцать ноль пять. Там еще есть свободные места?» Как будто ей было не важно, куда ей ехать. Как будто ей было важно…
– Уехать как можно скорее и как можно дальше! – закончил за него Норман. – Ну да, точно! Спасибо огромное, мистер Роббинс!
– Я рад, что сумел вам помочь. – Похоже, Роббинса несколько озадачил всплеск бурных эмоций на том конце линии. – Должно быть, вам очень нужно найти эту женщину.
– Действительно очень, – сказал Норман. Он опять улыбался той самой улыбкой, от которой у Рози всегда бежали мурашки по коже и возникало желание вжаться в стену, чтобы защитить свои почки. – Вы угадали. А этот автобус на одиннадцать ноль пять… куда он идет, мистер Роббинс?
Роббинс назвал ему город и спросил:
– А эта женщина, которую вы разыскиваете, она тоже замешана в деле с наркотиками?
– Нет, она проходит по делу о крупном мошенничестве с кредитными карточками, – сказал Норман. Роббинс начал было что-то говорить – он был явно настроен на долгую и продолжительную беседу, – но Норман бросил трубку, оборвав его на полуслове. Он опять положил ноги на стол. Тележка пока подождет. Вещи можно перетащить и потом. Норман откинулся в кресле и уставился в потолок. – Дело о крупном мошенничестве с кредитками, такая вот хрень, – проговорил он вслух. – Но ты не забыла, что там говорится о длинных руках закона?
Он разжал левый кулак. Ладонь была вся в крови. Даже пальцы были в крови. Норман пошевелил пальцами.
– У закона длинные руки. Вот так-то, сучка, – сказал он в пространство и вдруг рассмеялся. – Очень длинные руки, едри твою мать. И они до тебя доберутся. Уж будь уверена. – Он продолжал сжимать и разжимать окровавленную ладонь, наблюдая за тем, как кровь капает на крышку стола. Но ему было на это плевать. Он смеялся. Ему было хорошо.
Наконец-то все встало на свои места.
Вернувшись в «Дочери и сестры», Рози первым делом разыскала Пэм. Оказалось, что Пэм сидела в комнате отдыха в подвале. Она сидела на раскладном стуле и держала на коленях книжку, но не читала, а наблюдала за Герт Киншоу и крошечным худосочным созданием по имени Синтия как-то там, которое поселилось в «Дочерях» дней десять назад. Синтия носила яркую панковскую прическу: половина волос зеленые, половина оранжевые, – и, судя по виду, не дотягивала по весу и до девяноста фунтов. Ее левое ухо – наполовину оторванное в результате упорных стараний ее бойфренда – скрывалось под толстой повязкой. Сейчас на Синтии была широкая, явно не по размеру, майка без рукавов с портретом Питера Тоша на фоне взвихренного сине-зеленого взрыва, изображавшего психоделическое солнце. Я НИКОГДА НЕ СДАЮСЬ! – гласила надпись на майке. Каждый раз, когда Синтия двигалась, в громадных вырезах сбоку на майке мелькали крошечные голые грудки с сосками цвета клубники. Дышала она тяжело, все лицо было залито потом, но тем не менее вид у нее был донельзя счастливый. Похоже, она пребывала едва ли не в идиотической эйфории – довольная и собой, и жизнью.
Рядом Герт Киншоу и Синтия смотрелись довольно забавно. Герт и эта малявка были как день и ночь. Рози так до сих пор и не разобралась, кто такая Герт: штатный сотрудник, просто женщина, которая постоянно живет в «Дочерях и сестрах», или, как говорится, друг дома. Герт периодически появлялась, жила в «Дочерях» несколько дней, а потом вновь исчезала. Она часто присутствовала на сеансах групповой психотерапии (они проводились два раза в день, и всем женщинам, проживающим в «Дочерях и сестрах», вменялось в обязанность посещать эти сеансы не менее четырех раз в неделю), но сама в обсуждениях не участвовала, только сидела и слушала. Она была очень высокой – шесть футов и дюйм, не меньше, – и крупной: широченные мягкие плечи темного шоколадного цвета, арбузные груди, громадный живот, выпирающий, как подушка, под майкой размера XXXL и свисающий над широкими тренировочными штанами, в которых Герт ходила постоянно. Ее волосы представляли собой взлохмаченную копну мелких курчавых косичек (это было очень эффектно). С первого взгляда она ничем не отличалась от тех грузных теток, которые часами просиживают в прачечных-автоматах, непрестанно сосут леденцы и читают последний выпуск «Нэшнл инкуайрер»[9]. И только если присмотреться внимательнее, можно было заметить, что ее бицепсы хорошо прокачаны и вовсе не напоминают кисель, что у нее крепкие сильные бедра под старыми серыми тренировочными штанами, что ее необъятные ягодицы не колыхаются при ходьбе. Рози ни разу не слышала, чтобы Герт много болтала. Она была разговорчивой только на своих занятиях.
Герт обучала женщин из «Дочерей и сестер» приемам самообороны. К ней на занятия ходили все, кто хотел хоть чему-нибудь научиться. Рози и сама посетила несколько занятий и по-прежнему старалась посвящать тренировкам хотя бы по полчаса в день, чтобы отработать те шесть приемов, которые Герт называла «Шесть замечательных способов, как отшить мерзкого мужика». У нее не особенно получалось, и она сомневалась, что ей хватит духу применить эти приемы на практике – например, против парня с усами Дэвида Кросби, который стоял в дверях бара «Пропусти рюмочку», – но ей очень нравилась Герт. Ей очень нравилось смотреть, как преображается лицо Герт, когда она объясняет своим ученицам основы рукопашного боя: обычно бесстрастное и неподвижное, как лицо изваяния из темной глины, оно вдруг оживало, а глаза загорались душевным и умным огнем. В такие минуты Герт была просто красавицей. Однажды Рози поинтересовалась, чему конкретно их учат. Что это – тай-кван-до, карате, джиуджитсу? В ответ Герт пожала плечами:
– Всего понемножку. Сборная солянка.
Сейчас стол для настольного тенниса был отодвинут в угол, а центр комнаты застелен серыми матами. Вдоль дальней стены – между древним пригрывателем-вертушкой и доисторическим телевизором, который показывал все либо в розовых, либо в зеленых цветах, – стояло около десятка легких раскладных стульев. Но занят был только один: тот, на котором сидела Пэм. С книжкой в руках, с волосами, зачесанными назад и перехваченными синей лентой, и плотно сжатыми коленями, она была похожа на отличницу-старшеклассницу, которая подпирает стенку на школьном балу. Рози уселась рядом с подругой и прислонила к ноге завернутую в бумагу картину.
Герт, весом в добрые двести семьдесят фунтов, и малявка Синтия – которая, может быть, и дотянула бы до ста, то только в альпинистских ботинках и с нагруженным рюкзаком за плечами, – сосредоточенно ходили кругами, выбирая момент для атаки. Синтия отдувалась и улыбалась до ушей. Герт была, как всегда, спокойна и невозмутима. Она слегка наклонила корпус вперед и держала руки перед собой. Рози наблюдала за ними, и ей было немного смешно и немного тревожно. Картина была действительно впечатляющая: как если бы белочка – или, скажем, какой-нибудь бурундук – пыталась сразиться с медведем.
– Ну слава Богу, пришла. А то я уже начала беспокоиться, – сказала Пэм. – Думала снаряжать поисковую группу.
– У меня был такой удивительный день. Кстати, как ты себя чувствуешь?
– Лучше, гораздо лучше. Мидол – великая вещь. Но это ладно, ты лучше рассказывай, что у тебя. Что-то хорошее произошло, интересное? Ты вся сияешь!
– Правда?
– Ага. Ну давай, не томи. Что с тобой приключилось?
– Давай посчитаем. – Рози начала загибать пальцы. – Я узнала, что бриллиант у меня в обручальном кольце – просто дешевая побрякушка. Я обменяла кольцо на картину… повешу ее у себя в квартире, когда перееду. Мне предложили работу… – Она специально умолкла на миг, раззадоривая любопытство подруги, и добавила как бы между прочим: – И я встретила кое-кого интересного.
Пэм вытаращилась на нее во все глаза:
– Да ладно тебе выдумывать!
– Я ничего не выдумываю. Клянусь Богом. Но вы, девушка, не распаляйтесь. Он старый. Лет шестьдесят пять, если не больше. – Она, конечно, имела в виду Робби Леффертса, однако из памяти выплыл совсем другой образ. Билл Стейнер, молодой ювелир в стильном синем жилете и с красивыми глазами. Но это была уже полная ерунда. Не хватало еще и роман завести для полного счастья. Надо ей это, как рак губы. Тем более Стейнер моложе ее лет на семь. Совсем еще мальчик, нет, правда. – Это он предложил мне работу. Его зовут Робби Леффертс. Я потом тебе все расскажу, а сейчас… хочешь взглянуть на мою картину?
– Ну давай, милая, начинай работать, – сказала Герт, обращаясь к Синтии. Ее голос звучал добродушно, но в то же время слегка раздраженно. – Здесь не школьные танцы.
Синтия набросилась на нее, взметнув полой своей громадной майки. Герт ушла вбок, чуть развернулась, схватила малышку Синтию за предплечья и перебросила ее через голову. Сверкнув пятками в воздухе, Синтия приземлилась спиной на маты.
– Упс! – выдохнула она и тут же поднялась на ноги, отскочив от пола, как резиновый мячик.
– Не хочу я смотреть на твою картину, – сказала Пэм. – Разве что там нарисован красивый мужик. Ему правда шестьдесят пять? Что-то я сомневаюсь.
– Может, и больше, – сказала Рози. – Хотя, если честно… то был и другой. Тот, который сказал мне, что мой бриллиант – это на самом деле цирконий. А потом мы с ним поменялись. Кольцо на картину. – Она пару секунд помолчала. – Ему явно поменьше, чем шестьдесят пять.
– А какой он на внешность?
– У него карие глаза. – Рози подняла картину и положила себе на колени. – А остальное потом расскажу, когда ты посмотришь картину.
– Рози, какая ты нудная!
Рози улыбнулась – она почти и забыла, как это приятно, когда над тобой дружелюбно подтрунивает подруга, – и принялась разворачивать плотную бумагу, в которую Билл Стейнер бережно завернул картину, ее первое приобретение в новой жизни.
– Ну ладно, – сказала Герт Синтии, которая снова кружила вокруг нее, выбирая момент для атаки. Герт легонько подпрыгивала на месте, разогреваясь. Ее гигантская грудь вздымалась и опадала, как волны моря, под белой футболкой. – Я тебе показала, как это делается, а теперь твоя очередь. Только запомни: ты меня все равно не швырнешь… можешь даже не напрягаться. Ты, шмакодявочка, надорвешься меня швырять, этакого бегемота… но ты можешь помочь мне упасть самой. Ну что, ты готова?
– Готова-готова, ты не боись. – Синтия заулыбалась еще шире, обнажив мелкие острые зубки. Рози подумала, что теперь она стала похожа на маленького, но опасного и свирепого зверька типа мангуста. – Гертруда Киншоу, давай!
Герт рванулась в атаку. Синтия схватила ее за мясистые предплечья и подставила свое по-мальчишески плоское бедро ей под бок, причем все это было проделано так ловко и так уверенно, что Рози невольно позавидовала этой малявочке. Ей самой такая уверенность и не снилась. Синтия развернулась… и неожиданно Герт полетела вверх тормашками. На миг она словно зависла в воздухе – этакая монументальная галлюцинация в белой футболке и серых спортивных штанах. Футболка задралась, являя миру громадный бюстгальтер. Рози в жизни таких не видела: бежевые эластичные чашечки не уступали размерами наконечникам артиллерийских снарядов для пушек времен Первой мировой войны. Когда Герт упала на маты, комната содрогнулась.
– Да! – радостно завопила Синтия, потрясая руками над головой. – Большая мамочка грохнулась на пол! Да! ДА! Грохнулась, грохнулась! Прямо, блин, на пол…
Герт улыбнулась – она улыбалась редко, но уж когда улыбалась, зрелище было внушительным, даже, можно сказать, устрашающим, – а потом подхватила Синтию на руки, подняла ее над головой и принялась раскручивать, как пропеллер.
– Меня счас стошнит! – заверещала Синтия, но продолжая при этом смеяться. Она превратилась в размытое разноцветное пятно из оранжевых с зеленым волос и яркой психоделической майки. – Ой-ой-ой, меня точно стошниииииииит!
– Хватит, Герт. Прекрати, – раздался с порога тихий спокойный голос. Анна Стивенсон шагнула в комнату. Сегодня она снова была одета в черное с белым (Анна почти всегда так одевалась, Рози всего несколько раз видела ее в нарядах других цветов). На этот раз это были сужающиеся книзу черные брюки и белая шелковая блузка с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой. Строго и элегантно. Анна всегда выглядела элегантно. И Рози даже немножечко ей завидовала.
Герт с пристыженным видом поставила Синтию на ноги.
– Я в порядке, Анна, – бодро заявила Синтия, сделала пару-тройку неверных шагов, запнулась, плюхнулась обратно на маты и захихикала.
– Я вижу, – сухо заметила Анна.
– Зато я швырнула Герт, – объявила Синтия. – Это надо было видеть. Это действительно было что-то. Правда.
– Я даже не сомневаюсь, – сказала Анна. – Но я знаю, что скажет на это Герт. Она скажет, что швырнула себя сама, что ее тело уже было готово упасть, а ты только ему помогла.
– Да, наверное. – Синтия осторожно поднялась на ноги, но тут же снова упала на задницу (вернее, на ту часть тела, которая у нормальных людей называется задницей) и рассмеялась. – Блин, все так и кружится. Словно это не комната, а пластинка.
Анна прошла через зал и остановилась перед Рози и Пэм.
– Что там у вас такое? – Она указала глазами на картину в руках у Рози.
– Картина. Сегодня ее купила. Повешу ее у себя в квартире, когда перееду. – Рози на миг умолкла, а потом спросила с волнением в голосе: – Нравится вам?
Анна молча взяла картину и, держа ее с двух сторон за рамку, отнесла в дальний угол, куда отодвинули теннисный стол. Она поставила картину на стол, и все пять женщин собрались там, встав полукругом. Нет, заметила Рози, оглядевшись по сторонам. Уже семь, а не пять. Робин Сент-Джеймс и Консуэло Дельгадо спустились в комнату отдыха и тоже подошли к столу – они стояли за спиной у Синтии, глядя на картину поверх ее узкого хрупкого плечика. Рози ждала, что кто-то хоть что-нибудь скажет. Она почему-то не сомневалась, что первой выскажется Синтия. Но все почему-то молчали. Причем молчание явно затягивалось, так что Рози уже начала беспокоиться.
– Ну что? – не выдержала она. – Может, кто-нибудь все-таки скажет? Нравится вам или нет?
– Даже не знаю, – сказала Анна. – Она какая-то странная.
– Ага, – согласилась Синтия. – Точно странная. Я что-то похожее уже видела, только очень давно. Еще в детстве.
Анна внимательно посмотрела на Рози:
– А почему вы ее купили?
Рози нервно пожала плечами. Она почему-то ужасно разволновалась.
– Я даже не знаю, как это объяснить. Она как будто меня притянула. Сама.
К удивлению Рози – и ее несказанному облегчению, – Анна вдруг улыбнулась и кивнула головой:
– Да. Таково свойство искусства. Любого искусства, не только живописи… это может быть и скульптура, и книга, и даже замок из песка. Что-то оставит нас равнодушным. А что-то, наоборот, затронет. Есть вещи, которые созданы словно для нас. Как будто те люди, которые их сотворили, обращаются к нам через свои творения. Но конкретно эта картина… как по-вашему, Рози, она красивая?
Рози внимательно присмотрелась к картине, пытаясь увидеть ее такой, какой увидела тогда, в ломбарде: когда странный безмолвный зов, исходивший от этой картины, проник ей в самую душу, так что Рози просто застыла на месте и не могла думать вообще ни о чем другом. Она смотрела на женщину на картине. Светловолосую женщину с длинной косой, в тоге (или хитоне; мистер Леффертс назвал ее одеяние хитоном) цвета роза марена, что стояла в высокой траве на вершине холма. Взгляд Рози на миг задержался на золотом браслете над ее правым локтем, а потом соскользнул на разрушенный храм и поверженную статую
(поверженное божество)
у подножия холма. Именно туда и смотрела женщина на картине.
Откуда ты знаешь, куда она смотрит? Откуда тебе это знать?! Ты же не видишь ее лица!
Да… но, с другой стороны, куда ей еще смотреть?
– Нет, – задумчиво проговорила Рози. – Когда я ее покупала, я вообще не задумывалась о том, красивая она или нет. Мне она показалась сильной. И меня привлекла именно эта сила. Разве хорошая картина обязательно должна быть красивой?
– Вовсе не обязательно, – сказала Консуэло. – Взять, скажем, Джексона Поллока. Его вещи были совсем не красивы, но в них есть чувство, энергия… Или Диана Эрбас, например. Как вам ее работы?
– А кто это? – спросила Синтия.
– Известный фотограф. Она сделала себе имя на фотографиях бородатых женщин и карликов с сигаретами в зубах.
– Ага. – Синтия на минуту задумалась, переваривая информацию, а потом вся просияла. – Точно, я вспомнила. Я, кажется, видела ее снимок. На одной вечеринке, когда я еще тусовалась с художниками. В какой-то пижонской художественной галерее. Там заправлял этот парень… как его… Эпплторп. Ну да, Роберт Эпплторп. И знаете, что там было, на снимке? Один парень отсасывал причиндал другому! Нет, правда! И это была вовсе не жалкая имитация, как в порножурналах, нет. Я хочу сказать… этот парень, на снимке, он действительно очень старался, он делал дело и подходил к этому делу со всей ответственностью. Я в жизни не видела, чтобы у мужика был такой мощный шланг между ног…
– Мэпплторп, – сухо проговорила Анна.
– Что?
– Его звали Мэпплторп, а не Эпплторп.
– Да, точно. Мэпплторп.
– Он умер.
– Да?! От чего? – спросила Синтия.
– От СПИДа. – Анна по-прежнему очень внимательно изучала картину и говорила слегка рассеянно. – Такая болезнь. Распространяется половым путем.
– Ты говорила, что видела где-то картину, похожую на картину Рози, – пробасила Герт. – И где это было, малявка? Тоже в какой-нибудь галерее?
– Нет. – При обсуждении Мэпплторпа Синтия только казалась заинтересованной. Но сейчас она вдруг зарделась и смущенно заулыбалась, как будто боялась, что ее засмеют, и заранее готовилась дать отпор. – И не то чтобы даже похожую… просто…
– Ну давай, говори, – подбодрила ее Рози.
– Ну это… Мой отец был методистским священником в Бейкерсфилде, – начала Синтия. – Я там родилась, в Бейкерсфилде, штат Калифорния. Мы жили тогда в пасторанте… ну, в доме при церкви… там внизу были комнаты, где собирались прихожане, и там на стенах висели старые картины. Портреты президентов, цветы, собаки и подобная ерунда. Просто картины повесить на стенку, чтобы стены не выглядели слишком голыми.
Рози кивнула, вспомнив картины, которые пылились на полках ломбарда: венецианские пейзажи с гондолами, вазы с фруктами, собаки и лисы. Просто картины повесить на стенку, чтобы стены не выглядели слишком голыми. Как рты без языков.
– Но там была одна картина… как же она называлась… сейчас вспомню. – Синтия нахмурилась. – «Де Сото смотрит на запад»[10]. По-моему, так. На ней был изображен этот самый конкистадор. В широких прикольных штанах и таком смешном шлеме по типу кастрюли. Он стоял на вершине утеса в окружении индейцев. И смотрел на большую реку далеко-далеко внизу, за лесом. Наверное, это была Миссисипи. Но что самое интересное…
Синтия смущенно умолкла. Ее щеки горели, и она больше не улыбалась. Толстая повязка у нее на ухе сейчас казалась особенно белой и даже как будто живой, словно это был и не бинт, а какая-то ненормальная часть тела, намертво пришитая к голове. Рози в который раз призадумалась – а с тех пор, как она поселилась в «Дочерях и сестрах», она очень часто об этом думала, – почему мужчины такие жестокие. Не все, конечно. Но многие. Откуда берется эта зверская злоба? Что-то с ними не так… Может быть, им не хватает чего-то. Или, наоборот, эта мерзость есть в каждом из них изначально, и когда она накапливается до критической массы, что-то в них «перегорает», как испорченная микросхема в компьютере?
– Продолжай, Синтия, – подбодрила ее Анна. – Мы не будем смеяться, не бойся. Правда?
Все согласно кивнули: не будем.
Синтия заложила руки за спину, как девочка-школьница, которую вызвали на уроке к доске читать наизусть стихотворение.
– Ну это… – проговорила она тоненьким голоском, который звучал просто по-детски по сравнению с ее обычным звонким голосом. – Мне казалось, что река на картине движется. Вот что меня привлекало. Не вся картина, а только река. Картина висела в той комнате, где по четвергам проходили библейские чтения. Я часто туда приходила и часами просиживала перед этой картиной. Как перед телевизором, правда. Я смотрела на то, как течет река… или ждала, что она потечет. Я уже толком не помню. Мне тогда было лет девять-десять. Но я все-таки помню, как я сидела перед картиной и думала: если река и вправду течет, значит, по ней обязательно что-нибудь проплывет – плот, или лодка, или каноэ с индейцами… и тогда я буду знать наверняка. Но однажды картина исчезла. Я пришла, а ее просто не было. Куда-то делась, не знаю. Наверное, мама увидела, как я сижу перед ней, впялившись в одну точку, и…
– Она испугалась и убрала картину, – закончила за нее Робин.
– Ага. Может быть, даже выбросила на помойку, – сказала Синтия. – Я тогда была маленькой, мало что понимала. Но когда я увидела эту твою картину, Рози, я сразу вспомнила про ту, свою.
Пэм повнимательнее присмотрелась к картине.
– Да, – сказала она задумчиво. – Я тебя понимаю. У меня ощущение, как будто я слышу, как она дышит. Эта женщина на картине.
Все рассмеялись, и Рози тоже.
– Нет, я о другом говорю, – сказала Синтия. – Просто… она слегка старомодная, что ли… как те картины, которые в школах висят, в классных комнатах… и она вся какая-то блеклая, кроме платья и туч на небе, все цвета очень бледные. И на моей картине с де Сото все было бледным, как будто выцветшим. Все, кроме реки. Река была яркой, серебряной. По сравнению со всем остальным она казалась живой, настоящей.
Герт повернулась к Рози:
– Расскажи про свою работу. Я слышала, ты говорила, что тебе предложили работу.
– Все расскажи, – вставила Пэм.
– Да, – заключила Анна. – Расскажите нам все по порядку, а потом я вас попрошу на минутку зайти ко мне. У меня есть для вас новости.
– Это… это то, чего я ждала?
Анна улыбнулась:
– Мне кажется, да.
– Это очень хорошая квартира, одна из лучших в нашем списке, и я надеюсь, она вам тоже понравится, – сказала Анна. На самом краешке ее заваленного бумагами стола лежала стопка листовок с объявлением о предстоящем летнем пикнике с концертом, который «Дочери и сестры» устраивали в городском парке. Это был праздник для всех желающих, что-то вроде народных гуляний – мероприятие, которое затевалось частично для сбора средств и частично для поддержания благоприятного имиджа организации в глазах горожан. Анна взяла одну листовку и быстренько начертила план на обратной стороне. – Вот здесь кухня, здесь откидная кровать. Здесь что-то вроде гостиной. Это ванная. Вообще-то там тесновато. Когда сидишь на унитазе, ноги приходится ставить под душ. Но зато это ваша квартира.
– Да, моя, – прошептала Рози. Ее вновь охватило то зыбкое чувство, о котором она даже и не вспоминала за последние несколько недель. Ощущение, что все это просто волшебный сон, который не может продлиться вечно: сейчас она проснется в постели с Норманом, и все закончится.
– Вид из окна чудесный… не Лейк-драйв, конечно. Но Брайант-парк тоже очень красивый, не хуже озера. Особенно летом. Второй этаж. И соседи вполне приличные. В восьмидесятых годах это был неспокойный квартал, но сейчас там опять все наладилось.
– Вы так рассказываете… как будто вы сами все это видели.
Анна пожала плечами – элегантно и очень изящно; она вообще все делала элегантно – и дорисовала на плане лестничную площадку и лестницу. Получилась простая, без всяких излишеств схемка, которая выдавала руку умелого чертежника.
– Я там часто бывала, – проговорила Анна, не поднимая головы. – Но никогда не жила, если вы спрашиваете об этом.
– Понятно.
– Когда кто-то из наших женщин уезжает от нас насовсем, она забирает с собой и частичку моей души. И так происходит с каждой. Наверное, это звучит высокопарно… сентиментально. Но я не боюсь показаться сентиментальной. Это действительно так. И только это имеет значение. Ну как вам, нравится?
Рози порывисто обняла Анну за плечи и тут же об этом пожалела, потому что Анна мгновенно напряглась. Не стоило этого делать, мысленно отругала она себя, разжимая объятия. Я же знала, что этого делать нельзя. И ведь действительно знала. Анна Стивенсон была очень доброй, в этом Рози ни капельки не сомневалась. Может быть, даже святой. Но иногда в ней проскальзывало это странное высокомерие. И еще ее раздражало, когда кто-то чужой вторгался в ее личное пространство. Она не любила, когда кто-то стоял слишком близко. И особенно не любила, когда к ней прикасались.
– Простите, пожалуйста, – пробормотала Рози и отступила еще на шаг.
– Бросьте, что еще за глупости, – резко проговорила Анна. – Так что насчет квартиры?
– Замечательная квартира. Мне очень нравится.
Анна улыбнулась, и то неловкое напряжение, которое вроде бы воцарилось между ними, сразу исчезло. Анна поставила крестик на стене гостиной рядом с узеньким прямоугольником, который изображал на плане единственное окно.
– Ваша картина… Мне кажется, ее надо повесить сюда. Смотрите, здесь ей самое место.
– Да, мне тоже так кажется.
Анна отложила карандаш.
– Я очень рада, Рози, что смогла вам помочь. И я рада, что вы пришли к нам. Ну вот, у вас опять тушь потекла. – Она пододвинула Рози упаковку салфеток «Клинекс». Скорее всего это была уже другая коробка – не та, что стояла на этом столе во время их первого разговора. Рози не сомневалась, что «Клинекс» здесь расходуется упаковками.
Она взяла одну салфетку и вытерла слезы.
– Знаете, вы спасли мне жизнь, – хрипло проговорила она. – Вы спасли мне жизнь, и я никогда, никогда этого не забуду.
– Лестно, конечно, но в корне неверно, – ответила Анна своим неизменно спокойным тоном. – Это не я вас спасла. Точно так же, как это не Синтия бросила Герт сегодня на тренировке. Вы спасли себя сами, когда набрались решимости и ушли от человека, который делал вам больно.
– Но все равно огромное вам спасибо. Хотя бы за то, что вы есть.
– Да пожалуйста.
Впервые за все те недели, которые Рози провела в «Дочерях и сестрах», она увидела, что глаза Анны Стивенсон блестят от слез. Она пододвинула Анне коробку «Клинекса».
– Ну вот, – сказала она с улыбкой. – Теперь и у вас тушь потекла.
Анна рассмеялась, взяла салфетку, вытерла слезы, скомкала салфетку и выбросила ее в мусорную корзину.
– Я ненавижу, когда я плачу. Это мой самый страшный секрет. Каждый раз я решаю, что никогда больше не буду плакать, что мне нельзя плакать, и у меня вроде бы получается… я держусь, а потом опять плачу. У меня и с мужчинами что-то похожее происходит.
На миг перед мысленным взором Рози возник образ Билла Стейнера с его карими глазами и красивой улыбкой.
Анна снова взяла карандаш, что-то написала под планом квартиры и протянула листок Рози. Это был адрес: Трентон-стрит, дом 897.
– Теперь это ваш новый адрес, – сказала Анна. – Отсюда, правда, далековато. На другом конце города. Но ничего. Вы ведь уже научились ездить на здешних автобусах, верно?
Рози кивнула и улыбнулась, хотя на глаза вновь навернулись слезы.
– Можете дать этот адрес своим друзьям, которые у вас уже есть и которые еще будут. Но пока его знают лишь два человека: мы с вами. – Анна вроде бы не говорила ничего такого, но Рози знала, что она с ней прощается. Только теперь до нее начало доходить, что ее жизнь в «Дочерях и сестрах» подходит к концу и у нее начинается новая жизнь, другая. – Так вот, – продолжала Анна, – от меня этот адрес никто не узнает. От нас этот адрес никто не узнает. Таково правило «Дочерей и сестер». Мы никогда никому не даем адресов наших женщин. Я здесь работаю двадцать лет, двадцать лет я общаюсь с женщинами и девушками, которым пришлось пережить настоящий ужас. И я давно уже убедилась, что это единственно правильное решение: никогда никому не давать чужих адресов.
Рози об этом знала. Пэм ей все объяснила – и Консуэло Дельгадо тоже, и Робин Сент-Джеймс – на «вечерних распевках», как женщины из «Дочерей и сестер» называли веселые шумные посиделки в комнате отдыха, где собирались все, кто хотел провести вечер в приятной компании. Впрочем, Рози не требовалось никаких дополнительных разъяснений. Если ты не совсем тупая, то тебе хватит трех-четырех сеансов групповой терапии, чтобы усвоить все правила этого дома. У Анны был список квартир, но помимо этого «списка Анны» у нее был еще и «свод правил Анны».
– Вы все еще переживаете из-за него? – вдруг спросила Анна.
Рози вздрогнула и удивленно взглянула на Анну. Она задумалась о своем и поэтому не сразу сообразила, о чем ее спрашивают.
– Из-за вашего мужа, – пояснила Анна, заметив ее замешательство. – Вы все еще переживаете из-за него? Я знаю, что в первые две недели вы очень боялись, что он вас разыщет, «возьмет след», как вы говорили. А теперь? Вы по-прежнему боитесь его или уже нет?
Рози задумалась. Это был очень серьезный вопрос. Действительно, в первые две недели ее просто трясло от страха. Сказать, что она боялась, – это вообще ничего не сказать. Она была в ужасе… Впрочем, и ужас тоже не совсем верное слово, потому что ее тогдашние переживания, связанные с Норманом, были слишком завязаны на других чувствах – и, наверное, в какой-то степени преобразованы этими чувствами. Ей было стыдно, что она не смогла стать хорошей женой и сохранить свой брак. Она скучала по некоторым вещам, которые остались дома и которые были ей очень дороги (винни-пухское кресло, к примеру). Она пребывала почти в эйфории от того, что все-таки вырвалась на свободу. Для нее это было новое чувство: опьянение свободой, и его пронзительная новизна не притуплялась со временем. И еще она чувствовала облегчение. Но какое-то странное облегчение, такое спокойное и холодное, что иногда ей самой становилось страшно. Наверное, что-то подобное должен испытывать канатоходец, который идет по канату, натянутому над глубоким каньоном, и вдруг оступается, начинает падать… но в последний момент все же удерживает равновесие.
И все-таки страх был сильнее всего. Рози до сих пор с содроганием вспоминала тот сон, который ей снился едва ли не каждую ночь в первые две недели ее пребывания в «Дочерях и сестрах». Всегда один и тот же сон: она сидит на крыльце «Дочерей», в одном из плетеных кресел. Рядом нет никого. Она сидит совершенно одна, и вдруг перед домом останавливается машина. Новенькая красная «сентра». Дверца с водительской стороны открывается, и из машины выходит Норман. В черной футболке с картой Южного Вьетнама. Иногда под рисунком написано: ГДЕ ТВОЕ СЕРДЦЕ, ТАМ И ТВОЙ ДОМ. Иногда: БЕЗДОМНЫЙ, БОЛЬНОЙ СПИДОМ. Его брюки забрызганы кровью. В ушах подрагивают серьги-висюльки – мелкие тонкие косточки, похожие с виду на кости человеческих пальцев. В руке он держит какую-то маску. Маска тоже забрызгана кровью, к ней прилипли ошметки мяса. Рози пытается встать, но не может подняться с кресла. Ее как будто парализовало. Она сидит и беспомощно смотрит, как Норман медленно приближается к ней. Он идет по дорожке, и серьги подрагивают у него в ушах. Он уже совсем рядом. Он подходит к ней и говорит, что им надо поговорить. Очень серьезно поговорить. Он улыбается, и теперь она видит, что его зубы тоже в крови…
– Рози? – тихонько позвала Анна. – Вы меня слышите?
– Да, – выдохнула Рози. – Я слышу. И знаете, да. Я по-прежнему его боюсь.
– Вообще-то это неудивительно. Мне даже кажется, что на каком-то глубинном уровне этот страх не пройдет никогда. Но с вами все будет в порядке. Главное, чтобы вы помнили: теперь у вас новая жизнь. И теперь у вас в жизни будут периоды, и с каждым разом все дольше и дольше, когда вам уже не придется бояться вообще ничего… когда вы даже о нем и не вспомните. Но я спрашивала о другом. Я спрашивала вот о чем: вы и сейчас тоже боитесь, что он вас найдет?
Да, она и сейчас боится. Но уже не так сильно, как раньше. За те четырнадцать лет, которые Рози прожила с Норманом, она выслушала немало его разговоров по телефону, связанных с его работой. Она не раз наблюдала, как он обсуждает с коллегами разные деловые вопросы. Обычно мужчины сидели в гостиной на первом этаже или – если на улице было тепло – на заднем дворе за домом, а Рози носила им кофе и пиво. И почти всегда Норман был главным в этих жарких дискуссиях. Он громко и раздраженно кричал, налегая грудью на стол и сжимая в руке початую бутылку с пивом, которая просто терялась в его огромном кулаке. Он подавлял собеседников, отметал все их слабые возражения и просто не слушал того, что они говорят. Иногда – очень редко, но все же – он снисходил до того, чтобы обсудить свои дела с Рози. Разумеется, ему было плевать на все ее соображения. Да он и не спрашивал ее мнения. Она была для него как удобная стенка для отработки ударов – его собственных мыслей. Он любил, чтобы все было быстро и сразу. Он не терпел никаких промедлений. Если дело, которое он расследовал, не разрешалось мгновенно и затягивалось больше, чем на три недели, он терял к нему всяческий интерес. Такие дела он называл точно так же, как Герт называла свои приемы самообороны: объедки, куски залежалые, годные разве что на солянку.
Может, теперь она тоже попала в разряд объедков?
Хотелось бы верить. И Рози очень старалась заставить себя поверить. Старалась и все-таки не могла… не могла, и все.
– Я не знаю, – задумчиво проговорила она. – Иногда мне кажется, что, если бы он собирался меня разыскать, он бы давно уже проявился. Но, с другой стороны, я боюсь, что он все еще меня ищет. И он все-таки не водитель какой-нибудь или водопроводчик. Он полицейский. Искать людей – это его работа.
Анна кивнула:
– Я знаю. И это значит, что он очень опасен и вам надо быть особенно осторожной. И самое главное, помните: вы не одна. Теперь вам есть на кого положиться, Рози. Обещайте мне, что не забудете.
– Не забуду.
– Вы уверены?
– Да.
– А если он все же проявится, что вы будете делать?
– Захлопну дверь у него перед носом и запру ее на замок.
– А потом?
– Позвоню в службу спасения. 911.
– Без малейших сомнений?
– Да, без малейших сомнений, – решительно проговорила Рози. И если Норман и вправду придет за ней, она именно так и поступит. Но ей все равно будет страшно. Почему? Да потому что Норман полицейский, как и те люди, которым она позвонит… они ведь тоже будут из полиции. И потом она знает Нормана. Он всегда добивается своего. И он сам говорил ей не раз: все полицейские братья.
– А когда вы позвоните в службу спасения, что вы сделаете потом?
– Позвоню вам.
Анна кивнула.
– С вами все будет в порядке.
– Я знаю. – Рози очень старалась, чтобы ее голос звучал уверенно, но в глубине души она все-таки сомневалась… и, наверное, всегда будет сомневаться. Пока Норман действительно не придет за ней и все умозрительные построения не обернутся жестокой реальностью. И если это случится, кто знает… может быть, вся ее жизнь за последние полтора месяца – «Дочери и сестры», отель «Уайтстоун», Анна, ее новые подруги – развеется, словно сон при пробуждении, когда одним распрекрасным вечером кто-то тихонечко постучится к ней в дверь, и она побежит открывать, и за дверью окажется Норман? А вдруг все именно так и будет?
Взгляд Рози упал на картину, которая стояла прислоненной к стене у двери в кабинет, и она поняла, что такого не будет. Картина стояла лицом к стене, но для того, чтобы видеть ее, Рози было не нужно на нее смотреть. Фигура женщины на холме под хмурым грозовым небом и с разрушенным храмом внизу так ясно запечатлелась в ее сознании, что ей достаточно было просто закрыть глаза, и ей сразу же представлялось, что она видит картину. Как наяву. Рози действительно воспринимала картину как самую что ни на есть настоящую явь. И на свете, наверное, не было ничего
