Пять лучших романов (сборник)
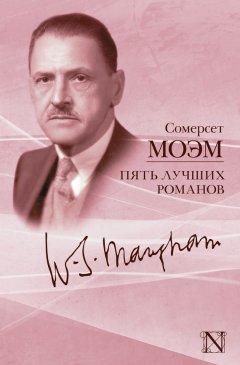
© The Royal Literary Fund, 1919, 1925, 1930, 1937, 1944
© Перевод. H. Ман, наследники, 2012
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2013, 2015
© Перевод. А. Иорданский, наследники, 2014
© Перевод. Г. Островская, наследники, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
Луна и грош
© Перевод. Н. Ман, наследники, 2012.
Глава первая
Когда я познакомился с Чарлзом Стриклендом, мне, по правде говоря, и в голову не пришло, что он какой-то необыкновенный человек. А сейчас вряд ли кто станет отрицать его величие. Я имею в виду не величие удачливого политика или прославленного полководца, ибо оно относится скорее к месту, занимаемому человеком, чем к нему самому, и перемена обстоятельств нередко низводит это величие до весьма скромных размеров. Премьер-министр вне своего министерства сплошь и рядом оказывается болтливым фанфароном, а генерал без армии – всего-навсего пошловатым провинциальным львом. Величие Чарлза Стрикленда было подлинным величием. Вам может не нравиться его искусство, но равнодушны вы к нему не останетесь. Оно вас поражает, приковывает к себе. Прошли времена, когда оно было предметом насмешки, и теперь уже не считается признаком эксцентричности отстаивать его или извращенностью – его превозносить. Недостатки, ему свойственные, признаны необходимым дополнением его достоинств. Правда, идут еще споры о месте этого художника в искусстве, и весьма вероятно, что славословия его почитателей столь же безосновательны, как и пренебрежительные отзывы хулителей. Одно несомненно – это творение гения. Мне думается, что самое интересное в искусстве – личность художника, и если она оригинальна, то я готов простить ему тысячи ошибок. Веласкес как художник был, вероятно, выше Эль Греко, но к нему привыкаешь и уже не так восхищаешься им, тогда как чувственный и трагический критянин открывает нам вечную жертвенность своей души. Актер, художник, поэт или музыкант своим искусством, возвышенным или прекрасным, удовлетворяет эстетическое чувство; но это варварское удовлетворение, оно сродни половому инстинкту, ибо он отдает вам еще и самого себя. Его тайна увлекательна, как детективный роман. Это загадка, которую не разгадать, все равно как загадку вселенной. Самая незначительная из работ Стрикленда свидетельствует о личности художника – своеобразной, сложной, мученической. Это-то и не оставляет равнодушными к его картинам даже тех, кому они не по вкусу, и это же пробудило столь острый интерес к его жизни, к особенностям его характера.
Со дня смерти Стрикленда не прошло и четырех лет, когда Морис Гюре опубликовал в «Меркюр де Франс» статью, которая спасла от забвения этого художника. По тропе, проложенной Гюре, устремились с большим или меньшим рвением многие известные литераторы: уже долгое время ни к одному критику во Франции так не прислушивались, да, и правда, его доводы не могли не произвести впечатление; они казались экстравагантными, но последующие критические работы подтвердили его мнение, и слава Чарлза Стрикленда с тех пор зиждется на фундаменте, заложенном этим французом.
То, как забрезжила эта слава, пожалуй, один из самых романтических эпизодов в истории искусства. Но я не собираюсь заниматься разбором искусства Чарлза Стрикленда или лишь постольку, поскольку оно характеризует его личность. Я не могу согласиться с художниками, спесиво утверждающими, что непосвященный обязательно ничего не смыслит в живописи и должен откликаться на нее только молчанием или чековой книжкой. Нелепейшее заблуждение – почитать искусство за ремесло, до конца понятное только ремесленнику. Искусство – это манифестация чувств, а чувство говорит общепринятым языком. Согласен я только с тем, что критика, лишенная практического понимания технологии искусства, редко высказывает сколько-нибудь значительные суждения, а мое невежество в живописи беспредельно. По счастью, мне нет надобности пускаться в подобную авантюру, так как мой друг мистер Эдуард Леггат, талантливый писатель и превосходный художник, исчерпывающе проанализировал творчество Стрикленда в своей небольшой книжке[1], которую я бы назвал образцом изящного стиля, культивируемого во Франции со значительно большим успехом, нежели в Англии.
Морис Гюре в своей знаменитой статье дал жизнеописание Стрикленда, рассчитанное на то, чтобы возбудить в публике интерес и любопытство. Одержимый бескорыстной страстью к искусству, он стремился привлечь внимание истинных знатоков к таланту, необыкновенно своеобразному, но был слишком хорошим журналистом, чтобы не знать, что «чисто человеческий интерес» способствует скорейшему достижению этой цели. И когда те, кто некогда встречался со Стриклендом, – писатели, знавшие его в Лондоне, художники, сидевшие с ним бок о бок в кафе на Монмартре, – к своему удивлению, открыли, что тот, кто жил среди них и кого они принимали за жалкого неудачника, – подлинный гений, в журналы Франции и Америки хлынул поток статей. Эти воспоминания и восхваления, подливая масла в огонь, не удовлетворяли любопытства публики, а только еще больше его разжигали. Тема была благодарная, и усердный Вейтбрехт-Ротгольц в своей внушительной монографии[2] привел уже длинный список высказываний о Стрикленде.
В человеке заложена способность к мифотворчеству. Поэтому люди, алчно впитывая в себя ошеломляющие или таинственные рассказы о жизни тех, что выделились из среды себе подобных, творят легенду и сами же проникаются фанатической верой в нее. Это бунт романтики против заурядности жизни.
Человек, о котором сложена легенда, получает паспорт на бессмертие. Иронический философ усмехается при мысли, что человечество благоговейно хранит память о сэре Уолтере Рэли, водрузившем английский флаг в до того неведомых землях, не за этот подвиг, а за то, что он бросил свой плащ под ноги королеве-девственнице. Чарлз Стрикленд жил в безвестности. У него было больше врагов, чем друзей. Поэтому писавшие о нем старались всевозможными домыслами пополнить свои скудные воспоминания, хотя и в том малом, что было о нем известно, нашлось бы довольно материала для романтического повествования. Много в его жизни было странного и страшного, натура у него была неистовая, судьба обходилась с ним безжалостно. И легенда о нем мало-помалу обросла такими подробностями, что разумный историк никогда не отважился бы на нее посягнуть.
Но преподобный Роберт Стрикленд не был разумным историком. Он писал биографию своего отца[3], видимо, лишь затем, чтобы «разъяснить некоторые получившие хождение неточности», касающиеся второй половины его жизни и «причинившие немало горя людям, живым еще и поныне». Конечно, многое из того, что рассказывалось о жизни Стрикленда, не могло не шокировать почтенное семейство. Я от души забавлялся, читая труд Стрикленда-сына, и меня это даже радовало, ибо он был крайне сер и скучен. Роберт Стрикленд нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзегезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии. Мысленно я уже видел лиловые епископские чулки на его мускулистых икрах. Это была затея смелая, но рискованная. Легенда немало способствовала росту славы его отца, ибо одних влекло к искусству Стрикленда отвращение, которое они испытывали к нему как к личности, других – сострадание, которое им внушала его гибель, а посему благонамеренные усилия сына странным образом охладили пыл почитателей отца. Не случайно же «Самаритянка»[4], одна из значительнейших работ Стрикленда, после дискуссии, вызванной опубликованием новой биографии, стоила на 235 фунтов дешевле, чем девять месяцев назад, когда ее купил известный коллекционер, вскоре внезапно скончавшийся, отчего картина и пошла опять с молотка.
Возможно, что Стриклендову искусству недостало бы своеобразия и могучей притягательной силы, чтобы оправиться от такого удара, если бы человечество, приверженное к мифу, с досадой не отбросило версии, посягнувшей на наше пристрастие к необычному, тем более что вскоре вышла в свет работа доктора Вейтбрехта-Ротгольца, рассеявшая все горестные сомнения любителей искусства.
Доктор Вейтбрехт-Ротгольц принадлежит к школе историков, которая не только принимает на веру, что человеческая натура насквозь порочна, но старается еще больше очернить ее. И конечно, представители этой школы доставляют куда больше удовольствия читателям, чем коварные историки, предпочитающие выводить людей недюжинных, овеянных дымкой романтики, в качестве образцов семейной добродетели. Меня, например, очень огорчила бы мысль, что Антония и Клеопатру не связывало ничего, кроме экономических интересов. И, право, понадобились бы необычайно убедительные доказательства, чтобы заставить меня поверить, будто Тиберий был не менее благонамеренным монархом, чем король Георг V.
Доктор Вейтбрехт-Ротгольц в таких выражениях расправился с добродетельнейшей биографией, вышедшей из-под пера его преподобия Роберта Стрикленда, что, право же, становилось жаль злополучного пастыря. Его деликатность была объявлена лицемерием, его уклончивое многословие – сплошным враньем, его умолчания – предательством. На основании мелких погрешностей против истины, достойных порицания у писателя, но вполне простительных сыну, вся англосаксонская раса разносилась в пух и прах за ханжество, глупость, претенциозность, коварство и мошеннические проделки. Я лично считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда для опровержения слухов о «неладах» между его отцом и матерью сослался на письмо Чарлза Стрикленда из Парижа, в котором тот называл ее «достойной женщиной», ибо доктор Вейтбрехт-Ротгольц раздобыл и опубликовал факсимиле этого письма, в котором черным по белому стояло: «Черт бы побрал мою жену. Она достойная женщина. Но я бы предпочел, чтобы она уже была в аду». Надо сказать, что церковь во времена своего величия поступала с неугодными ей свидетельствами иначе.
Доктор Вейтбрехт-Ротгольц был пламенным поклонником Чарлза Стрикленда, и читателю не грозила опасность, что он будет всеми способами его обелять. Кроме того, Вейтбрехт-Ротгольц умел безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий. Психопатолог в той же мере, что и искусствовед, он отлично разбирался в мире подсознательного. Ни одному мистику не удавалось лучше прозреть скрытый смысл в обыденном. Мистик видит несказанное, психопатолог – то, о чем не говорят. Это было увлекательное занятие – следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя. Он захлебывался от восторга, когда ему удавалось вытащить на свет Божий еще один пример жестокости или низости, и ликовал, как инквизитор, отправивший на костер еретика, когда какая-нибудь давно позабытая история подрывала сыновний пиетет его преподобия Роберта Стрикленда. Трудолюбие его достойно изумления. Ни одна мелочь не ускользнула от него, и мы можем быть уверены, что если Чарлз Стрикленд когда-нибудь не заплатил по счету прачечной, то этот счет будет приведен in extenso[5], а если ему случилось не отдать взятые взаймы полкроны, то уж ни одна деталь этого преступного правонарушения не будет упущена.
Глава вторая
Раз так много написано о Чарлзе Стрикленде, то стоит ли еще и мне писать о нем? Памятник художнику – его творения. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: впервые я встретился с ним до того, как он стал художником, и нередко виделся с ним в Париже, где ему жилось так трудно. И все же я никогда не написал бы воспоминаний о нем, если бы случайности войны не забросили меня на Таити. Там, как известно, провел он свои последние годы, и там я познакомился с людьми, которые близко знали его. Таким образом, мне представилась возможность пролить свет на ту пору его трагической жизни, которая оставалась сравнительно темной. Если Стрикленд, как многие считают, и вправду великий художник, то, разумеется, интересно послушать рассказы тех, кто изо дня в день встречался с ним. Чего бы мы не дали теперь за воспоминания человека, знавшего Эль Греко не хуже, чем я Чарлза Стрикленда?
Впрочем, я не уверен, что все эти оговорки так уж нужны. Не помню, какой мудрец советовал людям во имя душевного равновесия дважды в день проделывать то, что им неприятно; лично я в точности выполняю это предписание, ибо каждый день встаю и каждый день ложусь в постель. Но, будучи по натуре склонным к аскетизму, я еженедельно изнуряю свою плоть еще более жестоким способом, а именно: читаю литературное приложение к «Таймс».
Поистине это душеспасительная епитимья – размышлять об огромном количестве книг, вышедших в свет, о сладостных надеждах, которые возлагают на них авторы, и о судьбе, ожидающей эти книги. Много ли шансов у отдельной книги пробить себе дорогу в этой сутолоке? А если ей даже сужден успех, то ведь ненадолго. Один Бог знает, какое страдание перенес автор, какой горький опыт остался у него за плечами, какие сердечные боли терзали его, и все лишь для того, чтобы его книга часок-другой поразвлекала случайного читателя или помогла ему разогнать дорожную скуку. А ведь, если судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, авторами вложено в них немало мыслей, а некоторые – плод неустанного труда целой жизни. Из всего этого я делаю вывод, что удовлетворения писатель должен искать только в самой работе и в освобождении от груза своих мыслей, оставаясь равнодушным ко всему привходящему – к хуле и хвале, к успеху и провалу.
Но вместе с войной пришло новое отношение к вещам. Молодежь поклонилась богам, в наше время неведомым, и теперь уже ясно видно направление, по которому двинутся те, что будут жить после нас. Младшее поколение, неугомонное и сознающее свою силу, уже не стучится в двери – оно ворвалось и уселось на наши места. Воздух сотрясается от их крика. Старцы подражают повадкам молодежи и силятся уверить себя, что их время еще не прошло. Они шумят заодно с юнцами, но из их ртов вырывается не воинственный клич, а жалобный писк; они похожи на старых распутниц, с помощью румян и пудры старающихся вернуть себе былую юность. Более мудрые с достоинством идут своей дорогой. В их сдержанной улыбке проглядывает снисходительная насмешка. Они помнят, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли предшествующее, уже усталое поколение, и предвидят, что нынешним бойким факельщикам вскоре тоже придется уступить свое место. Последнего слова не существует. Новый Завет был уже стар, когда Ниневия возносила к небу свое величие. Смелые слова, которые кажутся столь новыми тому, кто их произносит, были, и почти с теми же интонациями, произнесены уже сотни раз. Маятник раскачивается взад и вперед. Движение неизменно совершается по кругу.
Бывает, что человек зажился и из времени, в котором ему принадлежало определенное место, попал в чужое время, – тогда это одна из забавнейших сцен в человеческой комедии. Ну кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А он был знаменитый поэт в свое время, и человечество признавало его гений с единодушием, в наше более сложное время уже немыслимым. Он был выучеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы рифмованными двустишиями. Но разразилась Французская революция, затем наполеоновские войны, и поэты запели новые песни. Крабб продолжал писать нравоучительные рассказы рифмованными двустишиями. Надо думать, он читал стихи юнцов, учинивших такой переполох в мире, и считал их вздором. Конечно, многое в этих стихах и было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, несколько поэм Колриджа и в еще большей степени Шелли открыли человечеству ранее неведомые и обширные области духа. Мистер Крабб был глуп как баран: он продолжал писать нравоучительные истории рифмованными двустишиями. Я прочитываю иногда то, что пишут молодые. Может быть, более пылкий Ките и более возвышенный Шелли уже выпустили в свет новые творения, которые навек запомнит благодарное человечество. Не знаю. Я восхищаюсь тщательностью, с которой они отделывают то, что выходит у них из-под пера, – юность эта так законченна, что говорить об обещаниях, конечно, уже не приходится. Я дивлюсь совершенству их стиля; но все их словесные богатства (сразу видно, что в детстве они заглядывали в «Словарь» Роже) ничего не говорят мне. На мой взгляд, они знают слишком много и чувствуют слишком поверхностно; я не терплю сердечности, с которой они похлопывают меня по спине, и взволнованности, с которой бросаются мне на грудь. Их страсть кажется мне худосочной, их мечты – скучноватыми. Я их не люблю. Я завяз в другом времени. Я по-прежнему буду писать нравоучительные истории рифмованными двустишиями. Но я был бы трижды дурак, если бы делал это не только для собственного развлечения.
Глава третья
Но все это между прочим.
Я был очень молод, когда написал свою первую книгу По счастливой случайности она привлекла к себе внимание, и различные люди стали искать знакомства со мной.
Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературном мире Лондона той поры, когда я, робкий и взволнованный, ступил в его пределы. Давно уже я не бывал в Лондоне, и если романы точно описывают характерные его черты, то, значит, многое там изменилось. И кварталы, в которых главным образом протекает литературная жизнь, теперь иные. Хэмпстед, Ноттинг-Хилл-гейт, Гай-стрит и Кенсингтон уступили место Челси и Блумсбери. В те времена писатель моложе сорока лет привлекал к себе внимание, теперь писатели старше двадцати пяти лет – комические фигуры. Тогда мы конфузились своих чувств, и страх показаться смешным смягчал проявления самонадеянности. Не думаю, чтобы тогдашняя богема очень уж заботилась о строгости нравов, но я не помню и такой неразборчивости, какая, видимо, процветает теперь. Мы не считали себя лицемерами, если покров молчания прикрывал наши безрассудства. Называть вещи своими именами у нас не считалось обязательным, да и женщины в ту пору еще не научились самостоятельности.
Я жил неподалеку от вокзала Виктория и совершал долгие путешествия в омнибусе, отправляясь в гости к радушным литераторам. Прежде чем набраться храбрости и дернуть звонок, я долго шагал взад и вперед по улице и потом, замирая от страха, входил в душную комнату, битком набитую народом. Меня представляли то одной, то другой знаменитости, и я краснел до корней волос, выслушивая добрые слова о своей книге. Я чувствовал, что от меня ждут остроумных реплик, но таковые приходили мне в голову лишь по окончании вечера. Чтобы скрыть свою робость, я усердно передавал соседям чай и плохо нарезанные бутерброды. Мне хотелось остаться незамеченным, чтобы спокойно наблюдать за этими великими людьми, спокойно слушать их умные речи.
Мне помнятся дородные, чопорные дамы, носатые, с жадными глазами, на которых платья выглядели как доспехи, и субтильные, похожие на мышек, старые девы с кротким голоском и колючим взглядом. Я точно зачарованный смотрел, с каким упорством они, не сняв перчаток, поглощают поджаренный хлеб и потом небрежно вытирают пальцы о стулья, воображая, что никто этого не замечает. Для мебели это, конечно, было плохо, но хозяйка, надо думать, отыгрывалась на стульях своих друзей, когда, в свою очередь, бывала у них в гостях. Некоторые из этих дам одевались по моде и уверяли, что не желают ходить чучелами только оттого, что пишут романы: если у тебя изящная фигура, то старайся это подчеркнуть, а красивые туфли на маленькой ножке не помешали еще ни одному издателю купить у тебя твою «продукцию». Другие, напротив, считая такую точку зрения легкомысленной, наряжались в платья фабричного производства и нацепляли на себя поистине варварские украшения. Мужчины, как правило, имели вполне корректный вид. Они хотели выглядеть светскими людьми и при случае вправду могли сойти за старших конторщиков солидной фирмы. Вид у них всегда был утомленный. Я никогда прежде не видел писателей, и они казались мне несколько странными и даже какими-то ненастоящими.
Их разговор я находил блистательным и с удивлением слушал, как они поносили любого собрата по перу, едва только он повернется к ним спиной. Преимущество людей артистического склада заключается в том, что друзья дают им повод для насмешек не только своим внешним видом или характером, но и своими трудами. Я был убежден, что никогда не научусь выражать свои мысли так изящно и легко, как они. В те времена разговор считали искусством; меткий, находчивый ответ ценился выше подспудного глубокомыслия, и эпиграмма, еще не ставшая механическим приспособлением для переплавки глупости в остроумие, оживляла салонную болтовню. К сожалению, я не могу припомнить ничего из этих словесных фейерверков. Но мне думается, что беседы становились всего оживленнее, когда они касались чисто коммерческой стороны нашей профессии. Обсудив достоинства новой книги, мы, естественно, начинали говорить о том, сколько экземпляров ее распродано, какой аванс получен автором и сколько еще дохода она ему принесет. Далее речь неизменно заходила об издателях, щедрость одного противопоставлялась мелочности другого; мы обсуждали, с каким из них лучше иметь дело: с тем, кто не скупится на гонорары, или с тем, кто умеет «протолкнуть» любую книгу. Одни умели рекламировать автора, другим это не удавалось. У одного издателя был нюх на современность, другого отличала старомодность. Затем разговор перескакивал на комиссионеров, на заказы, которые они добывали для нас, на редакторов газет, на характер нужных им статей, на то, сколько платят за тысячу слов и как платят – аккуратно или задерживают гонорар. Мне все это казалось весьма романтичным. Я чувствовал себя членом некоего тайного братства.
Глава четвертая
Никто не принимал во мне тогда больше участия, чем Роза Уотерфорд. Мужской ум соединялся в ней с женским своенравием, а романы, выходившие из-под ее пера, смущали читателей своей оригинальностью. У нее-то я и встретил жену Чарлза Стрикленда. Мисс Уотерфорд устраивала званый чай, и в ее квартирке набилось полным-полно народу. Все оживленно болтали, и я, молча сидевший в сторонке, чувствовал себя прескверно, но был слишком робок, чтобы присоединиться к той или иной группе гостей, казалось, всецело поглощенных собственными делами. Мисс Уотерфорд, как гостеприимная хозяйка, видя мое замешательство, поспешила мне на помощь.
– Вам надо поговорить с миссис Стрикленд, – сказала она. – Она в восторге от вашей книги.
– Чем занимается миссис Стрикленд? – осведомился я.
Я отдавал себе отчет в своем невежестве, и если миссис Стрикленд была известной писательницей, то мне следовало узнать это прежде, чем вступить с нею в разговор.
Роза Уотерфорд потупилась, чтобы придать больший эффект своим словам.
– Она угощает гостей завтраками. Если вы будете иметь успех, приглашение вам обеспечено.
Роза Уотерфорд была циником. Жизнь представлялась ей оказией для писания романов, а люди – необходимым сырьем. Время от времени она отбирала из этого сырья тех, кто восхищался ее талантом, зазывала их к себе и принимала весьма радушно. Беззлобно подсмеиваясь над их слабостью к знаменитым людям, она тем не менее умело разыгрывала перед ними роль прославленной писательницы.
Представленный миссис Стрикленд, я минут десять беседовал с нею с глазу на глаз. Я не заметил в ней ничего примечательного, разве что приятный голос. Она жила в Вестминстере, и окна ее квартиры выходили на недостроенную церковь; я жил в тех же краях, и это обстоятельство заставило нас почувствовать взаимное расположение. Универсальный магазин армии и флота служит связующим звеном для всех, кто живет между Темзой и Сент-Джеймсским парком. Миссис Стрикленд спросила мой адрес, и несколькими днями позднее я получил приглашение к завтраку.
Я редко получал приглашения и потому принял его с удовольствием. Когда я пришел с небольшим опозданием, так как из страха явиться слишком рано три раза обошел кругом церкви, общество было уже в полном сборе: мисс Уотерфорд, миссис Джей, Ричард Туайнинг и Джордж Род. Словом, одни писатели. Стоял погожий весенний день, и настроение у собравшихся было отличное. Разговоры шли обо всем на свете. На мисс Уотерфорд, разрывавшейся между эстетическими представлениями ее юности (строгое зеленое платье, нарциссы в руках) и ветреностью зрелых лет (высокие каблуки и парижские туалеты), была новая шляпа. Это придавало ее речам необыкновенную резкость. Никогда еще она так зло не отзывалась о наших общих друзьях. Миссис Джей, убежденная, что непристойность – душа остроумия, полушепотом отпускала остроты, способные вогнать в краску даже белоснежную скатерть. Ричард Туайнинг все время нес какую-то чепуху, а Джордж Род в горделивом сознании, что ему нет надобности щеголять своим остроумием, уже вошедшим в поговорку, открывал рот только затем, чтобы положить в него лакомый кусочек. Миссис Стрикленд говорила немного, но у нее был бесценный дар поддерживать общую беседу: чуть наступала пауза, она весьма кстати вставляла какое-нибудь замечание, и разговор снова оживлялся. Высокая, полная, но не толстая, лет так тридцати семи, она не отличалась красотой, но смугловатое лицо ее было приятно, главным образом из-за добрых карих глаз. Темные волосы она тщательно причесывала, не злоупотребляла косметикой и по сравнению с двумя другими дамами выглядела простой и безыскусной.
Убранство ее столовой было очень строго, в соответствии с хорошим вкусом того времени. Высокая белая панель по стенам и на зеленых обоях гравюры Уистлера в изящных черных рамках. Зеленые портьеры с узором «павлиний глаз» строгими прямыми линиями ниспадали на зеленый же ковер, по углам которого среди пышных деревьев резвились блеклые кролики – несомненное влияние Уильяма Морриса. Каминная доска была уставлена синим дельфтским фаянсом. В те времена в Лондоне нашлось бы не меньше пятисот столовых, убранных в том же стиле – скромно, артистично и уныло.
Я вышел оттуда вместе с мисс Уотерфорд. Чудесный день и ее новая шляпа определили наше решение побродить по парку.
– Что ж, мы премило провели время, – сказал я.
– А как вы находите завтрак? Я внушила ей, что если хочешь видеть у себя писателей, то надо ставить хорошее угощение.
– Мудрый совет, – отвечал я. – Но на что ей писатели?
Мисс Уотерфорд пожала плечами.
– Она их считает занимательными и не хочет отставать от моды. Она очень простодушна, бедняжка, и воображает, что все мы необыкновенные люди. Ей нравится кормить нас завтраками, а мы от этого ничего не теряем. Потому-то я и чувствую к ней симпатию.
Оглядываясь назад, я думаю, что миссис Стрикленд была еще самой безобидной из всех охотников за знаменитостями, преследующих свою добычу от изысканных высот Хэмпстеда до захудалых студий на Чейни-Уок. Юность она тихо провела в провинции, и книги, присылаемые ей из столичной библиотеки, пленяли ее не только своей собственной романтикой, но и романтикой Лондона. У нее была подлинная страсть к чтению (редкая в людях, интересующихся больше авторами, чем их творениями, больше художниками, чем их картинами), она жила в воображаемом мире, пользуясь свободой, недоступной для нее в повседневности. Когда она познакомилась с писателями, ей стало казаться, что она попала на сцену, которую прежде видела только из зрительного зала. Она так их идеализировала, что ей и вправду думалось, будто, принимая их у себя или навещая их, она живет иною, более возвышенной жизнью. Правила, согласно которым они вели свою жизненную игру, ее не смущали, но она ни на мгновение не собиралась подчинить им свою собственную жизнь. Их вольные нравы, так же как необычная манера одеваться, их нелепые теории и парадоксы занимали ее, но ни в какой мере не влияли на ее убеждения.
– Скажите, а существует ли мистер Стрикленд? – поинтересовался я.
– О, конечно, он что-то делает в Сити. Кажется, биржевой маклер. Скучнейший малый!
– И они в хороших отношениях?
– Обожают друг друга. Вы его увидите, если она пригласит вас к обеду. Но у них редко обедают посторонние. Он человек смирный. И нисколько не интересуется литературой и искусством.
– Почему это милые женщины так часто выходят за скучных мужчин?
– Потому что умные мужчины не женятся на милых женщинах.
Я ничего не смог на это возразить и спросил, есть ли у миссис Стрикленд дети.
– Да, девочка и мальчик. Оба учатся в школе.
Тема была исчерпана, и мы заговорили о другом.
Глава пятая
В течение лета я довольно часто виделся с миссис Стрикленд.
Я посещал ее приятные интимные завтраки и куда более торжественные чаепития. Мы искренне симпатизировали друг другу. Я был очень молод, и, возможно, ей льстила мысль, будто она руководит моими первыми шагами на многотрудном поприще литературы, мне же было приятно сознавать, что есть человек, к которому я всегда могу пойти с любыми моими заботами в уверенности, что меня внимательно выслушают и дадут разумный совет. У миссис Стрикленд был дар сочувствия. Прекрасное качество, но те, что его сознают в себе, нередко им злоупотребляют: с алчностью вампира впиваются они в беды друзей, лишь бы найти применение своему таланту. Они обрушивают на свои жертвы сочувствие, и оно бьет точно нефтяной фонтан, еще хуже запутывая их дела. На иную грудь пролито уже столько слез, что я бы не решился увлажнять ее еще своими. Миссис Стрикленд не злоупотребляла этим даром, но, принимая ее сочувствие, вы явно доставляли ей радость. Когда я с юношеской непосредственностью поделился этим наблюдением с Розой Уотерфорд, она сказала:
– Молоко пить приятно, особенно с бренди, но корова жаждет от него избавиться. Разбухшее вымя – пренеприятная штука.
У Розы Уотерфорд язык был как шпанская мушка. Никто не умел злее съязвить, но, с другой стороны, никто не мог наговорить более милых слов.
В миссис Стрикленд мне нравилась еще одна черта – ее умение элегантно жить. В доме у нее всегда было очень чисто и уютно, повсюду пестрели цветы, и кретон в гостиной, несмотря на строгий рисунок, выглядел светло и радостно. Кушанья у нее были отлично приготовлены, стол маленькой артистичной столовой – изящно сервирован, обе горничные щегольски одеты и миловидны. Сразу бросалось в глаза, что миссис Стрикленд – превосходная хозяйка. И, уж конечно, превосходная мать. Гостиную украшали фотографии ее детей. Сын Роберт, юноша лет шестнадцати, учился в Регби; на одной фотографии он был снят в спортивном костюме, на другой – во фраке со стоячим воротничком. У него, как и у матери, был чистый лоб и красивые задумчивые глаза. Он производил впечатление чистоплотного, здорового, вполне заурядного юноши.
– Не думаю, чтобы он был очень умен, – сказала она однажды, заметив, что я вглядываюсь в фотографию, – но зато он добрый и славный мальчик.
Дочери было четырнадцать лет. Ее волосы, темные и густые, как у матери, волнами спадали на плечи. И у нее тоже лицо было доброе, а глаза безмятежные.
– Они оба – ваш портрет, – сказал я.
– Да, они больше похожи на меня, чем на отца.
– Почему вы так и не познакомили меня с вашим мужем? – спросил я.
– Вы этого хотите?
Она улыбнулась – улыбка у нее и правда была прелестная – и слегка покраснела. Я всегда удивлялся, что женщина ее возраста так легко краснеет. Но наивность была, пожалуй, главным ее очарованием.
– Он ведь совсем чужд литературе, – сказала она. – Настоящий обыватель.
Она сказала это без тени пренебрежительности, скорее нежно, словно стараясь защитить его от нападок своих друзей.
– Он играет на бирже, типичнейший биржевой маклер. Вы с ним умрете с тоски.
– Вы тоже скучаете с ним?
– Нет, но ведь я его жена. И я очень к нему привязана.
Она улыбнулась, стараясь скрыть свое смущение, и мне показалось, что она боится, как бы я не отпустил какой-нибудь шуточки в духе Розы Уотерфорд. Она помолчала. В глазах у нее светилась нежность.
– Он не воображает себя гением и даже не очень много зарабатывает на бирже. Но он удивительно хороший и добрый человек.
– Думаю, что мне он придется по душе.
– Я приглашу вас как-нибудь отобедать с нами в семейном кругу, но если вам будет скучно, пеняйте на себя.
Глава шестая
Обстоятельства сложились так, что, встретившись наконец с Чарлзом Стриклендом, я толком не познакомился с ним. Однажды утром мне принесли письмецо миссис Стрикленд, в котором говорилось, что сегодня вечером она ждет гостей к обеду, и так как один из ранее приглашенных не может прийти, она предлагает мне занять его место. В записке стояло:
Считаю своим долгом предупредить Вас, что скука будет отчаянная. По составу гостей это неизбежно. Но если Вы все-таки придете, я буду бесконечно Вам признательна. Мы улучим минутку и поболтаем с глазу на глаз.
Я решил, что добрососедские отношения велят мне явиться. Когда миссис Стрикленд представила меня своему мужу, он довольно сухо пожал мне руку.
Живо обернувшись к нему, она шутливо заметила:
– Я пригласила его, чтобы показать, что у меня действительно есть муж. По-моему, он уже начал в этом сомневаться.
Стрикленд учтиво улыбнулся – так улыбаются в ответ на шутку, в которой нет ничего смешного, – но ни слова не сказал. Новые гости отвлекли от меня внимание хозяина, и я снова был предоставлен самому себе. Когда все были уже в сборе и я занимал разговором даму, которую мне было назначено вести к столу, мне невольно подумалось, что цивилизованные люди невероятно изобретательны в способах расходовать свою краткую жизнь на докучные церемонии. Это был один из тех обедов, когда невольно дивишься: зачем хозяйка утруждает себя приемом гостей и зачем гости взяли на себя труд прийти к ней. За столом было десять человек. Они встретились равнодушно, и разойтись им предстояло со вздохом облегчения. Такой обед был отбыванием светской повинности. Стрикленды «должны» были пригласить отобедать этих людей, ничуть им не интересных. Они выполняли свой долг, а гости – свой. Почему? Чтобы избегнуть скуки сидеть за столом tête-à-tête, чтобы дать отдохнуть прислуге, потому что не было резонов отказаться или потому что хозяева «задолжали» им обед?
В столовой было довольно-таки тесно. За столом сидели известный адвокат с супругой, правительственный чиновник с супругой, сестра миссис Стрикленд с мужем, полковником Мак-Эндрю, и супруга одного члена парламента. Так как сам член парламента решил, что в этот день ему нельзя отлучиться из палаты, то на его место пригласили меня. В респектабельности этой компании было что-то невыносимое. Женщины были слишком манерны, чтобы быть хорошо одетыми, и слишком уверены в своем положении, чтобы быть занимательными. Мужчины являли собой воплощенную солидность. От них так и веяло самодовольством.
Все говорили несколько громче обычного, повинуясь инстинктивному желанию оживить общество, и в комнате стоял шум. Но общий разговор не клеился. Каждый обращался только к своему соседу: к соседу справа – во время закуски, супа и рыбы, к соседу слева – во время жаркого, овощей и десерта. Говорили о политике и гольфе, о детях и последней премьере, о картинах, выставленных в Королевской академии, о погоде и планах на лето. Разговоры не умолкали ни на одно мгновение, и шум усиливался. Миссис Стрикленд имела все основания радоваться – обед удался на славу. Муж ее с достоинством играл роль хозяина. Пожалуй, он был только слишком молчалив, и под конец мне показалось, что на лицах обеих его соседок появилось выражение усталости. Видимо, он им наскучил. Раз или два тревожный взгляд миссис Стрикленд останавливался на нем.
После десерта она поднялась, и дамы гуськом последовали за нею в гостиную. Стрикленд закрыл за ними дверь и, перейдя на другой конец стола, сел между известным адвокатом и правительственным чиновником. Он налил всем по рюмке портвейна и стал угощать нас сигарами. Адвокат нашел вино превосходным, и Стрикленд сообщил, где оно куплено. Разговор завертелся вокруг вин и табака. Потом адвокат рассказал о судебном процессе, который он вел, а полковник стал распространяться об игре в поло. Мне нечего было сказать, и я сидел молча, стараясь из учтивости выказывать интерес к разговору других; никому не было до меня дела, и я стал на досуге разглядывать Стрикленда. Он оказался выше, чем я думал; почему-то я воображал, что Стрикленд – худощавый, невзрачный человек; наделе он был широкоплеч, грузен, руки и ноги у него были большие, и вечерний костюм сидел на нем мешковато. Чем-то он напоминал принарядившегося кучера. Это был мужчина лет сорока, отнюдь не красавец, но и не урод; черты лица его, довольно правильные, но странно крупные, производили невыгодное впечатление. Бритое большое лицо казалось неприятно обнаженным. Волосы у него были рыжеватые, коротко остриженные, глаза не то серые, не то голубые. В общем, внешность самая заурядная. Я понял, почему миссис Стрикленд немного стеснялась его: не такой муж нужен женщине, стремящейся добиться положения в обществе литераторов и артистов. Он был явно лишен светского лоска, но это качество не обязательное; он даже не выделялся какими-нибудь чудачествами. Это был просто добродушный, скучный, честный, заурядный малый. Некоторые его качества, может быть, и заслуживали похвалы, но стремиться к общению с ним было невозможно. Он был равен нулю. Пусть он добропорядочный член общества, хороший муж и отец, честный маклер, но терять на него время, право же, не стоило!
Глава седьмая
Сезон уже подходил к своему пыльному концу, и все вокруг готовились к отъезду. Миссис Стрикленд с семьей собиралась в Норфолк, там дети могли наслаждаться морем, а супруг – игрою в гольф. Мы с нею распростились, уговорившись встретиться осенью. Но накануне своего отъезда я столкнулся с нею и с ее детьми в дверях магазина; она, как и я, делала последние закупки перед отъездом из Лондона и, так же, как я, чувствовала себя усталой и разгоряченной. Я предложил им пойти в парк и поесть мороженого.
Миссис Стрикленд, вероятно, была рада показать мне своих детей и с готовностью согласилась на мое предложение. Дети ее в жизни выглядели еще привлекательнее, чем на фотографиях, и она по праву гордилась ими. Я был еще молод, а потому они меня не стеснялись и болтали напропалую. Это были удивительно милые, пышущие здоровьем юные создания. И сидеть под деревьями тоже было приятно.
Час спустя она кликнула кеб и уехала домой, а я, чтобы скоротать время, поплелся в клуб. В этот день у меня было как-то тоскливо на душе, и я ощутил даже некоторую зависть к семейному благополучию, с которым только что соприкоснулся. Все они, видимо, очень любили друг друга. Они то и дело вставляли в разговор какие-то словечки, ничего не говорившие постороннему, им одним понятные и смешившие их до упаду. Возможно, что Чарлз Стрикленд был скучным человеком, если подходить к нему с меркой, превыше всего ставящей словесный блеск, но его интеллект соответствовал среде, в которой он жил, а это уже залог не только известного успеха, но и счастья. Миссис Стрикленд была прелестная женщина и любила его. Я представил себе, как течет их жизнь, ничем не замутненная, честная, мирная и, благодаря подрастающим прелестным детям, предназначенным продолжать здоровые традиции их расы и сословия, наполненная содержанием. «Наверно, они тихо доживут до глубокой старости, – думал я, – увидят своих детей зрелыми людьми; сын их женится, как и надлежит, на хорошенькой девушке, будущей матери здоровых ребятишек; дочь выйдет замуж за красивого молодого человека, скорей всего военного; и вот в преклонных летах, среди окружающего их благоденствия, оплаканные детьми и внуками, они отойдут в вечность, прожив счастливую и небесполезную жизнь».
Такова, вероятно, история бесчисленных супружеств, и, право же, в подобной жизни есть своя безыскусственная прелесть. Она напоминает тихий ручеек, что безмятежно струится по зеленеющим лугам и в тени густых дерев, покуда не впадет в безбрежное море; но море так спокойно, так тихо и равнодушно, что в душу внезапно закрадывается смутная печаль. Или, может, это просто странность моей натуры, сказавшаяся уже в те годы, но такая участь огромного большинства всегда казалась мне пресноватой. Я признавал ее общественную ценность, видел ее упорядоченное счастье, но жаркая кровь во мне алкала иной, мятежной доли. Столь доступные радости пугали меня. Мое сердце рвалось к более опасной жизни. Пусть встретятся на моем пути рифы и предательские мели, лишь бы не так монотонно текла жизнь, лишь бы познать радость нечаянного, непредвиденного.
Глава восьмая
Перечитав все написанное мною о Стриклендах, я вижу, что они получились у меня довольно блеклыми фигурами. Мне не удалось придать им ни одной из тех характерных черт, которые заставляют персонажей книги жить своей собственной, реальной жизнью; полагая, что это моя вина, я долго ломал себе голову, стараясь припомнить какие-нибудь особенности, могущие вдохнуть в них жизнь. Я уверен, что, обыграв какое-нибудь излюбленное словцо или странную привычку, я бы сделал своих героев куда более значительными. А так они, точно выцветшие фигуры на шпалерах, слились с фоном, на расстоянии вовсе утратили свой облик и воспринимаются лишь как приятные для глаза мазки. Единственным моим оправданием служит то, что именно такими они мне казались. В них была расплывчатость, свойственная людям, которые, являясь частью социального организма, существуют лишь в нем и благодаря ему. Эти люди напоминают клетки в тканях нашего тела, необходимые, но, покуда они здоровы, не замечаемые нами. Стрикленды были обычной буржуазной семьей. Милая, гостеприимная жена с безобидным пристрастием к второразрядным литературным львам; довольно скучный муж, честно выполняющий свои обязанности на том самом месте, на какое его поставил Господь Бог; миловидные, здоровые дети. Трудно встретить более заурядное сочетание. В них не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание любопытного.
Вспоминая все, что случилось в дальнейшем, я спрашиваю себя: может, я просто дурак, если не разглядел в Чарлзе Стрикленде ничего, что отличало бы его от простого обывателя. Возможно! Думается, что за годы, отделяющие то время от нынешнего, я хорошо узнал людей, но, даже если бы весь мой опыт был при мне тогда, когда я впервые встретил Стриклендов, я уверен, что отнесся бы к ним точно так же. С одной только разницей – уразумев, что человек полон неожиданностей, я не был бы так потрясен сообщением, которое услышал по осени, вернувшись в Лондон.
На следующий же день после моего возвращения я столкнулся на Джермин-стрит с Розой Уотерфорд.
– Вид у вас весьма оживленный, – заметил я. – В чем дело?
Она улыбнулась, и в глазах ее мелькнуло злорадство. Причину его я понял немедленно: она прознала о скандальной истории, случившейся с кем-нибудь из ее друзей, и все чувства этой литературной дамы пришли в волнение.
– Вы ведь знакомы с Чарлзом Стриклендом?
Не только ее лицо, вся ее фигура выражала полную боевую готовность. Я кивнул и подумал, что бедняга, наверно, попал под омнибус или же проигрался на бирже.
– Ужасная история! Он бросил жену!
Мисс Уотерфорд, конечно, чувствовала, что тротуар на Джермин-стрит не место для дальнейшего развития этого разговора, и, как натура артистическая, ошеломила меня только самим фактом, заявив, что никаких подробностей она не знает. Я, правда, усомнился, чтобы такая мелочь, как городская сутолока, могла помешать ей, но она стояла на своем.
– Говорят вам, я ничего не знаю, – отвечала она на все мои взволнованные расспросы и, слегка передернув плечами, добавила: – Думаю, что какая-нибудь смазливая девица оставила свою службу в кафе.
Она очаровательно улыбнулась и, пояснив, что ее ждет зубной врач, удалилась, бойко стуча каблуками.
Я был скорее заинтригован, чем огорчен. В ту пору мой непосредственный житейский опыт был очень невелик, и меня потрясло, что вот среди моих знакомых случилось нечто такое, о чем я прежде только читал в романах. Позднее я привык к подобным событиям в окружавшей меня среде, но тогда все это сильно меня смутило. Стрикленду было не менее сорока лет, и я не понимал, как это человеку столь почтенного возраста вздумалось пуститься в любовные авантюры. В своем юношеском высокомерии я полагал, что после тридцати пяти лет уже не влюбляются. Ко всему эта новость ставила меня самого в неудобное положение. Я еще из деревни написал миссис Стрикленд, что скоро возвращаюсь в Лондон и тотчас же приду к ней на чашку чаю, если, конечно, она не сочтет это нежелательным. Я обещал прийти как раз сегодня, но ответа от нее не получил. Хочет она меня видеть или не хочет? Возможно, что среди таких волнений она попросту забыла о моем письме и разумнее воздержаться от визита. С другой стороны, может быть, она хочет сохранить всю историю в тайне, и я совершу бестактность, дав ей понять, что это странное известие уже дошло до моих ушей. Я боялся оскорбить чувства милейшей женщины и в равной мере боялся показаться навязчивым. Ясно, что она очень страдает, стоит ли смотреть на чужое горе, если ты бессилен ему помочь? И все-таки в глубине души, хоть я и стыдился своего любопытства, мне хотелось посмотреть, как она справляется со свалившейся на нее бедой. Одним словом, я находился в полной растерянности.
Затем я сообразил, что могу явиться как ни в чем не бывало и осведомиться через горничную, желает ли миссис Стрикленд меня видеть. Это даст ей возможность мне отказать. Все же я был вне себя от смущения, произнося перед горничной заранее приготовленную фразу, и, дожидаясь ответа в темной передней, напрягал все свои силы, чтобы попросту не удрать. Горничная воротилась. В своем возбуждении я почему-то решил, что ей все известно о несчастье, постигшем этот дом.
– Не угодно ли вам пройти вот сюда, сэр? – сказала она.
Я последовал за нею в гостиную. Занавеси на окнах были почти задернуты, и миссис Стрикленд сидела спиной к свету. Ее шурин, полковник Мак-Эндрю, стоял перед камином, греясь у незажженного огня. Мне было мучительно неловко. Я вообразил, что мое появление застало их врасплох и миссис Стрикленд велела просить меня только потому, что позабыла написать мне отказ. Полковник, решил я, возмущен моим вторжением.
– Я не был уверен, что вы пожелаете принять меня, – заговорил я с наигранной непринужденностью.
– Разумеется, пожелаю. Энн сейчас подаст нам чай…
Даже в полутемной комнате я разглядел, что глаза миссис Стрикленд опухли от слез, а лицо ее, всегда несколько бледное, было землисто-серого цвета.
– Вы ведь, кажется, знакомы с моим свояком? Помнится, вы весною встретились у меня за обедом.
Мы пожали друг другу руки. Я так растерялся, что не находил слов, но миссис Стрикленд поспешила ко мне на выручку. Она осведомилась, как я провел лето, и с ее помощью я кое-как поддерживал разговор, пока не внесли чай. Полковник спросил себе виски с содовой.
– И вам я тоже советую выпить виски, Эми, – сказал он.
– Нет, я хочу чаю.
Это был первый намек на то, что случилась какая-то неприятность. Я пропустил его мимо ушей и приложил все усилия, чтобы вовлечь миссис Стрикленд в разговор. Полковник, стоявший у камина, не проронил ни слова. В душе я то и дело спрашивал себя, когда мне можно будет откланяться, и еще: зачем, собственно, вздумалось миссис Стрикленд принимать меня? В гостиной не было цветов, и всевозможные безделушки, убранные на лето, еще не были расставлены по местам; комната эта, обычно столь уютная, выглядела такой чопорной и угрюмой, что странным образом начинало казаться, будто за стеной лежит покойник. Я допил свой чай.
– Хотите сигарету? – спросила миссис Стрикленд.
Она оглянулась, ища коробку, но ее не оказалось под рукой.
– У нас, видимо, нет сигарет.
Внезапно она разразилась слезами и выбежала из комнаты.
Я опешил. Видимо, отсутствие сигарет, которые, как правило, покупал ее муж, больно резануло ее, и новое чувство, что вот теперь некому позаботиться о доме, вызвало приступ боли. Она вдруг поняла, что прежняя ее жизнь кончилась навеки. Невозможно было дольше соблюдать светские условности.
– Я полагаю, мне лучше уйти, – сказал я полковнику и поднялся.
– Вы, верно, уже слышали, что этот негодяй бросил ее? – запальчиво крикнул он.
Я помедлил с ответом.
– Да, мне намекнули, что у них что-то неладно.
– Он сбежал. Отправился в Париж с какой-то особой. И оставил Эми без гроша.
– Как это печально, – сказал я, не зная, собственно, что сказать.
Полковник залпом выпил свое виски. Это был высокий, тощий мужчина лет пятидесяти, седоволосый, с обвисшими усами. Глаза у него были голубые, губы дряблые. Из прошлой встречи в памяти у меня осталось только его глупое лицо, и еще я запомнил, с какой гордостью он рассказывал, что до отставки лет десять подряд играл в поло не менее трех раз в неделю.
– По-моему, миссис Стрикленд сейчас совсем не до меня, – заметил я. – Передайте ей, что я очень скорблю за нее и почту за счастье быть ей чем-нибудь полезным.
Он меня даже не слушал.
– Не знаю, что с нею будет. Кроме всего прочего, у нее дети. Чем они будут жить? Воздухом? Семнадцать лет!
– Семнадцать лет? Что вы хотите этим сказать?
– Они были женаты семнадцать лет, – отрезал он. – Мне Стрикленд никогда не нравился. Конечно, он был моим свояком, и я ничего не мог сказать. Вы считаете его джентльменом? Не надо было ей выходить за него замуж.
– Так, значит, это окончательный разрыв?
– Ей остается только одно – развестись с ним. Я ей так и сказал: немедленно подавайте прошение о разводе, Эми. Это ваша обязанность перед собой и перед детьми тоже. Пусть он лучше мне на глаза не попадается. Я задам ему такую взбучку, что он своих не узнает.
Я невольно подумал, что полковнику Мак-Эндрю будет не так-то легко это сделать – Стрикленд был дюжий малый, – но промолчал. Как это печально, что оскорбленной добродетели не дано карать грешников. Я вторично сделал попытку откланяться, как вдруг вошла миссис Стрикленд. Она успела вытереть слезы и припудрить нос.
– Мне очень жаль, что я не совладала с собой, – сказала она. – Хорошо, что вы еще не ушли.
Она села. Я окончательно растерялся. Мне было неловко заговорить о предмете, вовсе меня не касающемся. В ту пору я еще не знал, что главный недостаток женщин – страсть обсуждать свои личные дела со всяким, кто согласен слушать. Миссис Стрикленд, казалось, сделала над собой усилие.
– Что, об этом уже много говорят? – спросила она.
Я был озадачен ее уверенностью в том, что мне известно несчастье, постигшее ее семью.
– Я только что вернулся. Я не видел никого, кроме Розы Уотерфорд.
Миссис Стрикленд стиснула руки.
– Скажите мне все, что вы от нее слышали.
Я промолчал, но она настаивала:
– Я хочу знать во что бы то ни стало.
– Вы же знаете, что она охотница посудачить. Веры ее словам давать нельзя. Она сказала, что ваш муж оставил вас.
– И это все?
Я не счел возможным повторить прощальную реплику Розы Уотерфорд насчет девушки из кафе и соврал.
– Она не говорила, что он уехал с какой-то женщиной?
– Нет.
– Это все, что я хотела узнать.
Я стал в тупик, но все-таки сообразил, что теперь мне можно уйти. Прощаясь, я заверил миссис Стрикленд, что всегда буду к ее услугам. Она тускло улыбнулась.
– Благодарю вас. Но вряд ли найдется человек, который мог бы что-нибудь для меня сделать.
Слишком застенчивый, чтобы высказать ей свое соболезнование, я повернулся к полковнику, намереваясь проститься с ним. Он не взял моей руки.
– Я тоже ухожу. Если вы идете по Виктория-стрит, то нам по пути.
– Отлично, – сказал я. – Идемте!
Глава девятая
– Скверная история, – проговорил он, едва мы вышли на улицу.
Я понял, что он пошел со мной, чтобы еще раз обсудить то, что уже часами обсуждал со свояченицей.
– Понимаете ли, мы даже не знаем, кто эта женщина, – сказал полковник. – Знаем только, что мерзавец отправился в Париж.
– Мне всегда казалось, что они примерные супруги.
– Так оно и было. Как раз перед вашим приходом Эми говорила, что они ни разу не повздорили за все время совместной жизни. Вы знаете Эми. На свете нет женщины лучше.
После столь откровенных признаний я счел возможным задать ему несколько вопросов.
– Итак, вы полагаете, что она ни о чем не подозревала?
– Ни о чем. Август месяц он провел в Норфолке с нею и с детьми. И был такой же, как всегда. Мы с женой ездили туда на несколько дней, и я играл с ним в гольф. В сентябре он вернулся в город, так как его компаньон должен был уехать в отпуск, а Эми осталась на взморье. Они сняли дом на полтора месяца, и к концу своего пребывания там она написала ему, сообщая, в какой день они приедут в Лондон. Он ответил ей из Парижа. Написал, что больше не хочет жить с нею.
– Чем же он это объяснил?
– А он, голубчик мой, ничего не объяснил. Я читал письмо. В нем и всего-то было строчек десять, не больше.
– Ничего не понимаю.
В эту минуту мы как раз переходили улицу, и оживленное движение помешало нам продолжить разговор. То, что мне рассказал полковник, звучало очень уж неправдоподобно, и я решил, что миссис Стрикленд что-то от него скрывает. Ясно, что после семнадцати лет супружества человек не оставляет жену без причин, которые должны заставить ее усомниться, так ли уж благополучна была их совместная жизнь. Полковник прервал мои размышления.
– Да и что он мог объяснить, кроме того, что удрал с какой-то особой женского пола. Он, наверно, решил, что об этом она и сама может догадаться. Вот какой это тип!
– Что же собирается предпринять миссис Стрикленд?
– Прежде всего мы должны получить доказательства. Я сам поеду в Париж.
– А что с его конторой?
– О, тут он повел себя очень хитро. Он целый год подготавливал себе отступление.
– Он предупредил компаньона о своем отъезде?
– И не подумал.
Полковник Мак-Эндрю разбирался в коммерческих вопросах крайне слабо, а я и вовсе не разбирался и потому так и не понял, в каком состоянии Стрикленд оставил свои дела. Судя по словам Мак-Эндрю, покинутый компаньон должен быть вне себя от гнева и, верно, уже грозит Стрикленду судебным преследованием. Похоже, что эта история обойдется ему фунтов в пятьсот.
– Еще слава Богу, что обстановка квартиры принадлежит Эми. Она-то уж ей останется.
– Вы помнили об этом, говоря, что она осталась без гроша?
– Разумеется, помнил. У нее есть сотни две или три фунтов да вот эта мебель.
– Но на что же она будет жить?
– Это уж одному Богу известно!
Все было, видимо, очень не просто, а негодующий полковник еще больше сбивал меня с толку. И я очень обрадовался, когда он, взглянув на часы на магазине армии и флота, вспомнил, что в клубе его ждут партнеры по карточной игре, и предоставил мне в одиночестве идти через Сент-Джеймсский парк.
Глава десятая
День или два спустя миссис Стрикленд прислала мне записку, в которой спрашивала, не могу ли я зайти к ней вечером. Я застал ее одну. Черное, монашески простое платье намекало на ее тяжелую утрату, и я в простоте душевной очень удивился, как она, с таким камнем на сердце, могла играть роль, по ее понятиям, ей подобающую.
– Вы сказали, что если я обращусь к вам с какой-нибудь просьбой, то вы не откажетесь ее исполнить, – сказала она.
– Да, конечно.
– Согласитесь ли вы поехать в Париж и встретиться с Чарли?
– Я?
Я был ошеломлен. Ведь я только однажды видел его. Что она намеревалась мне поручить?
– Фред собирается туда. (Фред был полковник Мак-Эндрю.) Но я уверена, что ему ехать нельзя. Он только все запутает. И я не знаю, кого мне об этом просить.
Голос ее слегка задрожал, и я почувствовал, что даже секунда колебания с моей стороны – свинство.
– Но я и двух слов не сказал с вашим мужем. Он меня не знает и скорей всего просто пошлет к черту.
– Вам от этого не будет ни жарко ни холодно, – улыбаясь, отвечала миссис Стрикленд.
– Как, по-вашему, я должен действовать?
На этот вопрос она не дала мне прямого ответа.
– По-моему, как раз хорошо, что он вас не знает. Видите ли, он никогда не любил Фреда. И всегда считал его дураком – военные ему чужды. Фред впадет в ярость, они поссорятся, и все выйдет только хуже, а не лучше. Если вы скажете, что явились к нему от моего имени, он обязан будет выслушать вас.
– Я ваш недавний знакомый, – отвечал я. – И я не понимаю, как может взяться за такое дело человек, не знающий о нем всех подробностей. Я не хочу совать свой нос в то, что меня не касается. Почему бы вам самой не поехать в Париж?
– Вы забываете, что он там не один.
Я прикусил язык. Мне уже мерещилось, как я вхожу в дом Чарлза Стрикленда и посылаю ему свою карточку. Вот он выходит ко мне, держа ее двумя пальцами:
– Чему я обязан честью?
– Я пришел поговорить с вами относительно вашей жены.
– Серьезно? Ну, когда вы станете старше, вы поймете, что не стоит соваться в чужие дела. Если вы будете так добры повернуть голову налево, вы увидите дверь. Желаю всего наилучшего.
Я предвидел, что удалиться с достоинством мне будет очень нелегко, и клял себя за то, что вернулся в Лондон прежде, чем миссис Стрикленд выпуталась из всех своих затруднений. Я украдкой покосился на нее. Она была погружена в раздумье. Но секунду спустя посмотрела на меня, глубоко вздохнула и улыбнулась.
– Все это так неожиданно, – сказала она. – Мы были женаты семнадцать лет. Никогда я не думала, что Чарли может увлечься другой женщиной. Мы жили очень дружно. Правда, у меня было множество интересов, которых он не разделял со мною.
– Вы уже знаете, кто… – я не знал, как выразиться поделикатнее, – кто эта особа, с которой он уехал?
– Нет. Никто даже не догадывается. Это очень странно. Обычно в таких случаях люди встречают влюбленных в ресторане или где-нибудь еще и рассказывают об этом жене. Меня никто не предупредил, я ничего не подозревала. Его письмо было как гром среди ясного неба. Я не сомневалась, что он счастлив со мной.
Миссис Стрикленд заплакала, бедняжка, и я от души пожалел ее. Но она тут же успокоилась.
– Мне нельзя распускаться, – сказала она, вытирая глаза. – Сейчас надо решить, что именно следует предпринять.
Она начала говорить несколько вразброд, то о недавнем прошлом, то об их первой встрече и женитьбе. И передо мной стала вырисовываться картина их совместной жизни. Я подумал, что мои прежние догадки не так уж неправильны. Миссис Стрикленд была дочерью чиновника в Индии. Выйдя в отставку, он остался жить там, где-то в глубине страны, но каждый август возил свою семью в Истборн для перемены обстановки; в Истборне она и встретилась со Стриклендом. Ей было двадцать, ему двадцать три. Они вместе играли в теннис, вместе гуляли, вместе слушали негритянских певцов; и она решила стать его женой за неделю до того, как он сделал ей предложение. Они поселились в Лондоне, сначала в Хэмпстеде, а потом, когда материальное положение Стрикленда упрочилось, в центре города. У них родились дети, девочка и мальчик.
– Он так любил их. Даже если я ему наскучила, как у него достало сердца покинуть детей? Просто невероятно. Я и сейчас еще не верю, что все это правда.
Под конец она показала письмо, которое он прислал ей. Мне давно хотелось его прочитать, но просить об этом я не решался.
Дорогая Эми!
Надеюсь, что дома ты все застанешь в порядке. Я передал Энн твои распоряжения; тебя и детей будет ждать обед. Я вас не встречу. Я решил жить отдельно от вас и сегодня уезжаю в Париж. Это письмо я отправлю уже по приезде. Домой не вернусь. Мое решение непоколебимо.
Всегда твой Чарлз Стрикленд.
– Он ничего не объясняет, ни о чем не сожалеет. Разве это не чудовищно?
– Весьма странное письмо в подобных обстоятельствах, – ответил я.
– Объяснение тут может быть только одно – он не в себе. Я не знаю, кто эта женщина, завладевшая им, но она сделала его другим человеком. Видимо, это уже давняя история.
– Почему вы так думаете?
– Фред это выяснил. Чарлз имел обыкновение через день играть в бридж у себя в клубе. Фред знаком с одним из членов этого клуба и однажды в разговоре назвал Чарлза заядлым бриджистом. Его знакомый очень удивился. Он ни разу не видел Чарлза за карточным столом. Теперь все ясно – когда я думала, что он в клубе, он был с нею.
Я промолчал. Но затем вспомнил о детях.
– Очень трудно, вероятно, было объяснить все это Роберту.
– О, я ни ему, ни дочери ни слова не сказала. Мы ведь вернулись в город за день до начала занятий в школе. У меня хватило присутствия духа сказать им, что отец неожиданно уехал по делам.
Наверно, очень нелегко было сохранять спокойствие и безмятежность с этой внезапной тайной на сердце и еще труднее заботиться о всех мелочах, нужных детям к школе. Голос миссис Стрикленд опять задрожал.
– Что с ними станет, с моими бедняжками? Как мы будем жить?
Она старалась овладеть собою, и я заметил, что ее руки судорожно сжимаются и разжимаются. Горестное зрелище!
– Конечно, я поеду в Париж, если вы считаете, что это принесет вам пользу, но только скажите мне точно, чего я должен добиваться.
– Я хочу, чтобы он вернулся.
– Со слов полковника Мак-Эндрю я понял, что вы решили развестись с ним.
– Я никогда не дам Чарли развода! – воскликнула она гневно. – Так ему и передайте. Он никогда не сможет жениться на этой женщине. Я не менее упряма, чем он, и ни за что с ним не разведусь. Я обязана думать о детях.
Последнее она, наверно, добавила, чтобы объяснить свою позицию, но мне показалось, что дело здесь не столько в материнской заботе, сколько во вполне естественной ревности.
– Вы все еще любите его?
– Не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся. Если он вернется, я все забуду. Как-никак, мы были женаты семнадцать лет. Я женщина широких взглядов. Пусть делает что хочет, лишь бы я ни о чем не знала. Он должен понять, что его увлечение долго не продлится. Если он вернется, мы заживем по-прежнему, и никто ничего не узнает.
Меня слегка передернуло оттого, что миссис Стрикленд так страшилась сплетен; тогда я еще не знал, какую огромную роль в жизни женщины играет людское мнение. Страх перед ним бросает тень неискренности на самые глубокие ее чувства.
Где остановился Стрикленд, было известно. Его компаньон в неистово-злобном письме, адресованном банку, метал громы и молнии по поводу того, что Стрикленд скрывает свое местопребывание, тот ответил цинично и насмешливо и дал компаньону свой точный адрес. Жил он в гостинице.
– Я никогда об этой гостинице не слыхала, – заметила миссис Стрикленд. – Но Фред знает этот отель и говорит, что он очень дорогой.
Она густо покраснела. Я понял, что она мысленно увидела мужа, который живет в роскошных апартаментах, обедает то в одном, то в другом знаменитом ресторане, дни проводит на скачках, а вечера – в театрах.
– Так он долго не протянет, – сказала она. – Нельзя забывать, что ему уже за сорок. Будь он человек молодой, я бы все поняла, но в его годы, когда у нас почти взрослые дети, это ужасно. Он окончательно подорвет свое здоровье.
Гнев и страдание боролись в ней.
– Скажите ему, что без него наш дом – не дом. Все как будто осталось на местах – и все уже не то. Я не могу жить без него. Лучше мне покончить с собой. Напомните ему о нашем прошлом, обо всем, что мы пережили вместе. Что я скажу детям, когда они спросят о нем? В его комнате все осталось нетронутым. Она ждет его. Мы все его ждем.
И она стала внушать мне слово в слово, что я должен ему говорить. Более того, подсказала мне точнейшие ответы на любое его возражение.
– Вы обещаете сделать для меня все возможное? – жалобно добавила она. – Скажите ему, в каком я горе.
Она явно хотела, чтобы я всеми доступными мне способами разжалобил его, и плакала, уже не стесняясь. Растроганный, я негодовал на холодную жестокость Стрикленда и поклялся сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть его домой. Я согласился уехать на следующий же день и пробыть в Париже столько, сколько понадобится для того, чтобы добиться толку. Затем, так как было уже поздно и оба мы устали от всех этих треволнений, я распрощался с нею.
Глава одиннадцатая
Обдумывая по пути в Париж свою миссию, я опасался, что она обречена на неудачу. Теперь, когда вид плачущей миссис Стрикленд не смущал меня, я мог лучше собраться с мыслями. Меня озадачивали явные противоречия в поведении миссис Стрикленд. Она была очень несчастна, но, желая вызвать мое сочувствие, всячески выставляла напоказ свое несчастье. Так, например, не подлежало сомнению, что она заранее готовилась плакать, ибо под рукой у нее оказался изрядный запас носовых платков. Я восхищался ее предусмотрительностью, но, если вдуматься, эта предусмотрительность делала ее слезы менее трогательными. Я недоумевал: хочет она возвращения мужа оттого, что любит его, или оттого, что боится злословия? Я подозревал, что страдания попранной любви сплелись в ее сердце с муками уязвленного самолюбия, и по молодости лет считал это недостойным. Я еще не знал, как противоречива человеческая натура, не знал, что самым искренним людям свойственна поза, не знал, как низок может быть благородный человек и как добр отверженный.
Но в моей поездке было нечто интригующее, и по мере приближения к Парижу я воспрянул духом. Я вдруг увидел себя со стороны и очень понравился себе в роли доверенного, который возвращает заблудшего мужа в объятия супруги, готовой все простить. Стрикленда я решил повидать не раньше следующего вечера, ибо чувствовал, что время должно быть выбрано с сугубой щепетильностью. Взывать, например, к чувствам до завтрака – пустое занятие. Собственные мои мысли в то время были постоянно заняты любовью, но семейного блаженства до чая я не мог себе представить.
У себя в гостинице я осведомился, где находится «Отель де Бельж», в котором остановился Чарлз Стрикленд. К моему удивлению, консьерж никогда не слыхал о таком. Между тем со слов миссис Стрикленд я понял, что это большая, роскошная гостиница где-то возле улицы Риволи. Мы заглянули в справочник, и оказалось, что единственное заведение, так именуемое, находится на улице Муан. Квартал отнюдь не шикарный и даже не вполне респектабельный. Я покачал головой.
– Нет, это явно не то.
Консьерж пожал плечами. Другого отеля с таким названием в Париже нет. Мне пришло в голову, что Стрикленд утаил свой настоящий адрес и попросту надул своего компаньона, назвав ему первый попавшийся отель. Не знаю почему, мне вдруг показалось, что это вполне в духе Стрикленда – заставить разъяренного маклера примчаться в Париж и угодить в захолустную гостиницу с весьма сомнительной репутацией. Тем не менее я решил отправиться на разведку. На следующий день, часов около шести, я взял фиакр и велел кучеру ехать на улицу Муан, но отпустил его на углу, так как хотел пешком подойти к гостинице и для начала хорошенько рассмотреть ее. На улице было полно мелких лавчонок, торгующих на потребу покупателей-бедняков, в середине ее, по левую руку от меня, находился «Отель де Бельж». Я остановился в достаточно скромной гостинице, но по сравнению с этой она могла считаться великолепной. Вывеска «Отель де Бельж» украшала высокое здание, не ремонтировавшееся годами и до того обшарпанное, что дома по обе его стороны казались чистыми и нарядными. Грязные окна, по-видимому, никогда не открывались. Нет, не здесь Чарлз Стрикленд и неведомая очаровательница, ради которой он позабыл долг и честь, утопали в преступной роскоши. Я был страшно зол, чувствуя, что попал в дурацкое положение, и уже совсем было собрался уходить, даже не спросив о Стрикленде. Но под конец я заставил себя переступить порог этого заведения единственно для того, чтобы сказать миссис Стрикленд, что сделал для нее все, что мог.
Вход в гостиницу был рядом с какой-то лавчонкой, дверь была открыта, и внутри виднелась надпись: «Bureau au premier»[6]. Я поднялся по узкой лестнице и на площадке обнаружил нечто вроде стеклянной каморки, в которой находился стол и два стула. Снаружи стояла скамейка, на которой коридорный, по-видимому, проводил свои беспокойные ночи. Навстречу мне никто не попался, но под электрическим звонком имелась надпись: «Garçon»[7]. Я нажал кнопку, и вскоре появился молодой человек с бегающими глазами и мрачной физиономией. Он был в жилетке и ковровых шлепанцах.
Не знаю почему, я спросил с самым что ни на есть небрежным видом:
– Не стоит ли здесь, случайно, некий мистер Стрикленд?
– Номер тридцать два. Шестой этаж, – последовал ответ.
Я так опешил, что в первую минуту не нашелся что сказать.
– Он дома?
Портье взглянул на доску, висевшую в каморке.
– Ключа он не оставлял. Сходите наверх, посмотрите.
Я счел необходимым задать еще один вопрос:
– Madame est là?[8]
– Monsieur est seul[9].
Коридорный окинул меня подозрительным взглядом, когда я и впрямь отправился наверх. На темной и душной лестнице стоял какой-то омерзительный кислый запах. На третьем этаже растрепанная женщина в капоте распахнула дверь и молча уставилась на меня. Наконец я добрался до шестого этажа и постучал в дверь под номером тридцать два. Внутри что-то грохнуло, и дверь приоткрылась. Передо мной стоял Чарлз Стрикленд. Он не сказал ни слова и явно не узнал меня.
Я назвал свое имя. И далее постарался быть грациозно-небрежным:
– Вы меня, видимо, не помните. Я имел удовольствие обедать у вас прошлым летом.
– Входите, – приветливо отвечал он. – Очень рад вас видеть. Садитесь.
Я вошел. Это была тесная комнатка, битком набитая мебелью в стиле, который французы называют стилем Луи Филиппа. Широкая деревянная кровать, прикрытая красным стеганым одеялом, большой гардероб, круглый стол, крохотный умывальник и два стула, обитых красным репсом. Все грязное и обтрепанное. Ни малейших следов греховного великолепия, которое живописал мне полковник Мак-Эндрю. Стрикленд сбросил на пол одежду, валявшуюся на одном из стульев, и предложил мне сесть.
– Чем могу служить? – спросил он.
В этой комнатушке он казался еще крупнее, чем в первый вечер нашего знакомства. Он, видимо, не брился уже несколько дней, на нем была поношенная куртка. Тогда, у себя дома, в элегантном костюме Стрикленд явно был не в своей тарелке; теперь, неопрятный и непричесанный, он, видимо, чувствовал себя превосходно. Я не знал, как он отнесется к заготовленной мною фразе.
– Я пришел по поручению вашей супруги.
– А я как раз собирался глотнуть абсента перед обедом. Пойдемте-ка вместе. Вы любите абсент?
– Более или менее.
– Тогда пошли.
Он надел котелок, очень и очень нуждавшийся в щетке.
– Мы можем и пообедать вместе. Вы ведь, собственно, должны мне обед.
– Разумеется. Вы один?
Я льстил себе, воображая, что весьма ловко задал щекотливый вопрос.
– О да! По правде говоря, я уже три дня рта не раскрывал. Французский язык мне что-то не дается.
Спускаясь с ним по лестнице, я недоумевал, что сталось с девицей из кафе. Успели они поссориться, или его увлечение уже прошло? Впрочем, последнее казалось мне сомнительным, ведь он чуть ли не целый год готовился к бегству. Дойдя до кафе на авеню Клиши, мы уселись за одним из столиков, стоявших прямо на мостовой.
Глава двенадцатая
Авеню Клиши в этот час была особенно многолюдна, и, обладая мало-мальски живым воображением, здесь едва ли не любого прохожего можно было наделить романтической биографией. По тротуару сновали конторские служащие и продавщицы; старики, словно сошедшие со страниц Бальзака; мужчины и женщины, извлекающие свой доход из слабостей рода человеческого. Оживление и сутолока бедных кварталов Парижа волнуют кровь и подготовляют к всевозможным неожиданностям.
– Вы хорошо знаете Париж? – спросил я.
– Нет. Мы провели в Париже медовый месяц. С тех пор я здесь не бывал.
– Но как, скажите на милость, вы попали в этот отель?
– Мне его рекомендовали. Я искал что-нибудь подешевле.
Принесли абсент, и мы с подобающей важностью стали капать воду на тающий сахар.
– Думается, мне лучше сразу сказать вам, зачем я вас разыскал, – начал я не без смущения.
Его глаза блеснули.
– Я знал, что рано или поздно кто-нибудь разыщет меня. Эми прислала мне кучу писем.
– В таком случае вы отлично знаете, что я намерен вам сказать.
– Я их не читал.
Чтобы собраться с мыслями, я закурил сигарету. Как приступить к возложенной на меня миссии? Красноречивые фразы, заготовленные мною, трогательные, равно как и негодующие, здесь были неуместны. Вдруг он фыркнул:
– Чертовски трудная задача, а?
– Пожалуй.
– Ладно, выкладывайте поживее, а потом мы премило проведем вечер.
Я задумался.
– Неужели вы не понимаете, что ваша жена мучительно страдает?
– Ничего, пройдет!
Не могу описать, до чего бессердечно это было сказано. Я растерялся, но сделал все, чтобы не показать этого, и заговорил тоном моего дядюшки Генри, священника, когда тот уговаривал кого-нибудь из родственников принять участие в благотворительной подписке.
– Вы не рассердитесь, если я буду говорить откровенно?
Он улыбнулся и покачал головой.
– Чем она заслужила такое отношение?
– Ничем.
– Вы что-нибудь против нее имеете?
– Ровно ничего.
– В таком случае разве не чудовищно оставить ее после семнадцати лет брака?
– Чудовищно.
Я с удивлением взглянул на него. Столь чистосердечное признание моей правоты выбило у меня почву из-под ног. Положение мое было не только затруднительно, но и смехотворно. Я собирался увещевать и уговаривать, грозить и взывать к его сердцу, предостерегать, негодовать, язвить, убивать сарказмом. Но что, черт возьми, прикажете делать исповеднику, если грешник давно раскаялся? Опыта у меня не было ни малейшего, ибо сам я всегда упорно отрицал все обвинения, которые мне предъявлялись.
– Ну и что же дальше? – спросил Стрикленд.
Я постарался презрительно скривить губы.
– Что ж, если вы все признаете, мне, пожалуй, не стоит больше распространяться.
– Не стоит.
Мне стало очевидно, что я не слишком ловко выполнил свою миссию, и я разозлился.
– Черт подери, но нельзя же оставлять женщину без гроша.
– Почему нельзя?
– Как прикажете ей жить?
– Я содержал ее семнадцать лет. Почему бы ей для разнообразия теперь не содержать себя самой.
– Она не может.
– Пусть попытается.
Конечно, у меня нашлось бы, что на это ответить. Я мог бы заговорить об экономическом положении женщины, об обязательствах, которые мужчина, гласно и негласно, берет на себя, вступая в брак, но вдруг я понял, что, в конце концов, важно только одно.
– Вы больше не любите ее?
– Ни капли.
Все это были очень серьезные вопросы в человеческой жизни, но манера, с которой он отвечал, была такой задорной и наглой, что я кусал себе губы, лишь бы не расхохотаться. Я твердил себе, что его поведение отвратительно, и изо всех сил старался возгореться благородным негодованием.
– Но, черт вас возьми, вы же обязаны подумать о детях. Они вам ничего худого не сделали. И они не просили вас произвести их на свет. Если вы о них не позаботитесь, они будут выброшены на улицу.
– Они много лет прожили в холе и неге. Не все дети живут так. Кроме того, о них кто-нибудь да позаботится. Я уверен, что Мак-Эндрю станет платить за их учение.
– Но разве вы не любите их? Они такие славные. Неужели вы хотите совсем от них отказаться?
– Я любил их, когда они были маленькие, а теперь, когда они подросли, я, по правде говоря, никаких чувств к ним не питаю.
– Это бесчеловечно!
– Очень может быть.
– И вам нисколько не стыдно?
– Нет.
Я попытался изменить курс.
– Вас будут считать просто свиньей.
– Пускай!
– Неужели вам приятно, когда вас клянут на всех перекрестках?
– Мне все равно.
Его ответ звучал так презрительно, что мой вполне естественный вопрос показался мне верхом глупости. Я подумал минуту-другую.
– Не понимаю, как может человек жить спокойно, зная, что все вокруг осуждают его! Рано или поздно это начнет вас тяготить. У каждого из нас имеется совесть, и когда-нибудь она непременно проснется. К примеру, вдруг ваша жена умрет, разве вы не будете мучиться угрызениями совести?
Он молчал, и я терпеливо дожидался, пока он заговорит. Но в конце концов мне пришлось прервать молчание.
– Что вы на это скажете?
– То, что вы идиот.
– Вас ведь могут заставить содержать жену и детей, – возразил я, несколько уязвленный. – Я не сомневаюсь, что закон возьмет их под свою защиту.
– А может закон снять луну с неба? У меня ничего нет. Я приехал сюда с сотней фунтов.
Если я и раньше недоумевал, то теперь уж окончательно стал в тупик. Ведь жизнь в «Отель де Бельж» и вправду свидетельствовала о крайне стесненных обстоятельствах.
– А что вы будете делать, когда эти деньги выйдут?
– Как-нибудь подработаю.
Он был совершенно спокоен, и в глазах его по-прежнему мелькала насмешливая улыбка, от которой все мои речи становились дурацкими. Я замолчал, соображая, что мне еще сказать. Но на этот раз первым заговорил он.
– Почему бы Эми не выйти опять замуж? Она еще не старуха и собой недурна. Я могу рекомендовать ее как превосходную жену. Если она пожелает развестись со мной, пожалуйста, я возьму вину на себя.
Теперь пришел мой черед улыбаться. Как он ни хитер, но мне ясно, что за цель он преследует. Он скрывает, что приехал сюда с женщиной, и пускается на всевозможные уловки, чтобы замести следы. Я отвечал очень решительно:
– Ваша жена ни за что не согласится на развод. Это ее бесповоротное решение. Оставьте всякую надежду.
Он посмотрел на меня с непритворным удивлением. Улыбка сбежала с его губ, и он очень серьезно сказал:
– Да ведь мне, голубчик, все едино, что в лоб, что по лбу.
Я рассмеялся.
– Полно, не считайте нас такими уж дураками. Мы знаем, что вы уехали с некой особой.
Он даже привскочил на месте и разразился громким хохотом. Смеялся он так заразительно, что сидевшие поблизости обернулись к нему, а потом и сами начали смеяться.
– Не вижу тут ничего смешного.
– Бедняжка Эми, – осклабился он.
Затем его лицо приняло презрительное выражение.
– Убогий народ эти женщины. Любовь! Везде любовь! Они думают, что мужчина уходит от них, только польстившись на другую. Не такой я болван, чтоб проделать все, что я проделал, ради женщины.
– Вы хотите сказать, что ушли от жены не из-за другой женщины?
– Конечно!
– Вы даете мне честное слово?
Не знаю, зачем я потребовал от него честного слова – верно, по простоте душевной.
– Честное слово.
– Тогда объясните мне, Бога ради, зачем вы оставили ее?
– Я хочу заниматься живописью.
Я смотрел на него, вытаращив глаза. Я ничего не понял и на минуту подумал, что предо мной сумасшедший. Вспомните, я был очень молод, а его считал человеком уже пожилым. От удивления у меня все на свете вылетело из головы.
– Но вам уже сорок лет.
– Поэтому-то я и решил, что пора начать.
– Вы когда-нибудь занимались живописью?
– В детстве я мечтал стать художником, но отец принудил меня заниматься коммерцией, он считал, что искусством ничего не заработаешь. Я начал писать с год назад. И даже посещал вечернюю художественную школу.
– А миссис Стрикленд думала, что вы проводите это время в клубе за бриджем?
– Да.
– Почему вы не рассказали ей?
– Я предпочитал держать язык за зубами.
– И живопись вам дается?
– Еще не вполне. Но я научусь. Для этого я и приехал сюда. В Лондоне нет того, что мне нужно. Посмотрим, что будет здесь.
– Неужели вы надеетесь чего-нибудь добиться, начав в этом возрасте? Люди начинают писать лет в восемнадцать.
– Я теперь научусь быстрее, чем научился бы в восемнадцать лет.
– С чего вы взяли, что у вас есть талант?
Он ответил не сразу. Взгляд его был устремлен на снующую мимо нас толпу, но вряд ли он видел ее. То, что он ответил, собственно, не было ответом.
– Я должен писать.
– Но ведь это более чем рискованная затея!
Он посмотрел на меня. В глазах его появилось такое странное выражение, что мне стало не по себе.
– Сколько вам лет? Двадцать три?
Вопрос показался мне бестактным. Да, в моем возрасте можно было пускаться на поиски приключений; но его молодость уже отошла, он был биржевой маклер с известным положением в обществе, с женой и детьми. То, что было бы естественно для меня, – для него непозволительно. Я хотел быть беспристрастным.
– Конечно, может случиться чудо, и вы станете великим художником, но вы же должны понять, что тут один шанс против миллиона. Ведь это трагедия, если в конце концов вы убедитесь, что совершили ложный шаг.
– Я должен писать, – повторил он.
– Ну а что, если вы навсегда останетесь третьесортным художником, стоит ли всем для этого жертвовать? Не во всяком деле важно быть первым. Можно жить припеваючи, даже если ты и посредственность. Но посредственным художником быть нельзя.
– Вы просто олух, – сказал он.
– Не знаю, почему так уж глупы очевидные истины.
– Говорят вам, я должен писать. Я ничего не могу с собой поделать. Когда человек упал в реку, не важно, хорошо он плавает или плохо. Он должен выбраться из воды, иначе он потонет.
В голосе его слышалась подлинная страсть; вопреки моему желанию она захватила меня. Я почувствовал, что внутри его клокочет могучая сила, и мне стало казаться, что нечто жестокое и непреодолимое помимо его воли владеет им. Я ничего не понимал. Точно дьявол вселился в этого человека, дьявол, который каждую минуту мог растерзать, погубить его. А с виду Стрикленд казался таким заурядным. Я не сводил с него глаз, но это его не смущало. Интересно, за кого можно принять его, думал я, когда он вот так сидит здесь в своей старой куртке и давно не чищенном котелке; брюки на нем мешковатые, руки нечисты; лицо его, с небритой рыжей щетиной на подбородке, с маленькими глазками и большим задорным носом, грубо и неотесанно. Рот у него крупный, губы толстые и чувственные. Нет, мне не подобрать для него определения.
– Так, значит, вы не вернетесь к жене? – сказал я наконец.
– Никогда.
– Она готова все забыть и начать жизнь сначала. И никогда она ни в чем не упрекнет вас.
– Пусть убирается ко всем чертям.
– Вам все равно, если вас будут считать отъявленным мерзавцем? И все равно, если она и ваши дети вынуждены будут просить подаяние?
– Плевать мне.
Я помолчал, чтобы придать больше веса следующему моему замечанию, и сказал со всей решительностью, на которую был способен:
– Вы хам, и больше ничего.
– Ну, теперь, когда вы облегчили душу, пойдемте-ка обедать.
Глава тринадцатая
Я понимаю, что было бы достойнее пренебречь этим предложением. Наверно, мне следовало бы выказать негодование, которое я на самом деле ощущал, и заслужить похвалу полковника Мак-Эндрю, рассказав ему о своем горделивом отказе сесть за один стол с таким человеком. Но беда в том, что страх не справиться со своей ролью никогда не позволял мне разыгрывать из себя моралиста. И на этот раз уверенность, что все мои благородные чувства для Стрикленда что горох об стену, заставила меня держать их при себе. Только поэт или святой способен поливать асфальтовую мостовую в наивной вере, что на ней зацветут лилии и вознаградят его труды.
Я заплатил за выпитый им абсент, и мы отправились в дешевенький ресторан; там было полно народу, очень оживленно, и обед нам подали отличный. У меня был аппетит юноши, у него – человека с окостенелой совестью. Из ресторана мы пошли в кабачок выпить кофе с ликером.
Я уже сказал ему все, что мог, относительно причины моего приезда в Париж, и хотя мне казалось, что, прекратив этот разговор, я стану предателем в отношении миссис Стрикленд, но продолжать борьбу с его безразличием я был уже не в силах. Только женщина может с неослабной горячностью десять раз подряд твердить одно и то же. Я успокаивал себя мыслью, что теперь смогу получше разобраться в душевном состоянии Стрикленда. Это было куда интересней. Но сделать это было не так-то просто, ибо Стрикленд отнюдь не отличался разговорчивостью. Он с трудом выжимал из себя слова, так что, казалось, для него они не были средством общения с миром; о движениях его души оставалось догадываться по избитым фразам, вульгарным восклицаниям и отрывистым жестам. Но, хотя ничего сколько-нибудь значительного он не говорил, никто не посмел бы назвать этого человека скучным. Может быть, из-за его искренности. Он, видимо, мало интересовался Парижем, который видел впервые (его краткое пребывание здесь с женой в счет не шло), и на все новое, открывавшееся ему, смотрел без малейшего удивления. Я бывал в Париже бесчисленное множество раз и всегда наново испытывал трепет восторга. Проходя по его улицам, я чувствовал себя счастливым искателем приключений. Стрикленд оставался хладнокровным. Оглядываясь назад, я думаю, что он был слеп ко всему, кроме тревожных видений своей души.
В кабачке, где было множество проституток, произошел нелепый инцидент. Некоторые из этих девиц сидели с мужчинами, некоторые друг с дружкой; вскоре я заметил, что одна из них смотрит на нас. Встретившись взглядом со Стриклендом, она улыбнулась. Он, по-моему, ее просто не заметил. Она поднялась и вышла из зала, но тотчас же воротилась и, проходя мимо нас, весьма учтиво попросила угостить ее чем-нибудь спиртным. Она подсела к нашему столику, и я начал болтать с нею, отлично, впрочем, понимая, что она интересуется Стриклендом, а не мной. Я пояснил, что он знает по-французски лишь несколько слов. Она пыталась говорить с ним то знаками, то на ломаном французском языке: ей казалось, что так он лучше поймет ее. У нее в запасе было с десяток английских фраз. Она заставила меня перевести ему то, что умела выразить только на своем родном языке, и настойчиво потребовала, чтобы я перевел ей смысл его ответов. Он был в хорошем расположении духа, его это немножко забавляло, но, в общем, он явно оставался равнодушным.
– Вы, кажется, одержали победу, – засмеялся я.
– Польщенным себя не чувствую.
На его месте я был бы больше смущен и не так уж спокоен. У нее были смеющиеся глаза и очаровательный рот. Она была молода. Я удивлялся: чем ее пленил Стрикленд? Она не таила своих желаний, и мне пришлось перевести:
– Она хочет, чтобы вы пошли с нею.
– Я с ними не якшаюсь, – буркнул он.
Я постарался по мере сил смягчить его ответ. И так как мне казалось, что нелюбезно с его стороны отклонять такое приглашение, то я объяснил его отказ неимением денег.
– Но он мне нравится, – возразила она. – Скажите ему, что я пойду с ним задаром.
Когда я это перевел, Стрикленд нетерпеливо пожал плечами.
– Скажите, пусть убирается к черту.
Вид Стрикленда был красноречивее слов, и девушка вдруг гордо вскинула голову. Возможно, что она покраснела под своими румянами.
– Monsieur n’est pas poli[10], – проговорила она, вставая, и вышла из зала.
Я даже рассердился.
– Не понимаю, зачем вам понадобилось оскорблять ее. В конце концов, она отличила вас из многих.
– Меня тошнит от этих особ, – отрезал Стрикленд.
Я с любопытством посмотрел на него. Непритворное отвращение выражалось на его лице, и тем не менее это было лицо грубого, чувственного человека. Наверно, последнее и привлекло девушку.
– В Лондоне я мог иметь любую женщину, стоило мне только захотеть. Не за этим я сюда приехал.
Глава четырнадцатая
На обратном пути в Англию я много думал о Стрикленде и честно старался упорядочить то, что мне предстояло сказать его жене. Я знал, что мой отчет не удовлетворит ее, я и сам был недоволен собою. Стрикленд меня озадачил. Я не понимал мотивов его поведения. На мой вопрос, когда у него впервые зародилась мысль стать художником, он не мог или не пожелал ответить. Сам же я тут ни до чего не мог додуматься. Правда, я пытался убедить себя, что в его неповоротливом уме мало-помалу нарастало смутное чувство возмущения, но эти домыслы разбивались о неопровержимый факт – он никогда не высказывал недовольства однообразием своей жизни. Если Стрикленду до того все опостылело, что он решил сделаться художником, лишь бы порвать с докучными узами, – это было постижимо и довольно банально; но самое слово «банальность» никак не вязалось со Стриклендом. Романтик в душе, я наконец придумал версию, которая, правда, мне самому казалась притянутой за волосы, но все же хоть что-то объясняла. В глубинах его души, говорил я себе, заложен инстинкт творчества; приглушенный житейскими обстоятельствами, он тем не менее неуклонно разрастался наподобие того, как разрастается злокачественная опухоль в живой ткани, покуда не завладел всем его существом и не принудил его к действию. Так кукушка кладет свое яйцо в гнездо другой птицы, когда же та выкормит кукушонка, он выпихивает своих сводных братьев, а под конец еще и разрушает гнездо, его приютившее.
Странно, что инстинкт творчества завладел этим скучным маклером, быть может, на погибель ему и на горе его близким; но разве не более странно то, как дух Божий нисходил на людей богатых и могущественных, преследуя их с неотступным упорством, покуда они, побежденные им, не отступались от радостей жизни и женской любви во имя сурового монашества. Откровение приходит под разными личинами, и по-разному люди на него отзываются. Некоторым нужна жестокая встряска: так камень разлетается на куски от ярости потока; с другими все совершается постепенно: так вода точит камень. Стрикленда отличала прямота фанатика и свирепость апостола.
Но я хотел еще дознаться, возможно ли, чтобы страсть, которой он одержим, была оправдана его произведениями. Когда я спросил, что думали его сотоварищи по вечерней школе живописи в Лондоне о его работах, он улыбнулся:
– Они думали, что я дурачусь.
– Вы и здесь посещаете какую-нибудь студию?
– Да. Этот зануда – я имею в виду нашего маэстро – сегодня утром, как увидел мой рисунок, только брови поднял и прошествовал дальше.
Стрикленд фыркнул. Он отнюдь не был обескуражен. Мнение других его не интересовало.
Из-за этого-то я всякий раз и становился в тупик, общаясь со Стриклендом. Когда люди уверяют, будто они безразличны к тому, что о них думают, они по большей части себя обманывают. Обычно они поступают, как им вздумается, в надежде, что никто не прознает об их чудачествах, иногда же они поступают вопреки мнению большинства, ибо их поддерживает признание близких. Право же, нетрудно пренебрегать условностями света, если это пренебрежение – условность, принятая в компании ваших приятелей. В таком случае человек проникается преувеличенным уважением к своей особе. Он удовлетворен собственной храбростью, не испытывая при этом малоприятного чувства опасности. Но жажда признания, пожалуй, самый неистребимый инстинкт цивилизованного человека. Никто так не спешит набросить на себя покров респектабельности, как непотребная женщина, преследуемая злобой оскорбленной добродетели. Я не верю людям, которые уверяют, что в грош не ставят мнение окружающих. Это пустая бравада. По сути дела, они только не страшатся упреков в мелких прегрешениях, убежденные, что никто о таковых не прознает. Но здесь передо мною был человек, которого действительно нимало не тревожило, что о нем думают: условности не имели над ним власти. Он походил на борца, намазавшего тело жиром – никак его не ухватишь, – и это давало ему свободу, граничившую со святотатством. Помнится, я сказал ему:
– Если бы все поступали, как вы, мир не мог бы существовать.
– Чушь! Не всякий хочет поступать, как я. Большинству нравится все делать, как люди.
Я пытался съязвить:
– Вы, видимо, отрицаете максиму: «Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило».
– Первый раз в жизни слышу! Чушь какая-то.
– Между тем это сказал Кант.
– А мне что. Чушь, и ничего больше.
Ну стоило ли взывать к совести такого человека? Все равно что стараться увидеть свое изображение, не имея зеркала. Я полагаю, что совесть – это страж, в каждом отдельном человеке охраняющий правила, которые общество выработало для своей безопасности. Она – полицейский в наших сердцах, поставленный, чтобы не дать нам нарушить закон. Шпион, засевший в главной цитадели нашего «я». Человек так алчет признания, так безумно страшится, что собратья осудят его, что сам торопится открыть ворота своему злейшему врагу; и вот враг уже неотступно следит за ним, преданно отстаивая интересы своего господина, в корне пресекает малейшее поползновение человека отбиться от стада. И человек начинает верить, что благо общества выше личного блага. Узы, привязывающие человека к человечеству, – очень крепкие узы. Однажды уверовав, что есть интересы, которые выше его собственных, он становится рабом этого своего убеждения, он возводит его на престол и под конец, подобно царедворцу, раболепно склонившемуся под королевским жезлом, что опустился на его плечо, еще гордится чувствительностью своей совести. Он уже клеймит самыми жесткими словами тех, что не признают этой власти, ибо теперь, будучи членом общества, он сознает, что бессилен против них. Когда я понял, что Стрикленду и вправду безразлично отношение, которое должны возбудить в людях его поступки, я с ужасом отшатнулся от этого чудовища, утратившего человеческий облик.
На прощание он сказал мне следующее:
– Передайте Эми, чтобы она сюда не приезжала. Впрочем, я все равно съеду с квартиры, и ей не удастся меня разыскать.
– Мне лично кажется, что ей следует Бога благодарить за то, что она от вас избавилась, – сказал я.
– Милый мой, я очень надеюсь, что вы ее заставите это понять. Впрочем, женщины – народ бестолковый.
Глава пятнадцатая
В Лондоне меня ожидала записка с настойчивым требованием явиться вечером к миссис Стрикленд. У нее сидел полковник Мак-Эндрю с супругой, старшей сестрой миссис Стрикленд. Сестры походили друг на друга, хотя у миссис Мак-Эндрю, уже изрядно поблекшей, был такой воинственный вид, словно она засунула себе в карман всю Британскую империю; вид, кстати сказать, характерный для жен старших офицеров и обусловленный горделивым сознанием принадлежности к высшей касте. Манеры у этой дамы были бойкие, а ее благовоспитанности едва-едва хватало на то, чтобы вслух не высказывать убеждения, что любой штатский – приказчик. Гвардейцев она тоже ненавидела, считая зазнайками, а об их женах, забывающих отдавать визиты, даже и говорить не желала. Платье на ней было дорогое и безвкусное.
Миссис Стрикленд явно нервничала.
– Итак, какие вести вы нам привезли? – спросила она.
– Я видел вашего мужа. Увы, он твердо решил не возвращаться. – Я помолчал. – Он намерен заниматься живописью.
– Что вы хотите этим сказать? – вне себя от удивления крикнула миссис Стрикленд.
– Неужели вы никогда не замечали этой его страсти?
– Он окончательно рехнулся! – воскликнул полковник.
Миссис Стрикленд нахмурила брови. Она рылась в своих воспоминаниях.
– Еще до того, как мы поженились, он иногда баловался красками. Но, Бог мой, что это была за мазня! Мы смеялись над ним. Такие люди, как он, не созданы для искусства.
– Ах! Это же просто предлог! – вмешалась миссис Мак-Эндрю.
Миссис Стрикленд некоторое время сидела погруженная в свои мысли. Она не знала, как понять мое сообщение. В гостиной уже был наведен порядок; домовитость, видимо, возобладала в миссис Стрикленд над горем, и гостиная больше не производила унылого впечатления меблированной комнаты, ожидающей нового жильца, как в первый мой визит после катастрофы. Но, лучше узнав Стрикленда в Париже, я уже не мог представить его себе в этой обстановке. «Неужели им ни разу не бросилось в глаза, как все здесь ему не соответствует?» – думал я.
– Но если он хотел стать художником, почему он молчал? – спросила наконец миссис Стрикленд. – Кто-кто, а я бы уж сочувственно отнеслась к такому влечению.
Миссис Мак-Эндрю поджала губы. Она, вероятно, всегда порицала сестру за пристрастие к людям искусства и насмехалась над ее «культурными» друзьями.
Миссис Стрикленд продолжала:
– Ведь окажись у него хоть какой-то талант, я первая стала бы поощрять его, пошла бы на любые жертвы. Вполне понятно, что я бы предпочла быть женой художника, нежели биржевого маклера. Если бы не дети, я бы ничего не боялась и в какой-нибудь жалкой студии в Челси жила бы не менее счастливо, чем в этой квартире.
– Нет, милочка, ты выводишь меня из терпения! – воскликнула миссис Мак-Эндрю. – Не хочешь же ты сказать, что поверила этой вздорной выдумке?
– Но я уверен, что это правда, – робко вставил я.
Она взглянула на меня с добродушным презрением.
– Мужчина в сорок лет не бросает своего дела, жену и детей для того, чтобы стать художником, если тут не замешана женщина. Уж я-то знаю, что какая-нибудь особа из вашего «артистического» круга вскружила ему голову.
Бледное лицо миссис Стрикленд внезапно залилось краской:
– Какова она из себя?
Я помедлил. Это будет как взрыв бомбы.
– С ним нет женщины.
Полковник Мак-Эндрю и его жена заявили, что они в это не верят, а миссис Стрикленд вскочила с места.
– Вы хотите сказать, что ни разу не видели ее?
– Мне некого было видеть. Он там один.
– Что за вздор! – вскричала миссис Мак-Эндрю.
– Надо было мне ехать самому, – буркнул полковник. – Уж я-то бы живо о ней разузнал.
– Жалею, что вы не взяли на себя труд съездить в Париж, – отвечал я не без язвительности, – вы бы живо убедились, что все ваши предположения ошибочны. Он не снимает апартаментов в шикарном отеле. Он живет в крошечной, убогой комнатушке. И ушел он из дому не затем, чтобы вести легкую жизнь. У него гроша нет за душой.
– Вы полагаете, что он совершил какой-нибудь проступок, о котором мы ничего не знаем, и скрывается от полиции?
Такое предположение заронило луч надежды в их души, но я решительно отверг его.
– Если бы это было так, зачем бы он стал давать адрес своему компаньону, – колко возразил я. – Так или иначе, а в одном я уверен: никакой женщины с ним нет. Он не влюблен и ни о чем подобном даже не помышляет.
Настало молчание. Они обдумывали мои слова.
– Что ж, – прервала наконец молчание миссис Мак-Эндрю, – если то, что вы говорите, правда, дело обстоит еще не так скверно, как я думала.
Миссис Стрикленд взглянула на нее, но ничего не сказала. Она была очень бледна, и ее тонкие брови хмурились. Выражения ее лица я не понимал. Миссис Мак-Эндрю продолжала:
– Значит, это просто каприз, который скоро пройдет.
– Вы должны поехать к нему, Эми, – заявил полковник. – Почему бы вам не провести год в Париже? За детьми мы присмотрим. Я уверен, ему просто наскучила однообразная жизнь, он быстро одумается, с удовольствием вернется в Лондон, и все это будет предано забвению.
– Я бы не поехала, – вмешалась миссис Мак-Эндрю. – Лучше предоставить ему полную свободу действий. Он вернется с поджатым хвостом и заживет прежней жизнью. – Миссис Мак-Эндрю холодно взглянула на сестру. – Может быть, ты не всегда умно вела себя с ним, Эми. Мужчины – фокусники, и с ними надо уметь обходиться.
Миссис Мак-Эндрю, как и большинство женщин, считала, что мужчина – негодяй, если он оставляет преданную и любящую жену, но что вина за его поступок все же падает на нее. Le coeur а ses raisons que la raison ne connaît pas[11].
Миссис Стрикленд медленно переводила взгляд с одного на другого.
– Он не вернется, – объявила она.
– Ах, милочка, вспомни, что тебе о нем сказали. Он привык к комфорту и к тому, чтобы за ним ухаживали. Неужели ты думаешь, что он долго будет довольствоваться убогой комнатушкой в захудалом отеле? Вдобавок у него нет денег. Он должен вернуться.
– Покуда я считала, что он сбежал с какой-то женщиной, у меня еще оставалась надежда. Я была уверена, что долго это не продлится. Она бы смертельно надоела ему через три месяца. Но если он уехал не из-за женщины, всему конец.
– Ну, это уж что-то слишком тонко, – заметил полковник, вкладывая в последнее слово все свое презрение к столь штатским понятиям. – Он, конечно, вернется, и Дороти совершенно права, от этой эскапады его не убудет.
– Но я не хочу, чтобы он вернулся, – сказала миссис Стрикленд.
– Эми!
Приступ холодной злобы нашел на миссис Стрикленд. Она мертвенно побледнела и заговорила с придыханием:
– Я могла бы простить, если бы он вдруг отчаянно влюбился в какую-то женщину и бежал с нею. Это было бы естественно. Я бы его не винила. Я считала бы, что его заставили бежать. Мужчины слабы, а женщины назойливы. Но это – это совсем другое. Я его ненавижу. И уж теперь никогда не прощу.
Полковник Мак-Эндрю и его супруга принялись наперебой уговаривать ее. Они были потрясены. Уверяли, что она сумасшедшая, отказывались понимать ее. Миссис Стрикленд в отчаянии обратилась ко мне:
– Вы-то хоть меня понимаете?
– Не совсем. Вы хотите сказать, что могли бы простить его, если бы он оставил вас ради другой женщины, но не ради отвлеченной идеи? Видимо, вы полагаете, что в первом случае у вас есть возможность бороться, а во втором вы бессильны?
Миссис Стрикленд бросила на меня не слишком дружелюбный взгляд, но ничего не ответила. Возможно, что я попал в точку. Затем она продолжала сиплым, дрожащим голосом:
– Я никогда не думала, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу его. Я ведь тешила себя мыслью, что, сколько бы это ни продлилось, в конце концов он все же ко мне вернется. Я знала, что на смертном одре он пошлет за мной, и была готова к этому; я бы ходила за ним как мать, и в последнюю минуту сказала бы, что я всегда любила его и все-все ему простила.
Я часто с недоумением замечал в женщинах страсть эффектно вести себя у смертного одра тех, кого они любят. Временами мне даже казалось, что они досадуют на долговечность близких, не позволяющую им разыграть красивую сцену.
– Но теперь – теперь все кончено. Для меня он чужой человек. Пусть умирает с голоду, одинокий, заброшенный, без единого друга, – меня это не касается. Надеюсь, что его постигнет какая-нибудь страшная болезнь. Для меня он больше не существует.
Тут я счел уместным передать ей слова Стрикленда.
– Если вы желаете развестись с ним, он готов сделать все, что для этого потребуется.
– Зачем мне давать ему свободу?
– По-моему, он к ней и не стремится. Просто он думает, что вам так будет удобнее.
Миссис Стрикленд нетерпеливо пожала плечами. Я был несколько разочарован. В ту пору я предполагал в людях больше цельности, и кровожадные инстинкты этого прелестного создания меня опечалили. Я не понимал, сколь различны свойства, составляющие человеческий характер. Теперь-то я знаю, что мелочность и широта, злоба и милосердие, ненависть и любовь легко уживаются в душе человека.
«Сумею ли я найти слова, которые смягчили бы горькое чувство унижения, терзающее миссис Стрикленд?» – думал я и решил попытаться.
– Мне временами кажется, что ваш муж не вполне отвечает за свои поступки. По-моему, он уже не тот человек. Он одержим страстью, которая помыкает им. Безраздельно предавшийся ей, он беспомощен, как муха в паутине. Его точно околдовали. Тут поневоле вспомнишь загадочные рассказы о том, как второе «я» вступает в человека и вытесняет первое. Душа – не постоянная жительница тела и способна на таинственные превращения. В старину сказали бы, что в Чарлза Стрикленда вселился дьявол.
Миссис Мак-Эндрю разгладила ладонью платье на коленях, золотые браслеты скользнули вниз по ее руке.
– Все это, по-моему, пустые измышления, – заметила она кислым тоном. – Я не отрицаю, что Эми чересчур полагалась на своего мужа. Будь она меньше занята собственными делами, она бы уж сообразила, что происходит. Я уверена, что Алек не мог бы годами носиться с каким-нибудь замыслом втайне от меня.
Полковник уставился в пространство с видом самого добродетельного человека на свете.
– Но Чарлз Стрикленд все равно бессердечное животное. – Миссис Мак-Эндрю бросила на меня строгий взгляд. – Я могу вам точно сказать, почему он оставил жену: из эгоизма, и только из эгоизма.
– Это, конечно, самое простое объяснение, – ответил я, про себя подумав, что оно ничего не объясняет. Потом я поднялся, сославшись на усталость, откланялся, и миссис Стрикленд не сделала попытки задержать меня.
Глава шестнадцатая
Дальнейшие события показали, что миссис Стрикленд – женщина с характером. Она скрывала свои мучения, так как сумела понять, что людям докучают вечные рассказы о несчастьях и вида страданий они тоже стараются избегать. Где бы она ни появлялась – а друзья из сочувствия наперебой приглашали ее, – она неизменно сохраняла полное достоинство. Одевалась она элегантно, но просто; была весела, но держалась скромно и предпочитала слушать о чужих горестях, чем распространяться о своих. О муже она всегда говорила с жалостью. Ее отношение к нему на первых порах меня удивляло. Однажды она сказала мне:
– Вы, безусловно, заблуждаетесь, я слышала из достоверных источников, что Чарлз уехал из Англии не один.
– В таком случае он положительно гений по части заметания следов.
Она отвела глаза и слегка покраснела:
– Во всяком случае, я хотела вас попросить, если кто-нибудь скажет, что он скрылся с женщиной, пожалуйста, не опровергайте этого.
– Хорошо, не стану.
Она небрежно перевела разговор на другое. Вскоре я узнал, что среди друзей миссис Стрикленд распространился своеобразный вариант этой истории. Стрикленд будто бы влюбился во французскую танцовщицу, впервые увиденную им на сцене театра «Эмпайр», и последовал за нею в Париж. Откуда возник подобный слух, я так и не доискался, но он вызывал сочувствие к миссис Стрикленд и укреплял ее положение в обществе. А это было небесполезно для профессии, которую она намеревалась приобрести. Полковник Мак-Эндрю отнюдь не преувеличивал, говоря, что она осталась без гроша за душой, ей необходимо было начать зарабатывать себе на жизнь, и чем скорее, тем лучше. Она решила извлечь пользу из своих обширных знакомств с писателями и взялась за изучение стенографии и машинописи. Ее образованность заставляла предположить, что она будет превосходной машинисткой, а ее семейная драма сделала эти попытки стать самостоятельной очень симпатичными. Друзья обещали снабжать ее работой и рекомендовать своим знакомым.
Мак-Эндрю, люди бездетные и с достатком, взяли на себя попечение о детях, так что миссис Стрикленд приходилось содержать только себя. Она выехала из своей квартиры и продала мебель. Обосновавшись в Вестминстере, в двух небольших комнатах, миссис Стрикленд начала жизнь заново. Она была так усердна, что не оставалось никаких сомнений в успехе ее предприятия.
Глава семнадцатая
Лет пять спустя после вышеописанных событий я решил пожить некоторое время в Париже. Лондон мне приелся. Каждый день делать одно и то же – утомительнейшее занятие. Мои друзья размеренно шли по своему жизненному пути; они уже ничем не могли удивить меня; при встрече я заранее знал, что и как они скажут, даже на их любовных делах лежала печать докучливой обыденности. Мы уподобились трамвайным вагонам, бегущим по рельсам от одной конечной станции до другой; можно было уже почти точно высчитать, сколько пассажиров эти вагоны перевезут. Жизнь текла слишком безмятежно. И меня обуяла паника. Я отказался от квартиры, распродал свои скромные пожитки и решил все начать сызнова.
Перед отъездом я зашел к миссис Стрикленд. Я не видел ее довольно долгое время и отметил, что она переменилась: она не только постарела и похудела, не только новые морщинки избороздили ее лицо, мне показалось, что и характер у нее изменился. Она преуспела в своем начинании и теперь держала контору на Чансери-лейн; сама миссис Стрикленд почти не печатала на машинке, а только проверяла работу четырех служащих у нее девушек. Стремясь придать своей продукции известное изящество, она обильно пользовалась синими и красными чернилами; копии она обертывала в плотную муаровую бумагу нежнейших оттенков и действительно заслужила известность изяществом и аккуратностью работы. Она усиленно зарабатывала деньги. Однако не могла отрешиться от представления, что зарабатывать себе на жизнь – не вполне пристойное занятие, и потому нет-нет да и напоминала собеседнику, что по рождению она леди. В разговоре миссис Стрикленд так и сыпала именами своих знакомых, преимущественно громкими и доказывавшими, что она остается на той же ступени социальной лестницы. Она немножко конфузилась своей отваги и деловой предприимчивости, но была в восторге от того, что завтра ей предстояло обедать в обществе известного адвоката, живущего в Южном Кенсингтоне. С удовольствием рассказывая, что сын ее учится в Кембридже, она не забывала, правда слегка иронически, упоминать о бесконечных приглашениях на танцы, которые получала ее дочь, недавно начавшая выезжать. Я совершил бестактность, спросив:
– Она тоже вступит в ваше дело?
– О нет! Я этого не допущу, – отвечала миссис Стрикленд. – Она очень мила и, я уверена, сделает хорошую партию.
– Это будет для вас большой поддержкой.
– Многие считают, что ей следует идти на сцену, но я, конечно, на это не соглашусь. Я знакома со всеми нашими лучшими драматургами и могла бы хоть завтра достать для нее прекрасную роль, но я не хочу, чтобы она вращалась в смешанном обществе.
Такая высокомерная разборчивость несколько смутила меня.
– Слышали вы что-нибудь о вашем муже?
– Нет. Ничего. Он, по-видимому, умер.
– А если я вдруг встречусь с ним в Париже? Сообщить вам о нем?
Она на минуту задумалась.
– Если он очень нуждается, я могу немножко помочь ему. Я вам пришлю небольшую сумму денег, и вы будете постепенно ему их выплачивать.
– Вы очень великодушны, – сказал я.
Но я знал, что не добросердечие подвигнуло ее на это. Неправда, что страдания облагораживают характер, иногда это удается счастью, но страдания в большинстве случаев делают человека мелочным и мстительным.
Глава восемнадцатая
Вышло так, что я встретился со Стриклендом, не пробыв в Париже и двух недель.
Я быстро нашел себе небольшую квартирку на пятом этаже на улице Дам и за две сотни франков купил подержанную мебель. Консьержка должна была варить мне по утрам кофе и убирать комнаты. Обосновавшись, я тотчас же отправился к своему приятелю Дирку Струве.
Дирк Струве был из тех людей, о которых в зависимости от характера одни говорят, пренебрежительно усмехаясь, другие – недоуменно пожимая плечами. Природа создала его шутом. Он был художник, но очень плохой; мы познакомились в Риме, и я хорошо помнил его картины. Казалось, он влюблен в банальность. С душою, трепещущей любовью к искусству, он писал римлян, расположившихся отдохнуть на лестнице площади Испании, причем их слишком очевидная живописность нимало его не обескураживала; в результате мастерская Струве была сплошь увешана холстами, с которых на вас смотрели усатые большеглазые крестьяне в остроконечных шляпах, мальчишки в красочных лохмотьях и женщины в пышных юбках. Они либо отдыхали на паперти, либо прохлаждались среди кипарисов под безоблачным небом; иногда предавались любовным утехам возле фонтана времен Возрождения, а не то брели по полям Кампании подле запряженной волами повозки. Все они были тщательно выписаны и не менее тщательно раскрашены. Фотография не могла бы быть точнее. Один из художников на вилле Медичи окрестил Дирка: Le maître de la boîte à chocolats[12]. Глядя на его картины, можно было подумать, что Моне, Мане и прочих импрессионистов вообще не существовало.
– Конечно, я не великий художник, – говаривал Дирк. – Отнюдь не Микеланджело, но что-то во мне все-таки есть. Мои картины продаются. Они вносят романтику в дома самых разных людей. Ты знаешь, ведь мои работы покупают не только в Голландии, но в Норвегии, в Швеции и в Дании. Их очень любят торговцы и богатые коммерсанты. Ты не можешь себе представить, какие зимы стоят в этих краях, долгие, темные, холодные. Тамошним жителям нравится думать, что Италия похожа на мои картины. Именно такой они себе ее представляют. Такой представлялась она и мне до того, как я сюда приехал.
На самом деле это представление навек засело в нем и так его ослепило, что он уже не умел видеть правду; и вопреки жестоким фактам перед его духовным взором вечно стояла Италия романтических разбойников и живописных руин. Он продолжал писать идеал – убогий, пошлый, затасканный, но все же идеал; и это сообщало ему своеобразное обаяние.
Для меня лично Дирк Струве был не только объектом насмешек. Собратья художники ничуть не скрывали своего презрения к его мазне, но он зарабатывал немало денег, и они не задумываясь распоряжались его кошельком. Дирк был щедр, и все кому не лень, смеясь над его наивным доверием к их россказням, без зазрения совести брали у него взаймы. Он отличался редкой сердобольностью, но в его отзывчивой доброте было что-то нелепое, и потому его одолжения принимались без благодарности. Брать у него деньги было все равно что грабить ребенка, а его еще презирали за дурость. Мне кажется, что карманник, гордый ловкостью своих рук, должен досадовать на беспечную женщину, забывшую в кебе чемоданчик со всеми своими драгоценностями. Природа напялила на Струве дурацкий колпак, но чувствительности его не лишила. Он корчился под градом всевозможных издевок, но, казалось, добровольно вновь и вновь подставлял себя под удары. Он страдал от непрерывных насмешек, но был слишком добродушен, чтобы озлобиться: змея жалила Дирка, а опыт ничему его не научал, и, едва излечившись от боли, он снова пригревал змею на своей груди. Жизнь его была трагедией, но написанной языком вульгарного фарса. Я не потешался над ним, и он, радуясь сострадательному слушателю, поверял мне свои бессчетные горести. И самое печальное было то, что чем трагичнее они были по существу, тем больше вам хотелось смеяться.
Из рук вон плохой художник, он необычайно тонко чувствовал искусство, и ходить с ним по картинным галереям было подлинным наслаждением. Способность к неподдельному восторгу сочеталась в нем с критической остротой. Дирк был католик. Он умел не только ценить старых мастеров, но и с живой симпатией относиться к современным художникам. Он быстро открывал новые таланты и великодушно судил о них. Думается, я никогда не встречал человека со столь верным глазом. К тому же он был образован лучше, чем большинство художников, и не был, подобно им, полным невеждой в других искусствах; его музыкальный и литературный вкус сообщал глубину и разнообразие его суждениям о живописи. Для молодого человека, каким я был тогда, советы и объяснения Дирка Струве поистине значили очень много.
Уехав из Рима, я стал переписываться с ним и приблизительно раз в два месяца получал от него длинные письма на своеобразном английском языке, который заставлял меня как бы снова видеть и слышать его – захлебывающегося, восторженного, оживленно жестикулирующего. Незадолго до моего приезда в Париж он женился на англичанке и теперь обосновался в студии на Монмартре. Мы не виделись с ним четыре года, и я не был знаком с его женой.
Глава девятнадцатая
Я не известил Струве о своем приезде, и когда он открыл дверь на мой звонок, то в первое мгновение не узнал меня. Затем издал ликующий вопль и потащил в мастерскую. Право же, приятно, когда тебя так пылко встречают!
Жена его что-то шила, сидя у печки, и поднялась мне навстречу. Дирк представил меня.
– Ты помнишь, – обратился он к ней, – я много рассказывал тебе о нем? – И ко мне: – Почему ты не написал, что приезжаешь? Давно ли ты здесь? Надолго ли? Ах, если бы ты пришел часом раньше, мы бы вместе пообедали.
Он засыпал меня вопросами, усадил в кресло, похлопывал, точно я был подушкой, настойчиво потчевал вином, печеньем, сигарами. Он никак не мог оставить меня в покое, без конца сокрушался, что в доме нет виски, бросился варить для меня кофе, не знал, как бы еще меня приветить, весь светился радостью, хохотал и от избытка чувств отчаянно потел.
– Ты ничуть не переменился, – сказал я, с улыбкой глядя на него.
У Дирка была все та же нелепейшая внешность. Маленький, толстый, с короткими ножками и, несмотря на свою молодость – ему было не больше тридцати лет, – уже изрядно плешивый. Лицо у него было совершенно круглое, отличавшееся яркими красками – белая кожа, румяные щеки и очень красные губы. Он постоянно носил большущие очки в золотой оправе, глаза у него были голубые и тоже круглые, а брови до того светлые, что он казался безбровым. Он напоминал жизнерадостных толстых торговцев, которых любил писать Рубенс.
Когда я сказал, что собираюсь прожить некоторое время в Париже и уже снял квартиру, он осыпал меня упреками за то, что я заранее не дал ему знать об этом. Он сам подыскал бы мне жилье, ссудил бы меня мебелью – неужто я и вправду уже потратился на покупку? – и помог бы мне с переездом. Он вполне серьезно считал недружественным поступком то, что я не воспользовался его услугами. Между тем миссис Струве молча продолжала штопать чулки и со спокойной улыбкой прислушивалась к тому, что он говорил.
– Как видишь, я женат, – внезапно объявил Дирк, – что ты скажешь о моей жене?
Он смотрел на нее бесконечно нежным взглядом и поправлял очки, так как от пота они то и дело соскальзывали на самый кончик носа.
– Ну скажи на милость, что я могу тебе ответить? – рассмеялся я.
– Полно тебе, Дирк, – улыбаясь вставила миссис Струве.
– Разве она не чудо? Говорю тебе, друг мой, не теряй времени, женись, женись как можно скорее. Я счастливейший из смертных. Посмотри на нее. Разве это не готовая картина? Шарден, а? Я видел всех мировых красавиц, но никогда не видел женщины красивее мадам Струве.
– Если ты не угомонишься, Дирк, я уйду.
– Mon petit choux[13], – отвечал он.
Она слегка покраснела, смущенная страстью, слышавшейся в его голосе. Из его писем я уже знал, что он без памяти влюблен в жену, а теперь и сам убедился, что он с нее глаз не сводит. Любила ли она его, об этом я судить затруднялся. Бедняга Панталоне вряд ли мог внушить пламенную любовь, но глаза ее улыбались ласково, и под ее сдержанностью, возможно, скрывалось глубокое чувство. Я не заметил в миссис Струве пленительной красоты, которую видел его взор, опьяненный любовью, но была в ней какая-то тихая прелесть. Отлично сшитое, хотя и скромное, серое платье не скрывало удивительной стройности ее высокой фигуры. Впрочем, эта фигура, должно быть, была привлекательнее для скульптора, чем для портного. Свои пышные каштановые волосы миссис Струве зачесывала с изящной простотой; лицо у нее было бледное, с правильными, хотя и не очень значительными чертами. В ее серых глазах светилось спокойствие. Я не назвал бы ее не только красавицей, но даже хорошенькой, и все-таки Струве не без основания упомянул о Шардене – она странным образом напоминала ту милую хозяюшку в чепце и фартуке, которую обессмертил великий художник. Не было ничего легче, как представить себе ее хлопочущей среди горшков и кастрюль с обстоятельностью, которая сообщает нравственную значимость домоводству, более того, возводит его в ритуал. Впечатления занятной или умной женщины она не производила, но что-то в ее спокойной серьезности возбуждало мой интерес. В ее сдержанности мне мерещилась какая-то таинственность. Странно, что она вышла замуж за Дирка Струве. И хотя она была англичанкой, я никак не мог себе представить, из какого она круга, какое воспитание получила и как жила до замужества. Она почти все время молчала, но голос ее, когда ей случалось вставить несколько слов в разговор, звучал приятно, и манеры у нее были естественные. Я спросил Струве, работает ли он.
– Работаю? Да я пишу лучше, чем когда-либо!
Он повел рукой в сторону неоконченной картины на мольберте.
Я невольно вздрогнул.
Дирк писал кучку итальянских крестьян в одежде жителей Кампании, расположившихся отдохнуть на церковной паперти.
– Ты это сейчас пишешь? – спросил я.
– Да. И модели у меня здесь не хуже, чем в Риме.
– Не правда ли, как красиво? – сказала миссис Струве.
– Моя бедная жена воображает, что я великий художник.
За конфузливым смешком он, довольно неудачно, попытался скрыть свое удовольствие. Глаза его остановились на мольберте. Странное дело, как его критическое чутье, такое безусловное и точное в отношении других художников, удовлетворялось собственной работой, невероятно пошлой и вульгарной.
– Покажи и другие свои картины, – сказала миссис Струве.
– Хочешь посмотреть?
Дирк Струве, столько выстрадавший от насмешек своих собратьев, в жажде похвал и в наивном самодовольстве тут же согласился показать свои работы. Он поставил передо мной картину, на которой два курчавых итальянских мальчика играли в бабки.
– Правда, это прелесть что такое? – спросила миссис Струве.
Он показал мне еще множество картин, и я убедился, что в Париже Дирк писал те же самые избитые, псевдоживописные сюжеты, что и в Риме. Все это было фальшиво, неискренне, дрянно, а между тем свет не знал человека честнее, искреннее, чем Дирк Струве. Как разобраться в таком противоречии?
Не знаю, почему мне вдруг взбрело на ум спросить:
– Скажи, пожалуйста, не встречался ли тебе, случайно, некий Чарлз Стрикленд, художник?
– Неужели ты его знаешь? – вскричал Дирк.
– Это негодяй, – сказала миссис Струве.
Струве рассмеялся.
– Ma pauvre chérie[14]. – Он подбежал и расцеловал ей обе руки. – Она его не выносит. Как это странно, что ты знаешь Стрикленда!
– Я не выношу дурных манер, – сказала его жена.
Дирк, все еще смеясь, обернулся ко мне.
– Я тебе сейчас объясню, в чем дело. Как-то я позвал его посмотреть мои работы. Он пришел, и я вытащил на свет Божий все, что у меня было. – Струве запнулся и с минуту молчал. Не знаю, зачем он начал этот рассказ, который ему было тошно довести до конца. – Он посмотрел на мои работы и ничего не сказал. Я думал, он приберегает свое суждение под конец. Потом я все-таки заметил: «Ну вот и все, больше у меня ничего нет!» А он и говорит: «Я пришел попросить у вас взаймы двадцать франков».
– И Дирк дал! – с негодованием воскликнула миссис Струве.
– Признаться, я опешил. Да и не люблю я отказывать. Он сунул деньги в карман, кивнул мне, сказал «благодарю» и ушел.
Когда Дирк Струве рассказывал эту историю, на его круглом глуповатом лице было написано такое бесконечное удивление, что трудно было удержаться от смеха.
– Скажи он, что мои картины плохи, я бы не обиделся, но он ничего не сказал – ни слова!
– А ты еще рассказываешь об этом, – заметила миссис Струве.
Самое печальное, что мне больше хотелось смеяться над растерянной физиономией Дирка, чем негодовать на то, как Стрикленд обошелся с ним.
– Я надеюсь, что больше никогда его не увижу, – сказала миссис Струве.
Струве рассмеялся и пожал плечами. Обычное благодушие уже вернулось к нему.
– Так или иначе, а он большой художник, очень, очень большой.
– Стрикленд? – воскликнул я. – Тогда это, наверно, не тот.
– Высокий малый с рыжей бородой. Чарлз Стрикленд. Англичанин.
– У него не было бороды, когда я встречался с ним, но если он отрастил бороду, то, надо думать, рыжую. Мой Стрикленд начал заниматься живописью всего пять лет назад.
– Это он. Он великий художник.
– Не может быть!
– Разве я когда-нибудь ошибался? – спросил Дирк. – Говорю тебе, он гений. Я в этом не сомневаюсь. Если через сто лет кто-нибудь вспомнит о нас с тобой, то только потому, что мы знали Чарлза Стрикленда.
Я был поражен и взволнован до предела. Мне внезапно вспомнился мой последний разговор со Стриклендом.
– Где можно посмотреть его работы? Он имеет успех? Где он живет?
– Нет, успеха он не имеет. Думаю, что он не продал еще ни одной картины. О них кому ни скажи – все смеются. Но я-то знаю, что он великий художник. Ведь и над Мане в свое время смеялись. Коро в жизни не продал ни одной из своих работ. Я не знаю адреса Стрикленда, но могу устроить тебе встречу с ним. Каждый вечер в семь часов он бывает в кафе на авеню Клиши. Мы можем завтра сходить туда.
– Я не уверен, что он захочет меня видеть. Я напомню ему то, о чем он старается забыть. Но все равно я пойду. А можно посмотреть его работы?
– У него – нет. Он тебе ничего не покажет. Но я знаю одного торговца, у которого есть две или три картины Стрикленда. Только ты не ходи без меня: ты ничего не поймешь. Я их сам тебе покажу.
– Дирк, ты меня выводишь из терпения! – воскликнула миссис Струве. – Как ты можешь превозносить его картины после того, что было? – Она обернулась ко мне: – Вы знаете, когда какие-то приезжие из Голландии пришли к нам покупать картины, то Дирк стал их уговаривать лучше купить картины Стрикленда! И настоял, чтобы их принесли сюда.
– А что вы думаете об этих полотнах? – с улыбкой спросил я.
– Они ужасны.
– Ах, радость моя, ты ничего не понимаешь.
– А почему же твои голландцы так на тебя разозлились? Они решили, что ты вздумал подшутить над ними.
Дирк Струве снял очки и тщательно протер их. От волнения его лицо сделалось еще краснее.
– Неужели, по-твоему, красота, самое драгоценное, что есть в мире, валяется, как камень на берегу, который может поднять любой прохожий? Красота – это то удивительное и недоступное, что художник в тяжких душевных муках творит из хаоса мироздания. И когда она уже создана, не всякому дано ее узнать. Чтобы постичь красоту, надо вжиться в дерзание художника. Красота – мелодия, которую он поет нам, и для того, чтобы она отозвалась в нашем сердце, нужны знание, восприимчивость и фантазия.
– Почему я всегда считала твои картины прекрасными, Дирк? Они восхитили меня, едва только я увидела их.
У Дирка чуть-чуть задрожали губы.
– Ложись спать, родная моя, а я немножко провожу нашего друга и сейчас же вернусь домой.
Глава двадцатая
Дирк Струве пообещал зайти за мной на следующий день вечером, чтобы отправиться в кафе, где бывал Стрикленд. К вящему моему удивлению, это оказалось то самое кафе, в котором мы пили абсент со Стриклендом, когда я приезжал в Париж для разговора с ним. То, что он по-прежнему бывал здесь, свидетельствовало об известной верности привычке, и это показалось мне характерным.
– Вот он, – сказал Струве, едва только мы вошли в кафе.
Несмотря на октябрь месяц, вечер был теплый, и за столиками, расставленными прямо на мостовой, сидело множество народу. Я впился взглядом в эту толпу, но не нашел Стрикленда.
– Смотри же, вон там в углу, за шахматами.
Я заметил человека, склонившегося над шахматной доской, но различил только широкополую шляпу и рыжую бороду. С трудом пробравшись между столиками, мы подошли к нему.
– Стрикленд!
Он поднял глаза.
– Хэлло, толстяк! Что надо?
– Я привел старого друга, он хочет повидать вас.
Стрикленд посмотрел мне в лицо, но, видимо, не узнал меня и снова стал обдумывать ход.
– Садитесь и не шумите, – буркнул он.
Он передвинул пешку и тотчас же весь погрузился в игру. Бедняга Струве бросил на меня огорченный взгляд, но я не позволил таким пустякам смутить себя. Я велел подать вина и стал спокойно дожидаться, пока Стрикленд кончит. Я был рад случаю исподволь понаблюдать за ним. Нет, это не тот человек, которого я знал. Прежде всего, косматая и нечесаная рыжая борода закрывала большую часть лица, и волосы на голове тоже были длинные; но более всего непохожим на прежнего Стрикленда его делала страшная худоба. Большой нос еще резче выдался вперед, щеки ввалились, глаза стали огромными. Запавшие виски казались ямами. Тело напоминало скелет. Сюртук, тот же, что и пять лет назад, рваный, в пятнах, донельзя изношенный, болтался на нем, как с чужого плеча. Я долго смотрел на его руки с отросшими грязными ногтями; кожа да кости, но большие и сильные, а я ведь совсем забыл, что они так красивы! Я смотрел на него, погруженного в игру, и думал о том, какая сила исходит от этого изголодавшегося человека. Я только не мог понять, почему теперь она больше бросалась в глаза.
Сделав ход, Стрикленд откинулся на стуле и вперил в пространство рассеянный взгляд. Противник – дородный бородатый француз – долго обдумывал положение, затем вдруг разразился беззлобной бранью, смахнул фигуры с доски и швырнул их обратно в коробку. Изругав Стрикленда и, видимо, облегчив свою душу, он позвал официанта, заплатил за абсент и ушел. Струве придвинул свой стул поближе к столику.
– Ну, теперь мы можем и поговорить, – сказал он.
Глаза Стрикленда были устремлены на него с каким-то злорадством. Я ясно чувствовал, что он ищет повода поиздеваться, ничего не находит и потому угрюмо молчит.
– Я привел старого друга повидаться с вами, – с сияющим лицом повторил Струве.
Стрикленд, наверно, с минуту задумчиво смотрел на меня. Я молчал.
– В жизни его не видел, – объявил он наконец.
Не знаю, зачем он это сказал, от меня все равно не укрылся огонек в его глазах – он, несомненно, узнал меня. Но теперь я не так легко конфузился, как несколько лет назад.
– Я на днях говорил с вашей женой и уверен, что вам будет интересно узнать о ней столь свежие новости.
В ответ послышался короткий смешок. Глаза Стрикленда блеснули.
– Мы тогда славно провели вечер, – сказал он. – Сколько лет назад это было?
– Пять.
Он спросил еще абсенту. Струве начал многословно объяснять, как мы с ним встретились и как в разговоре случайно выяснилось, что мы оба знаем Стрикленда. Не знаю, слушал ли его Стрикленд. Раза два он задумчиво взглянул на меня, но большей частью был погружен в собственные мысли, и, конечно, без болтовни Струве мне было бы нелегко поддерживать разговор. Минут через двадцать голландец поглядел на часы и объявил, что ему пора. Он спросил, пойду ли я с ним. Мне подумалось, что наедине я кое-что вытяну из Стрикленда, и я решил остаться.
После ухода толстяка я сказал:
– Дирк Струве считает вас великим художником.
– А почему, черт возьми, это должно интересовать меня?
– Вы позволите мне посмотреть ваши картины?
– Это еще зачем?
– Возможно, что мне захочется приобрести одну из них.
– Возможно, что мне не захочется ее продать.
– Надо думать, вы хорошо зарабатываете живописью? – с улыбкой спросил я.
Он фыркнул.
– Вы это заметили по моему виду?
– У вас вид вконец изголодавшегося человека.
– Так оно и есть.
– Тогда пойдемте обедать.
– Почему вы мне это предлагаете?
– Во всяком случае, не из жалости, – холодно отвечал я. – Ей-богу, мне наплевать, умрете вы с голоду или не умрете.
Глаза его снова зажглись.
– В таком случае пошли. – Он поднялся с места. – Неплохая штука – хороший обед.
Глава двадцать первая
Предоставив ему выбор ресторана, я по дороге купил газету. Когда мы заказали обед, я развернул ее, прислонил к бутылке «Сен-Гальмье» и углубился в чтение. Ели мы молча. Время от времени я чувствовал на себе взгляд Стрикленда, но сам не поднимал глаз. Мне хотелось во что бы то ни стало вызвать его на разговор.
– Есть что-нибудь интересное в газете? – спросил он под самый конец нашего молчаливого обеда.
В его тоне мне послышалось легкое раздражение.
– Я люблю читать фельетоны о театре, – отвечал я, складывая газету.
– Я с удовольствием пообедал, – заметил он.
– А не выпить ли нам здесь же кофе?
– Можно.
Мы взяли по сигаре. Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал.
– Что вы делали все эти годы? – спросил он наконец.
Что мог я рассказать о себе? Это была бы летопись тяжелого труда и малых дерзаний; попыток то в одном, то в другом направлении; постепенного познания книг и людей. Я, со своей стороны, остерегался расспрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но, начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки – слушать, как скупыми намеками говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрестанной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но понял я и то, что многое предельно страшное для большинства людей его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличало от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но что есть, ему было безразлично; пища была для него только средством заглушить сосущее чувство голода, а когда ее не находилось, ну что ж, он голодал. Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувственный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность. Нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа.
Когда подошла к концу скромная сумма, которую Стрикленд привез из Лондона, он не впал в отчаяние. Картины его не продавались, да он, по-моему, особенно и не старался продать их и предпочел пуститься на поиски какого-нибудь заработка. С мрачным юмором рассказывал он о временах, когда ему в качестве гида приходилось знакомить любопытных лондонцев с ночной жизнью Парижа; это занятие более или менее соответствовало его сардоническому нраву, и он каким-то образом умудрился досконально изучить самые «пропащие» кварталы Парижа. Много часов подряд шагал он по бульвару Мадлен, выискивая англичан, желательно подвыпивших и охочих до запрещенных законом зрелищ. Иной раз Стрикленду удавалось заработать кругленькую сумму, но под конец он так обносился, что его лохмотья отпугивали туристов и мало у кого хватало мужества довериться гиду-оборванцу. Затем ему снова посчастливилось, он достал работу – переводил рекламы патентованных лекарств, которые посылались в Англию, а однажды, во время забастовки, работал маляром.
Однако он не забросил своего искусства, только перестал посещать студии и работал в одиночку. Деньги на холст и краски у него всегда находились, а больше ему ничего не было нужно. Насколько я понял, работал он очень трудно и, не желая ни от кого принимать помощи, тратил уйму времени на разрешение технических проблем, разработанных еще предшествующими поколениями. Он стремился к чему-то, к чему именно, я не знал, да навряд ли знал и он сам, и я опять еще яснее почувствовал, что передо мною одержимый. Право же, он производил впечатление человека не совсем нормального. Мне даже почудилось, что он не хочет показать мне свои картины, потому что они ему самому не интересны. Он жил в мечте, и реальность для него цены не имела. Должно быть, работая во всю свою могучую силу, он забывал обо всем на свете, кроме стремления воссоздать то, что стояло перед его внутренним взором, а затем, покончив даже не с картиной (мне почему-то казалось, что он редко завершал работу), но со сжигавшей его страстью, утрачивал к ней всякий интерес. Никогда не был он удовлетворен тем, что сделал; вышедшее из-под его кисти всегда казалось ему бледным и незначительным в сравнении с тем, что денно и нощно виделось его духовному взору.
– Почему вы не выставляете своих картин? – спросил я. – Неужто вам не хочется узнать, что думают о них люди?
– Я не любопытен.
Неописуемое презрение вложил он в эти слова.
– Разве вы не мечтаете о славе? Вряд ли хоть один художник остался к ней равнодушен.
– Ребячество! Как можно заботиться о мнении толпы, если в грош не ставишь мнение одного человека.
Я рассмеялся:
– Не все способны так рассуждать!
– Кто делает славу? Критики, писатели, биржевые маклеры, женщины.
– А должно быть, приятно сознавать, что люди, которых ты и в глаза не видел, волнуются и трепещут, глядя на создание твоих рук! Власть – кто ее не любит? А есть ли власть прельстительнее той, что заставляет сердца людей биться в страхе или сострадании?
– Мелодрама.
– Но ведь и вам не все равно, пишете вы хорошо или плохо?
– Все равно. Мне важно только писать то, что я вижу.
– А я, например, сомневаюсь, мог ли бы я работать на необитаемом острове в уверенности, что никто, кроме меня, не увидит того, что я сделал.
Стрикленд долго молчал, но в глазах его светился странный огонек, словно они видели нечто, преисполнявшее восторгом его душу.
– Я иногда вижу остров, затерянный в бескрайнем морском просторе; там бы я мог мирно жить в укромной долине, среди неведомых мне деревьев. И там, мне думается, я бы нашел все, что ищу.
Он говорил не совсем так. Прилагательные подменял жестами и запинался. Я своими словами передал то, что он, как мне казалось, хотел выразить.
– Оглядываясь на эти последние годы, вы полагаете, что игра стоила свеч?
Он взглянул на меня, не понимая, что я имею в виду. Я пояснил:
– Вы оставили уютный дом и жизнь такую, какую принято считать счастливой. Вы были состоятельным человеком, а здесь, в Париже, вам пришлось очень круто. Если бы жизнь можно было повернуть вспять, сделали бы вы то же самое?
– Конечно.
– А знаете, что вы даже не спросили меня о своей жене и детях? Неужели вы никогда о них не думаете?
– Нет.
– Честное слово, я бы предпочел, чтобы вы отвечали мне не так односложно. Но иногда-то ведь вы чувствуете угрызения совести за горе, которое причинили им?
Стрикленд широко улыбнулся и покачал головой.
– Мне кажется, что временами вы все же должны вспоминать о прошлом. Не о том, что было семь или восемь лет назад, а о далеком прошлом, когда вы впервые встретились с вашей женой, полюбили ее, женились. Неужто вы не вспоминаете радость, с которой вы впервые заключили ее в объятия?
– Я не думаю о прошлом. Значение имеет только вечное сегодня.
С минуту я раздумывал. Ответ был темен, и все же мне показалось, что я смутно прозреваю его смысл.
– Вы счастливы? – спросил я.
– Да.
Я молчал и задумчиво смотрел на него. Он выдержал мой взгляд, но потом сардонический огонек зажегся у него в глазах.
– Плохо мое дело, вы, кажется, осуждаете меня?
– Ерунда, – отрезал я, – нельзя осуждать боа констриктора; напротив, его психика, несомненно, возбуждает интерес.
– Значит, вы интересуетесь мною чисто профессионально?
– Да, чисто профессионально.
– Что ж, вам и нельзя меня осуждать. Сами не бог весть что!
– Может быть, потому-то вы и чувствуете себя со мною непринужденно, – отпарировал я.
Он сухо улыбнулся, но ничего не сказал. Жаль, что я не умею описать его улыбку. Ее нельзя было назвать приятной, но она озарила его лицо, придала ему иное выражение, не хмурое, как обычно, а лукаво-злорадное. Это была неторопливая улыбка, начинавшаяся, а может быть, и кончавшаяся в уголках глаз; очень чувственная, не жестокая, но и не добрая, а какая-то нечеловеческая, словно то ухмылялся сатир. Эта улыбка и заставила меня спросить:
– И вы ни разу не были влюблены здесь, в Париже?
– У меня не было времени на такую чепуху. Жизнь – короткая штука, и на искусство и на любовь ее не хватит.
– Вы не похожи на анахорета.
– Все это мне противно.
– Плохо придуман человек.
– Почему вы смеетесь надо мной?
– Потому что я вам не верю.
– В таком случае вы осел.
Я молчал, испытующе глядя на него.
– Какой вам смысл меня дурачить? – сказал я наконец.
– Не понимаю.
Я улыбнулся.
– Сейчас объясню. Вот вы месяцами ни о чем таком не думаете и убеждаете себя, что с этим покончено раз и навсегда. Вы наслаждаетесь свободой и уверены, что теперь ваша душа принадлежит только вам. Вам кажется, что головой вы касаетесь звезд. А затем вы вдруг чувствуете, что больше вам не выдержать такой жизни, и замечаете, что ноги ваши все время топтались в грязи. И вас уже тянет вываляться в ней. Вы встречаете женщину вульгарную, низкопробную, полуживотное, в которой воплощен весь ужас пола, и бросаетесь на нее, как дикий зверь. Вы упиваетесь ею, покуда ярость не ослепит вас.
Он смотрел на меня, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Я не опускал глаз под его взглядом и говорил очень медленно.
– И вот еще что: как это ни странно, но когда все пройдет, вы вдруг чувствуете себя необычайно чистым, имматериальным. Вы как бестелесный дух, и кажется, вот-вот коснетесь красоты, словно красота осязаема. Вам чудится, что вы слились с ветерком, с деревьями, на которых набухли почки, с радужными водами реки. Вы как бог. А можете вы объяснить – почему?
Он не сводил с меня глаз, покуда я не кончил, и тогда отвернулся. Странное выражение застыло на его лице. «Такое лицо, – подумалось мне, – должно быть у человека, умершего под пытками». Стрикленд молчал. Я понял, что наша беседа окончена.
Глава двадцать вторая
Обосновавшись в Париже, я начал писать пьесу. Жизнь я вел очень размеренную, по утрам работал, а днем бродил в Люксембургском саду или же шатался по улицам. Долгие часы я проводил в Лувре, приветливейшей из всех галерей на свете и всегда влекущей к раздумью, или же торчал у букинистов на набережных, перелистывая старые книги, которые не думал покупать. Я прочитывал страничку то тут, то там, затем шел дальше и таким образом просмотрел множество книг, с которыми мне и не хотелось знакомиться подробнее. По вечерам я навещал друзей. Частенько заходил к Струве и, случалось, делил с ними их скромный ужин. Дирк Струве похвалялся своим искусством приготовлять итальянские блюда, и надо сознаться, что его спагетти значительно превосходили его картины. Поистине то было королевское пиршество, когда в огромной миске он вносил макароны, щедро пропитанные томатом, и мы ели их с чудесным домашним хлебом, запивая красным вином. Я ближе узнал Бланш Струве, и, может быть, потому, что я англичанин, а она редко встречалась со своими соотечественниками, ее, видимо, всегда радовал мой приход. Она была приветлива, проста в обращении, хотя по большей части молчалива, и, не знаю почему, мне казалось, что на сердце у нее какая-то тайна. Впрочем, может быть, это была всего лишь врожденная сдержанность, подчеркнутая болтливой откровенностью мужа. Дирк ни о чем не умел молчать. Самые интимные вопросы он обсуждал без малейшего стеснения. Жена его конфузилась, но только раз я заметил, что она вышла из себя, когда он пожелал во что бы то ни стало сообщить мне, что принял слабительное, и пустился в длинный и весьма натуралистический рассказ. Абсолютная серьезность, с которой он повествовал о своей беде, заставила меня покатываться со смеху, а миссис Струве окончательно смешалась.
– Не понимаю, что за охота строить из себя дурачка! – воскликнула она.
Когда он увидел, что она сердится, его круглые глаза стали еще круглее, а брови взметнулись.
– Душенька моя, ты недовольна? Никогда больше не стану принимать слабительного. Это из-за разлития желчи. Сидячий образ жизни. Надо больше двигаться. Подумать только, что три дня у меня не было…
– Бога ради, придержи свой язык, – перебила она мужа со слезами досады на глазах.
Лицо его вытянулось, губы надулись, как у наказанного ребенка. Он бросил на меня умоляющий взгляд, взывая о помощи, но я, не в силах совладать с собой, корчился от смеха.
Однажды мы зашли к торговцу картинами, в лавке которого, по словам Струве, находились две или три вещи Стрикленда, но хозяин сообщил нам, что Стрикленд на днях забрал их. Почему – неизвестно.
– По правде сказать, я не очень-то огорчаюсь. Я взял их только из уважения к мосье Струве и, конечно, пообещал продать, если удастся, хотя, ей-богу… – он пожал плечами, – я, конечно, стараюсь поддерживать молодых художников, но тут, voyons[15], мосье Струве, вы сами знаете, таланта ни на грош.
– Даю вам честное слово, нет в наши дни более даровитого художника. Помяните мое слово, вы упускаете выгодное дело. Придет время, когда эти картины будут стоить дороже всех, что имеются у вас в лавке. Вспомните Моне, которому не удавалось сбыть свои вещи за сотню франков. А сколько они стоят теперь?
– Правильно. Но десятки художников не хуже Моне не могут сбыть свои картины, которые и теперь ничего не стоят. Что тут можно знать? Разве успех дается по заслугам? Вздор. Du reste[16] надо еще доказать, что этот ваш приятель достоин успеха. Кроме вас, мосье Струве, никто этого не считает.
– А как вы в таком случае определяете, кто его достоин? – спросил Дирк, красный от гнева.
– Только одним способом – по успеху.
– Филистер! – крикнул Дирк.
– А вы вспомните великих художников прошлого: Рафаэля, Микеланджело, Энгра, Делакруа – все они имели успех.
– Пойдем, – оборотился ко мне Струве, – или я убью этого человека.
Глава двадцать третья
Я встречал Стрикленда довольно часто и время от времени даже играл с ним в шахматы. Он был человек очень неровного характера. То молча сидел в углу, рассеянный и никого не замечающий, то вдруг, придя в хорошее расположение духа, начинал говорить, как всегда отрывисто и косноязычно. Я ни разу не слышал от него ничего особенно умного, но его жестокий сарказм порою был занимателен; и говорил Стрикленд только то, что думал. Ему ничего не стоило больно уязвить человека, и когда на него обижались, он только веселился. Дирку Струве, например, он наносил обиды столь горькие, что тот убегал, клянясь никогда больше не встречаться с ним. Но могучая натура Стрикленда неодолимо влекла к себе толстяка голландца, и он возвращался, виляя хвостом, точно провинившийся пес, хотя отлично знал, что его снова встретят пинком, которого он так боялся.
Не знаю почему, Стрикленд охотно водился со мной. Отношения у нас сложились своеобразные. Однажды он попросил меня дать ему взаймы пятьдесят франков.
– И не подумаю, – отвечал я.
– Почему?
– А с какой радости я стану ссужать вас деньгами?
– Мне сейчас очень туго приходится.
– Не интересуюсь.
– Не интересуетесь, если я сдохну с голоду?
– Мне-то что до этого? – в свою очередь, спросил я.
Минуту-другую он смотрел на меня, теребя свою косматую бороду. Я улыбался.
– Что вас смешит, хотел бы я знать? – Глаза его гневно блеснули.
– Неужели вы так наивны? Вы ведь никаких обязательств не признаете, следовательно, и вам никто ничем не обязан.
– А каково вам будет, если я сейчас пойду и повешусь, потому что мне нечем заплатить за комнату и меня выгоняют на улицу?
– Мне наплевать, что с вами будет.
Он фыркнул.
– Хвастовство! Сделай я это, и вас совесть загрызет.
– Попробуйте, тогда увидим, – отвечал я.
Улыбка промелькнула у него в глазах, и он молча допил свой абсент.
– Не сыграть ли нам в шахматы? – предложил я.
– Пожалуй.
Когда мы расставили фигуры, он с довольным видом оглядел доску. Отрадно видеть, что твои солдаты готовы к бою.
– Вы вправду вообразили, что я дам вам денег? – спросил я.
– А почему бы вам и не дать?
– Вы меня удивляете и разочаровываете.
– Чем?
– Оказывается, в глубине души вы сентиментальны. Я бы предпочел, чтобы вы не взывали так наивно к моим чувствам.
– Я презирал бы вас, если бы вы растрогались, – отвечал он.
– Так-то оно лучше, – рассмеялся я.
Мы сделали первые ходы и оба углубились в игру. А когда кончили, я сказал:
– Вот что я вам предлагаю: если у вас дела так плохи, покажите мне ваши картины. Возможно, какая-нибудь из них мне понравится, и я ее куплю.
– Идите к черту, – отрезал он.
Он встал и уже шагнул было к двери. Я его остановил ехидным замечанием:
– Вы забыли заплатить за абсент!
Он обругал меня, швырнул на стол монету и ушел.
После этого я несколько дней его не видел. Но однажды вечером, когда я сидел в кафе и читал газету, он вошел и уселся рядом со мной.
– Как видно, вы все же не повесились, – заметил я.
– Нет, я получил заказ. За двести франков пишу портрет старого жестянщика[17].
– Как это вам удалось?
– Меня рекомендовала булочница, у которой я покупаю хлеб. Он ей сказал, что ищет, кто бы мог написать его портрет. Пришлось дать ей двадцать франков за комиссию.
– А каков он собой?
– Великолепен. Красная рожа, жирная, как баранья нога, и на правой щеке громадная волосатая бородавка.
Стрикленд был в отличном расположении духа и, когда к нам подсел Дирк Струве, со свирепым добродушием обрушился на беднягу. С ловкостью, которой я даже не предполагал в нем, он отыскивал наиболее уязвимые места злополучного голландца. На сей раз Стрикленд донимал его не рапирой сарказма, но дубиной брани. Это была атака настолько неспровоцированная, что Струве, застигнутый врасплох, оказался совершенно беззащитным и походил на вспугнутую овцу, бессмысленно тыкающуюся из стороны в сторону. Он был так поражен и озадачен, что в конце концов слезы потекли у него из глаз. Но самое печальное, что любой свидетель этой безобразной сцены, при всей ненависти к Стрикленду, не мог бы удержаться от смеха. Дирк Струве принадлежал к тем несчастным, чьи самые глубокие чувства поневоле смешат вас.
И все же приятнейшее мое воспоминание о той парижской зиме – Дирк Струве. Его скромный домашний очаг был проникнут очарованием. Вид этой уютной четы радовал душу, а наивная любовь Дирка к жене так и светилась заботливой нежностью. Бестолковая искренность его страсти невольно вызывала симпатию. Я понимал, какие чувства она должна была питать к нему, и радовался, видя ее теплую привязанность. Если у нее есть чувство юмора, думал я, она забавляется его преклонением, тем, что он вознес ее так высоко, но ведь, и смеясь, она не может не быть польщена и растрогана. Дирк – однолюб, и даже когда она постареет, утратит приятную округлость линий и миловидность, для него она все равно будет самой молодой и прекрасной на свете. Образ жизни этой четы отличался успокоительной размеренностью. Кроме мастерской, в их квартире была только спальня и крохотная кухонька. Миссис Струве собственноручно делала всю домашнюю работу; покуда Дирк писал плохие картины, она ходила на рынок, стряпала, шила – словом, хлопотала, как муравей, а вечером, снова с шитьем в руках, сидела в мастерской и слушала, как Дирк играет на рояле, хотя он любил серьезную музыку, вероятно, недоступную ее пониманию. Он играл со вкусом, но вкладывал в игру слишком много чувства, в игре звучала вся его честная, сентиментальная, любвеобильная душа.
Их жизнь была своего рода идиллией. Комичность, печать которой ложилась решительно на все вокруг Дирка Струве, вносила в нее своеобразную нотку, некий диссонанс, делавший ее, однако, более современной и человечной; подобно грубой шутке, вкрапленной в серьезную сцену, она только еще горше делала горечь, неизбежно заложенную в красоте.
Глава двадцать четвертая
Незадолго до Рождества Дирк Струве пришел просить меня встретить праздник вместе с ними. Сочельник неизменно вызывал в нем прилив сентиментальности, и он жаждал провести его среди друзей и со всеми подобающими церемониями. Оба мы не видели Стрикленда уже около месяца: я – потому, что занимался друзьями, приехавшими на некоторое время в Париж, Струве – потому, что разобиделся сильнее, чем обычно, и дал себе наконец слово никогда больше не искать его общества. Стрикленд – ужасный человек, и он отныне знать его не желает. Однако наступающие праздники вновь преисполнили его добрых чувств, и он содрогнулся при мысли, что Стрикленд проведет Рождество в полном одиночестве. Приписывая ему свои чувства, он не мог вынести, чтобы в день, когда друзья собираются за праздничным столом, бедняга пребывал наедине со своими мрачными мыслями. Дирк устроил елку в своей мастерской, и я подозревал, что самые неподходящие подарки для каждого из нас уже висят на ее разукрашенных ветвях. В глубине души он все-таки боялся встречи со Стриклендом, сознавая, что унизительно так легко прощать жестокую обиду, и потому непременно хотел, чтобы я был свидетелем сцены примирения.
Мы вместе отправились на авеню Клиши, но Стрикленда в кафе не оказалось. Сидеть на улице было холодно, и мы облюбовали себе кожаный диван в зале, не устрашившись духоты и воздуха, сизого от сигарного дыма. Стрикленд не появлялся, но вскоре мы заметили художника-француза, с которым он иногда играл в шахматы. Я его окликнул, и он подсел к нашему столику. Струве спросил, давно ли он видел Стрикленда.
– Стрикленд болен, – отвечал художник, – разве вы не знали?
– И серьезно?
– Очень, насколько мне известно.
Струве побелел.
– Почему он мне не написал? Какой я дурак, что поссорился с ним. Надо сейчас же к нему пойти. За ним, вероятно, и присмотреть некому. Где он живет?
– Понятия не имею, – отвечал француз.
Оказалось, что никто из нас не знает, как найти Стрикленда. Дирк был в отчаянии.
– Он может умереть, и ни одна живая душа об этом не узнает! Ужас! Даже подумать страшно! Мы обязаны немедленно разыскать его.
Я пытался втолковать Струве, что наугад гоняться за человеком по Парижу – бессмыслица. Сначала надо составить план действий.
– Отлично! А он, может быть, лежит при смерти, и, когда мы его разыщем, будет уже поздно.
– Да замолчи ты, дай подумать! – прикрикнул я на него.
Мне был известен только один адрес – «Отель де Бельж», но Стрикленд давно оттуда выехал и вряд ли там даже помнят его. А если еще принять во внимание его навязчивую идею скрывать свое местожительство, то не остается уже почти никакой надежды, что он сообщил портье свой адрес. Вдобавок это было пять с лишком лет назад. Но наверняка он жил где-то поблизости, раз продолжал ходить в то же кафе, что и в бытность свою постояльцем «Отель де Бельж».
И вдруг я вспомнил, что заказ на портрет достался ему через булочницу, у которой он покупал хлеб. Вот у кого узнаем мы, возможно, где он живет. Я спросил адресную книгу и стал выискивать булочные. Неподалеку отсюда их было пять, нам оставалось только все их обойти. Струве неохотно последовал за мной. У него был свой собственный план – заходить во все дома по улицам, расходящимся от авеню Клиши, и спрашивать, не здесь ли проживает Стрикленд. Моя несложная схема вполне себя оправдала, ибо уже во второй булочной женщина за прилавком сказала, что знает Стрикленда. Она только не была уверена, в каком из трех домов напротив он живет. Но удача нам сопутствовала, и первая же спрошенная нами консьержка сообщила, что комната Стрикленда находится на самом верху.
– Он, кажется, нездоров, – начал Дирк.
– Все может быть, – равнодушно отвечала консьержка. – En effet[18] я уже несколько дней его не видела.
Струве помчался по лестнице впереди меня, а когда и я наконец взобрался наверх, он уже разговаривал с каким-то рабочим в одной жилетке, открывшим на его стук. Рабочий велел нам стучать в соседнюю дверь. Тамошний жилец и вправду, кажется, художник. Но он не попадался ему на глаза уже целую неделю. Струве согнул было палец, чтобы постучать, но вдруг с отчаянным лицом обернулся ко мне.
– А что, если он умер?
– Кто-кто, а Стрикленд жив!
Я постучал. Ответа не было. Я нажал ручку, дверь оказалась незапертой, и мы вошли – я впереди, Струве за мной. В комнате было темно. Я с трудом разглядел, что это мансарда под стеклянной крышей; слабый свет с потолка лишь чуть-чуть рассеивал темноту.
– Стрикленд! – позвал я.
Ответа не было. Это уже и мне показалось странным, а Струве, стоявший позади меня, дрожал как в лихорадке. Я не решался зажечь свет. В углу я смутно различил кровать, и мне стало жутко: а вдруг при свете мы увидим на ней мертвое тело?
– Что, у вас спичек, что ли, нет, дурачье?
Я вздрогнул, услышав из темноты жесткий голос Стрикленда.
– Господи Боже ты мой! – закричал Струве. – Я уж думал, вы умерли!
Я зажег спичку и, оглянувшись в поисках свечи, успел увидеть тесное помещение, одновременно служившее жильем и мастерской. Тут только и было что кровать, холсты на подрамниках, повернутые лицом к стене, мольберт, стол и стул. Ни ковра на полу, ни камина. На столе, заваленном красками, шпателями и всевозможным мусором, нашелся огарок свечи. Я зажег его. Стрикленд лежал в неудобной позе, потому что кровать была коротка для него, навалив на себя всю имевшуюся у него одежду. С первого взгляда было ясно, что у него жестокий жар. Струве бросился к нему и срывающимся от волнения голосом забормотал:
– О бедный мой друг, что же это с вами? Я понятия не имел, что вы больны. Почему вы меня не известили? Вы же знаете, я все на свете сделал бы для вас. Не думайте о том, что я вам сказал тогда. Я был не прав. Глупо, что я обиделся…
– Убирайтесь к черту, – проговорил Стрикленд.
– Будьте же благоразумны. Позвольте мне устроить вас поудобнее. Неужели здесь никого нет, кто бы присмотрел за вами?
Он в полном смятении оглядел убогий чердак. Поправил одеяло и подушку. Стрикленд тяжело дышал и хранил злобное молчание. Потом сердито взглянул на меня. Я спокойно стоял и, в свою очередь, смотрел на него.
– Если хотите что-нибудь для меня сделать, принесите молока, – сказал он наконец. – Я два дня не выхожу из комнаты.
Возле кровати стояла пустая бутылка из-под молока, в кусок газеты были завернуты огрызки хлеба.
– Что вы ели это время? – спросил я.
– Ничего.
– С каких пор? – закричал Струве. – Неужели вы два дня провели без еды и питья? Это ужасно!
– Я пил воду.
Глаза его остановились на большой кружке, до которой можно было дотянуться с кровати.
– Сейчас я сбегаю за едой, – суетился Струве, – скажите, чего бы вам хотелось?
Я вмешался, сказав, что надо купить градусник, немного винограду и хлеба. Струве, радуясь, что может быть полезен, кубарем скатился по лестнице.
– Чертов дуралей! – пробормотал Стрикленд.
Я пощупал его пульс. Он бился часто и чуть слышно. На мои вопросы Стрикленд ничего не ответил, а когда я настойчиво повторил их, со злостью отвернулся к стене. Мне оставалось только молча ждать. Минут через десять возвратился запыхавшийся Струве. Помимо всего прочего, он принес свечи, бульон, спиртовку и, как расторопный хозяин, тотчас же принялся кипятить молоко. Я измерил Стрикленду температуру. Градусник показал сорок и три десятых. Он был серьезно болен.
Глава двадцать пятая
Вскоре мы его оставили. Дирку надо было домой обедать, а я сказал, что приведу к Стрикленду врача. Но едва мы оказались на улице, где дышалось особенно легко после спертого чердачного воздуха, как голландец стал умолять меня немедленно пойти вместе с ним в его мастерскую. У него есть одна идея, какая – он мне сейчас не скажет, но я непременно, непременно должен сопровождать его. Я не думал, чтобы врач в данный момент мог сделать больше, чем сделали мы, и поэтому согласился. Когда мы вошли, Бланш Струве накрывала на стол. Дирк прямо направился к ней и взял ее руки в свои.
– Милочка моя, я хочу кое о чем попросить тебя, – сказал он.
Она посмотрела на него тем серьезным и ясным взглядом, который был едва ли не главной ее прелестью. Красная физиономия Струве лоснилась от пота, вид у него был до смешного перебудораженный, но в его круглых, всегда удивленных глазах светилась решимость.
– Стрикленд очень болен. Возможно, при смерти. Он живет совсем один на грязном чердаке, где некому даже присмотреть за ним. Позволь мне перевезти его к нам.
Она быстро вырвала руки из его рук, я никогда еще не видел у нее такого стремительного движения; бледное лицо ее вспыхнуло.
– Ах нет!
– Дорогая моя, не отказывай мне. Я не в силах оставить его там одного. Я глаз не сомкну, думая о нем.
– Пожалуйста, иди и ухаживай за ним, я ничего не имею против.
Голос ее звучал холодно и высокомерно.
– Но он умрет.
– Пусть.
Струве даже рот раскрыл, потом вытер пот с лица и обернулся ко мне, ища поддержки, но я не знал, что сказать.
– Он великий художник.
– Какое мне дело? Я его ненавижу.
– Дорогая, любимая моя, не говори так. Заклинаю тебя, позволь мне привезти его. Мы его устроим здесь, может быть, спасем ему жизнь. Он тебя не обременит. Я все буду делать сам. Я постелю ему в мастерской. Нельзя же, чтобы он подыхал как собака. Это бесчеловечно.
– Почему его нельзя отправить в больницу?
– В больницу? Он нуждается в любовном, заботливом уходе.
Меня удивило, что Бланш так взволновалась. Она продолжала накрывать на стол, но руки у нее дрожали.
– Не выводи меня из терпения! Заболей ты, Стрикленд бы пальцем не пошевельнул для тебя.
– Ну и что с того? За мной ходила бы ты. Его помощь мне бы не понадобилась. А кроме того, я – дело другое, много ли я значу?
– Ты как неразумный щенок. Валяешься на земле и позволяешь людям топтать себя.
Струве хихикнул. Ему показалось, что он понял причину ее гнева.
– Деточка моя, ты все вспоминаешь, как он пришел сюда смотреть мои картины. Что за беда, если ему они показались скверными? С моей стороны было глупо показывать их. А кроме того, они ведь и вправду не очень-то хороши.
Он унылым взором окинул мастерскую. Незаконченная картина на мольберте изображала улыбающегося итальянского крестьянина; он держал гроздь винограда над головой темноглазой девушки.
– Даже если они ему не понравились, он обязан был соблюсти вежливость. Зачем он оскорбил тебя? Чтобы показать, что он тебя презирает? А ты готов ему руки лизать. О, я ненавижу его!
– Деточка моя, ведь он гений. Не думаешь же ты, что я себя считаю гениальным художником. Конечно, я бы хотел им быть. Но гения я вижу сразу и всем своим существом преклоняюсь перед ним. Удивительнее ничего нет на свете… Но это тяжкое бремя для того, кто им осенен. К гениальному человеку надо относиться терпимо и бережно.
Я стоял в сторонке, несколько смущенный этой семейной сценой, и удивлялся, почему Струве так настаивал на моем приходе. У его жены глаза уже были полны слез.
– Пойми, я умоляю тебя принять его не только потому, что он гений, но еще и потому, что он человек, больной и бедный человек!
– Я никогда не впущу его в свой дом! Никогда!
Струве обернулся ко мне.
– Объясни хоть ты ей, что речь идет о жизни и смерти. Нельзя же оставить его в этой проклятой дыре.
– Конечно, ухаживать за больным было бы проще здесь, – сказал я, – но, с другой стороны, это очень стеснит вас. Его ведь нельзя будет оставить одного ни днем, ни ночью.
– Любовь моя, не может быть, чтобы ты страшилась заботы и отказала в помощи больному человеку.
– Если он будет здесь, то уйду я! – вне себя воскликнула миссис Струве.
– Я тебя не узнаю. Ты всегда добра и великодушна.
– Ради Бога, оставь меня в покое. Ты меня с ума сведешь!
Слезы наконец хлынули из ее глаз. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Плечи ее судорожно вздрагивали. Дирк в мгновение ока очутился у ее ног. Он обнимал ее, целовал ей руки, называл нежными именами, и слезы умиления катились по его щекам. Она высвободилась из его объятий и вытерла глаза.
– Пусти меня, – сказала миссис Струве уже мягче и, силясь улыбнуться, обратилась ко мне: – Что вы теперь обо мне думаете?
Струве хотел что-то сказать, но не решался и смотрел на нее отчаянным взглядом. Лоб его сморщился, красные губы оттопырились. Он почему-то напомнил мне испуганную морскую свинку.
– Значит, все-таки «нет», родная?
Она уже изнемогла и лишь устало махнула рукой.
– Мастерская твоя. Все здесь твое. Если ты хочешь привезти его сюда, как я могу этому препятствовать?
Улыбка внезапно озарила его круглое лицо.
– Ты согласна? Я так и знал! Родная моя!
Она вдруг овладела собой и бросила на него взгляд, полный муки. Потом прижала обе руки к сердцу, словно стараясь утишить его биение.
– О Дирк, за всю мою жизнь я никогда ни о чем не просила тебя.
– Ты же знаешь, нет ничего на свете, чего бы я для тебя не сделал.
– Умоляю тебя, не приводи сюда Стрикленда. Кого хочешь, только не его. Приведи вора, пропойцу, первого попавшегося бродягу с улицы, и я обещаю тебе с радостью ходить за ним. Только не Стрикленда, заклинаю тебя, Дирк.
– Но почему?
– Я боюсь его. Он приводит меня в ужас. Он причинит нам страшное зло. Я это знаю. Чувствую. Если ты приведешь его, это добром не кончится.
– Что за безумие!
– Нет-нет! Я знаю, что говорю. Что-то ужасное случится с нами.
– Из-за того, что мы сделаем доброе дело?
Она прерывисто дышала, ужас исказил ее лицо. Я не знал, какие мысли проносились у нее в голове, но чувствовал, что какой-то безликий страх заставил ее потерять самообладание. И ведь обычно она была так спокойна и сдержанна; ее смятение было непостижимо. Струве некоторое время смотрел на нее, оцепенев от изумления.
– Ты моя жена, и ты мне дороже всех на свете. Ни один человек не переступит этого порога без твоего согласия.
Миссис Струве на минуту закрыла глаза. Мне показалось, что она теряет сознание. Я не знал, что она такая невропатка, и чувствовал глухое раздражение. Затем опять послышался голос Струве, как-то странно прорезавший тишину:
– Разве ты не была в великой беде, когда тебе протянули руку помощи? И ты еще помнишь, как много это значит. Неужели ты не хотела бы, если тебе представляется случай, вызволить из беды другого человека?
Это были самые обыкновенные слова, правда, на мой слух они звучали несколько назидательно, так что я едва сдержал улыбку. Действие их поразило меня. Бланш Струве вздрогнула и долгим взглядом в упор посмотрела на мужа. Он уставился в пол и, как мне показалось, смешался. Щеки ее слегка заалели, но тут же страшная мертвенная бледность проступила на лице; казалось, вся кровь застыла в ее жилах, даже руки у нее побледнели. Она задрожала. Тишина в мастерской стала плотной, почти осязаемой. Я был окончательно сбит с толку.
– Привези Стрикленда, Дирк. Я сделаю для него все, что в моих силах.
– Родная моя, – улыбнулся он и протянул к ней руки, но она отстранилась.
– Я не люблю нежностей на людях, Дирк. Это глупо.
Она опять была прежней Бланш, и никто не сказал бы, что минуту назад ее потрясало такое страшное волнение.
Глава двадцать шестая
На следующий день мы перевезли Стрикленда. Понадобилось немало настойчивости и еще больше терпения, чтобы побудить его к этому, но он действительно был очень болен и не имел сил сопротивляться мольбам Струве и моей решительности. Мы одели его, причем он все время слабым голосом чертыхался, свели с лестницы, усадили в фиакр и доставили в мастерскую Струве. Стрикленд так изнемог от всех этих перипетий, что без возражений позволил уложить себя в постель. Он прохворал месяца полтора. Бывали дни, когда нам казалось, что он не проживет и нескольких часов, и я убежден, что выкарабкался он только благодаря необычному упорству Струве.
Я в жизни не видывал более трудного пациента. Он не был ни требователен, ни капризен, напротив – никогда не жаловался, ничего не спрашивал и почти все время молчал; но его как будто злили наши заботливые попечения. На вопрос, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь, он отвечал насмешками или бранью. Я его просто возненавидел и, как только он оказался вне опасности, напрямик ему об этом заявил.
– Убирайтесь к черту, – был его ответ. Вот и все.
Дирк Струве окончательно забросил работу и ходил за Стриклендом, как преданная нянька. Он удивительно ловко оправлял ему постель и с хитростью, какой я никогда бы не заподозрил в нем, заставлял принимать лекарства. Никакие труды и хлопоты его не останавливали. Хотя средств у него хватало на безбедную жизнь вдвоем с женой, но никаких излишеств он себе, конечно, позволить не мог; теперь же он сумасбродно расточал деньги на всевозможные деликатесы, которые могли бы возбудить капризный аппетит Стрикленда. Никогда я не забуду, с какой терпеливой деликатностью уговаривал он его побольше есть. Грубости, которые тот говорил ему в ответ, никогда не выводили Дирка из себя; угрюмой злобы он старался не замечать; если его задирали, только посмеивался. Когда Стрикленд начал поправляться, его хорошее настроение выражалось в насмешках над Струве, и тот нарочно дурачился, чтобы повеселить его, украдкой бросая на меня радостные взгляды: вот, мол, дело пошло на поправку! Струве был великолепен.
Но еще больше меня удивляла Бланш. Она себя зарекомендовала не только способной, но и преданной сиделкой. Трудно было поверить, что она так яростно противилась желанию мужа водворить больного Стрикленда в их мастерскую. Она пожелала ухаживать за больным наравне с Дирком. Устроила постель так, чтобы менять простыни, не тревожа Стрикленда. Умывала его. Когда я подивился ее сноровке, она улыбнулась своей милой, тихой улыбкой и сказала, что ей пришлось одно время работать в больнице. Ни словом, ни жестом не выказала она своей отчаянной ненависти к Стрикленду. Она мало говорила с ним, но угадывала все его желания. В течение двух недель его даже ночью нельзя было оставлять одного, и она дежурила возле его постели по очереди с мужем. О чем она думала, часами сидя около него в темноте? На Стрикленда было страшно смотреть: он лежал, уставившись воспаленными глазами в пустоту, еще более худой, чем обычно, с всклокоченной рыжей бородой; от болезни его неестественно блестевшие глаза казались еще огромнее.
– Говорит он когда-нибудь с вами по ночам? – спросил я однажды.
– Никогда.
– Вы по-прежнему его не терпите?
– Больше, чем когда-либо.
Она взглянула на меня своими ясными глазами. Лицо ее было безмятежно, и как-то не верилось, что эта женщина способна на бурный взрыв ненависти, свидетелем которого я был.
– А поблагодарил он вас хоть однажды за все, что вы для него сделали?
– Нет, – улыбнулась она.
– Страшный человек!
– И отвратительный.
Струве, конечно, был в восторге и не знал, как благодарить жену за ту чистосердечную готовность, с которой она приняла на свои плечи это бремя. Его смущало лишь то, как относились друг к другу Стрикленд и Бланш.
– Ты понимаешь, они часами не обмениваются ни единым словом.
Как-то раз – Стрикленду было уже настолько лучше, что через денек-другой он собирался встать с постели, – мы все сидели в мастерской. Дирк что-то рассказывал мне, миссис Струве шила; мне показалось, что она чинит рубашку Стрикленда. Стрикленд лежал на спине и ни слова не говорил. Случайно я подметил, что его глаза с насмешкой и любопытством устремлены на Бланш Струве. Почувствовав его взгляд, она, в свою очередь, подняла на него глаза, и несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Мне было не совсем ясно, что выражал ее взор. В нем была странная растерянность и, бог весть почему, смятение. Но тут Стрикленд отвел глаза и снова праздно уставился в потолок, она же все продолжала смотреть на него с непонятным и загадочным выражением.
Через несколько дней Стрикленд начал ходить по комнате. От него остались только кожа да кости, одежда болталась на нем как на вешалке. Взлохмаченная рыжая борода, отросшие волосы, необычно крупные черты лица, заострившиеся от болезни, придавали ему странный вид – странный настолько, что он уже не был отталкивающим. В самой несуразности этого человека проглядывало какое-то монументальное величие. Я не знаю, как точно передать впечатление, которое он на меня производил. Не то чтоб его насквозь проникала духовность, хотя телесная оболочка и казалась прозрачной, – слишком уж била в глаза чувственность, написанная на его лице; быть может, то, что я сейчас скажу, смешно, но это была одухотворенная чувственность. От Стрикленда веяло первобытностью, точно и в нем была заложена частица тех темных сил, которые греки воплощали в образах получеловека-полуживотного – сатира, фавна. Мне пришел на ум Марсий, поплатившийся своей кожей за дерзостную попытку состязаться в пении с Аполлоном. Стрикленд вынашивал в своем сердце причудливые гармонии, невиданные образы, и я предвидел, что его ждет конец в муках и отчаянии. «Он одержим дьяволом, – снова думал я, – но этот дьявол не дух зла, ибо он – первобытная сила, существовавшая прежде добра и зла».
Стрикленд был еще слишком слаб, чтобы писать, и молча сидел в мастерской, предаваясь бог весть каким грезам, или читал. Я видел у него книги самые неожиданные, стихи Малларме – он читал их, как читают дети, беззвучно шевеля губами, и я недоумевал, какие чувства порождают в нем эти изысканные каденции и темные строки; в другой раз я застал его углубившимся в детективный роман Габорио. Меня забавляла мысль, что в выборе книг сказываются противоречивые свойства его необыкновенной натуры. Интересно было и то, что, даже ослабев телом, он ни в чем себе не потакал. Струве любил комфорт, и в мастерской стояли два мягких глубоких кресла и большой диван. Стрикленд к ним даже не подходил, и не из показного стоицизма – как-то раз я застал его там совсем одного сидящим на трехногом стуле, – а просто потому, что он не нуждался в удобстве и любому креслу предпочитал кухонный табурет. Меня это раздражало, я никогда не видел человека более равнодушного к окружающей обстановке.
Глава двадцать седьмая
Прошло две или три недели. Однажды утром, когда моя работа вдруг застопорилась, я решил дать себе отдых и отправился в Лувр. Бродя по залам, я разглядывал хорошо знакомые картины и тешил свою фантазию чувствами, которые они во мне пробуждали. В одном из переходов я вдруг увидел Струве. Я улыбнулся, ибо его кругленькая особа неизменно вызывала улыбку, но, подойдя ближе, заметил, что вид у него против обыкновения понурый. Чем-то очень удрученный, Струве тем не менее был смешон, как человек, неожиданно упавший в воду: только что спасенный от смерти, он насквозь промок, еще не оправился от испуга, но понимает свое дурацкое положение. Его круглые голубые глаза тревожно блестели за очками.
– Струве, – окликнул я его.
Он вздрогнул, затем улыбнулся, но какой-то горестной улыбкой.
– Что это вы, сэр, вдруг вздумали бездельничать? – весело осведомился я.
– Я давно не был в Лувре. И вот решил посмотреть, нет ли чего-нибудь нового.
– Но ведь ты говорил, что должен на этой неделе закончить картину?
– Стрикленд работает в моей мастерской.
– Ну и что с того?
– Я сам ему предложил. Он еще слишком слаб, чтобы вернуться домой. Я думал, мы будем работать вдвоем. В Латинском квартале многие так работают. Мне казалось, что это очень славно получится. Я всегда думал: как хорошо перемолвиться словом с товарищем, когда устанешь от работы.
Он говорил медленно, с запинками, глядя на меня своими добрыми, глуповатыми глазами. Они были полны слез.
– Я тебя что-то не понимаю.
– Стрикленд не может работать, когда в мастерской еще кто-то есть.
– А тебе какое дело, черт возьми! Ведь это же твоя мастерская!
Струве бросил на меня жалобный взгляд. Губы его дрожали.
– В чем дело, объясни, – потребовал я.
Он молчал, весь красный. Потом с несчастным видом уставился на какую-то картину.
– Он не позволил мне писать. Сказал, чтобы я убирался.
– Да почему ты-то не сказал ему, чтобы он убирался ко всем чертям?
– Он меня выгнал. Не драться же мне с ним. Швырнул мне вслед мою шляпу и заперся.
Я готов был убить Стрикленда, но злился и на себя, так как, глядя на беднягу Струве, едва удерживался от смеха.
– А что на это сказала твоя жена?
– Она ушла за покупками.
– А ее-то он впустит?
– Не знаю.
Я оторопело уставился на Дирка. Он стоял, точно провинившийся школьник перед учителем.
– Хочешь, я сейчас пойду и выгоню Стрикленда?
Он слегка вздрогнул, и его лоснящееся красное лицо стало еще краснее.
– Нет. Ты лучше не вмешивайся.
Он кивнул мне и ушел. Я понял, что почему-то он не хочет обсуждать эту историю, но почему – мне было не ясно.
Глава двадцать восьмая
Неделю спустя все выяснилось. На скорую руку пообедав в ресторане, я вернулся домой и сел читать в своей маленькой гостиной. Часов около десяти вечера в передней раздался надтреснутый звон колокольчика. Я открыл дверь. Передо мной стоял Струве.
– Можно к тебе?
На полутемной лестнице я толком не разглядел его, но в голосе его было что-то странное. Не знай я, что он трезвенник, я бы подумал, что он пьян. Я провел его в гостиную и усадил в кресло.
– Слава Богу, наконец-то я тебя застал! – воскликнул он.
– А в чем дело? – спросил я, удивленный такой горячностью.
Только сейчас я его разглядел. Всегда очень тщательно одетый, Дирк выглядел растерзанным и даже неопрятным. Я улыбнулся, решив, что он выпил лишнего, и уже хотел над ним подшутить.
– Я не знал, куда деваться, – выпалил он. – Я уже приходил сюда, но тебя не было дома.
– Я сегодня поздно обедал.
Теперь я понял, что не хмель привел Дирка в такое состояние. Лицо его, обычно такое розовое, пошло багровыми пятнами. Руки тряслись.
– Что с тобой? – спросил я.
– От меня ушла жена.
Он с трудом выговорил эти слова, задохнулся, и слезы потекли по его круглым щекам. Я не знал, что сказать. Первая моя мысль была, что ее терпение лопнуло и, возмущенная циническим поведением Стрикленда, она потребовала, чтобы Дирк выгнал его. Я знал, на какие вспышки она способна, несмотря на свое внешнее спокойствие. И если Струве не согласился на ее требование, она могла выбежать из мастерской, клянясь никогда больше не возвращаться. Впрочем, бедняга был в таком отчаянии, что я даже не улыбнулся.
– Да не убивайся ты так, дружище. Она вернется. Нельзя же всерьез принимать слова, которые женщина говорит в запальчивости.
– Ты не понимаешь… Она влюбилась в Стрикленда.
– Что-о?! – Я был ошеломлен, но едва смысл его слов дошел до меня, как я понял, что это вздор. – Какую чепуху ты несешь. Уж не приревновал ли ты ее к Стрикленду? – Я готов был рассмеяться. – Ты знаешь не хуже меня, что она его не выносит.
– Ничего ты не понимаешь, – простонал он.
– Ты истеричный осел, – нетерпеливо крикнул я. – Пойдем-ка, я напою тебя виски с содовой, и у тебя легче станет на душе.
Мне подумалось, что по той или иной причине – а ведь один Бог знает, как изобретателен человек по части самоистязания, – Дирк забрал себе в голову, что его жене нравится Стрикленд, и, со своей удивительной способностью высказываться не к месту, он оскорбил ее, а она, чтобы ему отплатить, притворилась, будто его подозрения основательны.
– Вот что, – сказал я, – пойдем сейчас к тебе. Раз уж ты заварил кашу, так ты ее и расхлебывай. Твоя жена, по-моему, женщина незлопамятная.
– Но как же я туда пойду? – устало отозвался Дирк. – Ведь они там. Я им оставил мастерскую.
– Значит, не жена ушла от тебя, а ты ушел от жены?
– Ради Бога, не говори так!
Я все еще не принимал его слова всерьез, ни на минуту не веря тому, что он сказал. Однако Дирк был вне себя от горя.
– Ты ведь пришел поделиться со мной, так расскажи все по порядку.
– Сегодня я почувствовал, что больше не выдержу. Я сказал Стрикленду, что, по-моему, он уже вполне здоров и может возвратиться домой. Мастерская нужна мне самому.
– Кроме Стрикленда, на свете, верно, нет человека, которому нужно было бы это говорить, – заметил я. – Ну и что же он?
– Он усмехнулся. Ты же знаешь его манеру усмехаться так, что другой чувствует себя набитым дураком. И сказал, что уйдет немедленно. Он начал собирать свои вещи – помнишь, я взял из его комнаты все, что могло ему понадобиться. Потом спросил у Бланш бумагу и веревку.
Струве запнулся, он прерывисто дышал и, казалось, был близок к обмороку. Признаться, я не это ожидал от него услышать.
– Бланш, очень бледная, все ему принесла. Он не сказал ни слова. Стал что-то насвистывать и увязал вещи. На нас не обращал никакого внимания. А глаза – насмешливые. Ты не можешь себе представить, как у меня было тяжело на сердце. Мне казалось, сейчас случится что-то страшное, и я жалел, что заговорил с ним. Он оглянулся, стал искать шляпу. Тут она сказала: «Дирк, я ухожу со Стриклендом. Я не могу больше жить с тобой». Я хотел заговорить, но слова не шли у меня с языка. Стрикленд молчал. Только насвистывал, словно все это его не касалось.
Струве опять запнулся и вытер пот с лица. Я молчал. Теперь я уже верил ему и был потрясен, но все равно ничего не понимал.
Затем он рассказал мне – голос у него при этом срывался и по щекам текли слезы, – как он бросился к жене, хотел обнять ее, но она отшатнулась, умоляя не прикасаться к ней. Он заклинал ее не уходить. Говорил, как страстно ее любит, старался воскресить в ее памяти счастливые дни и то обожание, которым он окружал ее, твердил, что не сердится на нее и ни в чем ее не упрекает.
– Пожалуйста, Дирк, дай мне спокойно уйти, – сказала она наконец. – Разве ты не понимаешь, что я люблю Стрикленда? Я пойду за ним куда угодно.
– Но ведь ты никогда не будешь счастлива с ним. Останься ради своего же блага. Ты не знаешь, что тебя ждет.
– Это твоя вина. Ты настоял на том, чтобы привести его сюда.
Тогда он бросился к Стрикленду.
– Сжальтесь над ней, – умолял он. – Не допускайте ее до этого безумия.
– Она вольна поступать, как ей заблагорассудится, – отвечал Стрикленд. – Я не принуждаю ее идти со мной.
– Мой выбор сделан, – глухим голосом сказала Бланш.
Оскорбительное спокойствие Стрикленда отняло у Дирка последнее самообладание. В слепой ярости, уже не понимая, что делает, он бросился на Стрикленда. Стрикленд, захваченный врасплох, покачнулся, но он был очень силен, даже после болезни, и Дирк в мгновение ока – как это случилось, он не понял, – очутился на полу.
– Смешной вы человечишка, – сказал Стрикленд.
Струве поднялся. Жена его все это время оставалась спокойной, и его унижение стало еще нестерпимее оттого, что он оказался смешным в ее глазах. Очки соскочили у него во время борьбы, и он беспомощно озирался вокруг. Она подняла их и молча подала ему. Внезапно он почувствовал всю глубину своего несчастья и, сознавая, как он смешон и жалок, все же заплакал в голос. Он закрыл лицо руками. Те двое молча смотрели на него и не двигались с места.
– Любимая моя, – простонал он наконец, – как ты можешь быть такой жестокой?
– Я ничего не могу с собой поделать, Дирк, – отвечала она.
– Я боготворил тебя, как никто не боготворил женщину. Если я в чем-нибудь провинился перед тобой, почему ты не сказала, я бы загладил свою вину. Я делал для тебя все, что мог.
Она не отвечала, лицо у нее стало каменное, он видел, что только докучает ей. Она надела пальто, шляпу и двинулась к двери. Дирк понял: еще мгновение – и она уйдет. Он ринулся к ней, схватил ее руки, упал перед нею на колени; чувство собственного достоинства окончательно его оставило.
– Не уходи, моя родная! Я не могу жить без тебя! Я покончу с собой! Если я чем-нибудь тебя обидел, умоляю тебя, прости! Дай мне возможность заслужить прощение. Я сделаю все, все, чтобы ты была счастлива!
– Встань, Дирк! Не строй из себя шута.
Шатаясь, он поднялся, но все не имел сил отпустить ее.
– Куда ты пойдешь? – торопливо заговорил он. – Ты не представляешь себе, как живет Стрикленд. Ты не можешь там жить. Это было бы ужасно.
– Если мне это все равно, то чего же тебе волноваться?
– Подожди минуту. Я должен сказать… Ты не можешь мне запретить…
– Зачем? Я решилась. Что бы ты ни сказал, я не переменю своего решения.
Он всхлипнул и, словно унимая боль, схватился руками за сердце.
– Я не прошу тебя перерешать, но только выслушай меня. Это моя последняя просьба. Не отказывай мне.
Она остановилась и посмотрела на него своим задумчивым взглядом, теперь таким отчужденным и холодным, отошла от двери и встала у шкафа.
– Я тебя слушаю.
Струве сделал неимоверное усилие, чтобы взять себя в руки.
– Будь же хоть немного благоразумной. Ты не можешь жить воздухом. У Стрикленда гроша нет за душой.
– Я знаю.
– Ты будешь терпеть страшные лишения. Знаешь, почему он так долго не поправлялся? Он ведь голодал невесть сколько времени.
– Я буду зарабатывать для него.
– Чем?
– Не знаю. Что-нибудь придумаю.
Страшная мысль промелькнула в голове у бедняги, он вздрогнул.
– Ты, наверно, с ума сошла. Что с тобою делается?
Она пожала плечами.
– Мне можно теперь идти?
– Погоди еще секунду.
Он обвел взглядом мастерскую. Он любил ее, потому что присутствие Бланш делало все вокруг приветливым и уютным; на мгновение закрыл глаза, снова открыл их и посмотрел на жену так, словно хотел навеки запечатлеть в душе ее облик. Потом взялся за шляпу.
– Оставайся. Уйду я.
– Ты?
Она опешила и ничего не понимала.
– Я не могу допустить, чтобы ты жила на этом грязном чердаке. В конце концов, этот дом такой же твой, как и мой. Тебе здесь будет лучше. Хоть от самых страшных лишений ты будешь избавлена.
Он открыл шкаф и достал небольшую пачку денег.
– Я дам тебе половину того, что у меня есть.
Он положил деньги на стол. Стрикленд и Бланш молчали.
– Я попрошу тебя уложить мои вещи и передать их консьержке. Завтра я приду за ними. – Он сделал попытку улыбнуться. – Прощай, моя дорогая. Спасибо тебе за все счастье, которое ты дала мне.
Он вышел и прикрыл за собою дверь. Мне вдруг ясно представилось, как после его ухода Стрикленд бросил на стол свою шляпу, сел и закурил папиросу.
Глава двадцать девятая
Я довольно долго молчал, размышляя о том, что рассказал мне Струве. Нелегко мне было снести такое малодушие, и он это заметил.
– Ты не хуже меня знаешь, как живет Стрикленд, – сказал он дрожащим голосом. – Я не мог допустить, чтобы и она жила в таких условиях… просто не мог.
– Это твое дело, – отвечал я.
– Как бы ты поступил на моем месте?
– Она знала, на что идет. Если бы ей пришлось страдать от известных неудобств, ее воля.
– Да, но ты не любишь ее.
– А ты все еще ее любишь?
– О, больше прежнего! Стрикленд не из тех людей, что могут сделать женщину счастливой. Долго это не продлится. Пусть она знает, что я никогда не покину ее.
– Как понимать твои слова? Ты готов взять ее обратно?
– Я бы ни на секунду не задумался. Даня буду ей тогда всего нужнее. Страшно подумать – она останется одна, униженная, сломленная, и вдруг ей некуда будет деваться!
Он даже не чувствовал себя оскорбленным. А я, естественно, возмущался его малодушием. Вероятно, он догадался, о чем я думаю, так как сказал:
– Я и не мог надеяться, что она будет любить меня так же, как я ее. Я шут. Женщины таких не любят. Я всегда это знал. Не вправе я обвинять ее за то, что она полюбила Стрикленда.
– Ты начисто лишен самолюбия, это редчайшее свойство.
– Я люблю ее куда больше, чем самого себя. Мне кажется, самолюбие примешивается к любви, только когда ты больше любишь самого себя. Ведь женатые мужчины сплошь и рядом увлекаются другими женщинами; а потом все проходит, они возвращаются в семью, и люди считают это вполне естественным. Почему с женщинами должно быть по-другому?
– Рассуждение довольно логичное, – рассмеялся я, – но большинство мужчин иначе устроено; они не могут простить, и этим все сказано.
Я говорил и в то же время ломал себе голову над внезапностью случившегося. Неужели Струве ничего не подозревал? Мне вспомнилось странное выражение, однажды промелькнувшее в глазах Бланш Струве, может быть, она уже смутно понимала тогда, что роковое чувство зарождается в ее сердце.
– Ну а до сегодняшнего дня ты не замечал, что между ними что-то есть? – спросил я.
Струве не ответил. Он взял со стола карандаш и машинально рисовал на промокательной бумаге какую-то женскую головку.
– Скажи прямо, если тебе неприятны мои вопросы.
– Нет, мне легче говорить… Ох, если бы ты знал, какие страшные муки терзали меня. – Он отшвырнул карандаш. – Да, я знал об этом уже две недели. Знал раньше, чем узнала она.
– Почему же, скажи на милость, ты не выставил Стрикленда за дверь?
– Я не верил. Мне это казалось неправдоподобным. Она его терпеть не могла. Более того – невероятным. Я считал, что это просто ревность. Понимаешь ли, я всегда был ревнив, но приучил себя не подавать виду! Я ревновал ее ко всем нашим знакомым мужчинам, ревновал и к тебе. Я знал, что она не любит меня так, как я люблю ее. Иначе и быть не могло. Но она позволяла мне любить себя, и этого мне было довольно для счастья. Я заставлял себя на долгие часы уходить из дому, чтобы оставить их одних; так я себя наказывал за недостойные подозрения; а когда я возвращался, я видел, что им это неприятно… вернее, ей. Стрикленду было все равно, дома я или нет. Бланш содрогалась, когда я подходил поцеловать ее. Когда я наконец убедился, я не знал, что делать. Устроить сцену? Да они бы только посмеялись надо мной. И вот мне подумалось: может быть, если держать язык за зубами и делать вид, что ничего не замечаешь, то все как-нибудь образуется. А его я решил выжить спокойно, без всяких ссор. Ох, если бы ты знал, как я мучился!
Затем Дирк повторил свой рассказ о том, как он просил Стрикленда уехать. Он выбрал подходящую минуту и постарался высказать эту просьбу как бы между прочим; да только не совладал со своим голосом и сам почувствовал, что в слова, которые должны были звучать легко и дружелюбно, вкралась горечь ревности. Он никак не ожидал, что Стрикленд тотчас же начнет собираться, и, уж конечно, не думал, что Бланш решит уйти вместе с ним. Я видел, как он жалеет теперь, что не сдержался и заговорил со Стриклендом. Мучения ревности он предпочитал мучениям разлуки.
– Я хотел убить его – и только разыграл из себя шута.
Он долго сидел молча, прежде чем произнести то, что я ожидал от него услышать.
– Если бы я не поторопился, может, все и обошлось бы. Нельзя быть таким нетерпеливым. О, бедная моя девочка, до чего я ее довел!
Я только пожал плечами. Бланш Струве была мне не симпатична, но сказать то, что я о ней думаю, значило бы причинить ему новую боль.
Он дошел до той степени возбуждения, когда человек говорит и уже не может остановиться. Без конца возвращался он к пресловутой сцене. То вспоминал что-то, чего еще не успел мне сообщить, то пускался в рассуждения о том, что ему следовало бы ей сказать, и затем опять принимался жаловаться на свою слепоту. Сожалел, что поступил так, а не этак. Между тем давно уже спустилась ночь, и я устал не меньше его самого.
– Что ж ты намерен делать дальше? – спросил я наконец.
– Что делать? Буду дожидаться, покуда она не пришлет за мной.
– Почему тебе не уехать, хотя бы ненадолго?
– Нет-нет, я могу понадобиться ей и должен быть под рукой.
Это был совсем потерянный человек. Он не в силах был собраться с мыслями. Когда я сказал, что пора ему лечь в постель, он возразил, что все равно не уснет. Он хотел уйти и до рассвета бродить по улицам. Его, безусловно, нельзя было оставлять одного. Наконец мне удалось уговорить его переночевать у меня, и я уложил его в свою кровать. В гостиной у меня стоял диван, на котором я отлично мог выспаться. Дирк был уже вконец измучен и не имел сил мне противиться. Чтобы заставить его забыться хоть на несколько часов, я дал ему изрядную дозу веронала. И лучшей услуги, пожалуй, нельзя было оказать бедняге.
Глава тридцатая
Мой диван оказался не слишком удобным ложем, и я не столько спал, сколько думал о Струве. Поступок Бланш меня не очень-то озадачил: я считал, что это не что иное, как зов плоти. Она, вероятно, никогда по-настоящему не любила Дирка, и то, что я принял за любовь, было лишь чисто женским откликом на заботу и ласку, которые женщины нередко принимают за любовь. Это пассивное чувство, оно способно обратиться на любой объект, как виноградная лоза способна обвить любое дерево. Людская мудрость воздает должное этой способности, ибо как иначе объяснить, что девушку насильно выдают замуж за человека, который захотел ее, считая, что любовь придет сама собой. Такого рода чувство составляется из приятного ощущения благополучия, гордости собственницы, из удовольствия сознавать себя желанной, из радости домоводства. И «духовным» женщины называют его только из тщеславия. Это чувство беззащитно против страсти. Я подозревал, что к неистовой ненависти Бланш Струве к Стрикленду с первых же дней примешивался некий элемент полового влечения. Но кто я, чтобы тщиться разгадать запутанные тайны пола? Возможно, что страсть Дирка возбуждала ее, не давая удовлетворения, и она возненавидела Стрикленда, почувствовав, что он может дать ей то, чего она алчет. Наверно, она с полной искренностью восставала против желания мужа привезти его к ним; Стрикленд пугал ее, а почему, она и сама не знала, но предчувствовала несчастье. Ее ужас перед Стриклендом, так ее волновавшим, вероятно, был ужасом перед самою собой. Внешность у Стрикленда была странная и грубая, его глаза смотрели равнодушно, а рот свидетельствовал о чувственности. Он был рослым, сильным мужчиной, вероятно, необузданным в страсти, и не исключено, что и она почуяла в нем темную стихию, натолкнувшую меня на мысль о диких доисторических существах, которые хоть и не утратили еще первобытной связи с землей, но уже обладали и собственным разумом. Если он взволновал ее, она неизбежно должна была полюбить его или возненавидеть. Она возненавидела.
Да и ежедневное близкое общение с ним, когда он был болен, тоже, должно быть, странно ее возбуждало. Она кормила его, поддерживая его голову, а потом заботливо вытирала его чувственные губы и огненную бороду. Она мыла его руки, поросшие жесткой щетиной, и, вытирая их, чувствовала, что, несмотря на болезнь, они сильны и мускулисты. У него были длинные пальцы, чуткие, созидающие пальцы художника, и они пробуждали в ее мозгу тревожные мысли. Он спал очень спокойно, не двигаясь, точно мертвый, и был похож на дикого зверя, отдыхающего после долгой охоты, а она сидела подле него, гадая, какие видения посещают его во сне. Может быть, ему снилась нимфа, мчащаяся по лесам Греции, и сатир, неотступно преследующий ее? Она неслась, быстроногая, испуганная, но расстояние между ними все сокращалось, его горячее дыхание уже обжигало ей шею, и все-таки она молча стремилась вперед, и сатир так же молча преследовал ее, а когда он наконец ее настиг, кто знает, в ужасе или в упоении забилось ее сердце.
Жестокий голод снедал Бланш Струве. Может быть, она еще ненавидела Стрикленда, но только он один мог утолить этот голод, и все, что было до этих дней, больше не имело для нее значения. Она уже не была женщиной со сложным характером, доброй и вспыльчивой, деликатной и бездумной. Она была менадой. Она была вся – желание.
Но, может быть, это лишь поэтические домыслы, может быть, ей просто наскучил муж и она сошлась со Стриклендом из бессердечного любопытства? Даже не питая к нему горячей любви, уступила его желанию, потому что была праздной и похотливой, а потом уже запуталась в сетях собственного коварства? Откуда мне знать, какие мысли и чувства таились за холодным взглядом этих серых глаз, под чистым безмятежным лбом?
Человек – существо столь переменчивое, что о нем ничего наверное знать нельзя, и все же поступку Бланш Струве нетрудно было подыскать правдоподобное объяснение. Что же касается Стрикленда, то тут, сколько я ни ломал себе голову, я все равно ничего не понимал. То, что он сделал, прямо противоречило моему представлению о нем. Мне не казалось странным, что он так жестоко обманул доверие друга и, не задумываясь, причинил страшное горе человеку, только бы удовлетворить свою прихоть. Такова была его натура. О благодарности он не имел ни малейшего понятия. Он не знал сострадания. Чувства, обычные для каждого из нас, ему были несвойственны, и винить его за это было так же нелепо, как винить тигра за свирепую жестокость. Но самая прихоть – вот что было непостижимо.
Я не мог поверить, что Стрикленд влюбился в Бланш Струве. И не верил, что он вообще способен любить. Любовь – это забота и нежность, а Стрикленд не знал нежности ни к себе, ни к другим; в любви есть милосердие, желание защитить любимое существо, стремление сделать добро, обрадовать – если это и не самоотречение, то, во всяком случае, удивительно хорошо замаскированный эгоизм, – но в ней есть и некоторая робость. Нет, в Стрикленде ничего этого не было. Любовь – всепоглощающее чувство. Она отрешает человека от самого себя, и даже завзятый ясновидец хоть и знает, что так оно будет, но реально не в состоянии себе представить, что его любовь пройдет. Любовь облекает в плоть и кровь иллюзию, и человек, отдавая себе отчет в том, что это иллюзия, все же любит ее больше действительности. Она делает его больше, чем он есть, и в то же время меньше. Он перестает быть самим собой. Он уже не личность, а предмет, орудие для достижения цели, чуждой его «я». Любви всегда присуща доля сентиментальности, но Стрикленд меньше, чем кто-либо, был подвержен этому недугу. Я не верил, что Стрикленд может подчиниться чьей-то воле, никакого ига он бы не потерпел. Я знал, что он вырвет из сердца, может быть со страшной мукой, которая обессилит и обескровит его, все, что станет между ним и тем непонятным влечением, которое не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Если мне удалось воссоздать образ Стрикленда во всей его сложности, то я возьму на себя смелость сказать еще и это: Стрикленд, казалось мне, слишком велик для любви и в то же время ее не стоит.
Впрочем, представление о страсти у каждого складывается на основе его собственных симпатий и антипатий и, следовательно, у всех разное. Такой человек, как Стрикленд, должен был любить на свой лад. И потому копаться в его чувствах бессмысленно.
Глава тридцать первая
На следующий день, несмотря на все мои уговоры, Струве ушел от меня. Я предложил сходить за его чемоданом в мастерскую, но он хотел во что бы то ни стало идти сам. По-моему, он надеялся, что они позабыли собрать его вещи и ему представится случай еще раз повидать жену и, кто знает, может быть, убедить ее к нему вернуться. Но он нашел все свои пожитки внизу, в комнате консьержки, которая сказала ему, что Бланш нет дома. Вероятно, он не устоял перед соблазном поделиться с нею своим горем. Он рассказывал о нем всем встречным и поперечным; он ждал сочувствия, но над ним только подсмеивались.
Дирк вел себя из рук вон глупо. Зная, в какое время его жена ходит за покупками, и не имея сил так долго не видеться с нею, он однажды подстерег ее на улице. Она не хотела говорить с ним, но он настаивал, чтобы она хоть выслушала его. Он бормотал какие-то непонятные извинения за все, чем мог когда-либо огорчить ее, говорил, как преданно ее любит, умолял вернуться к нему. Она не отвечала и шла, не оглядываясь, все быстрей и быстрей. Я словно видел, как он едва поспевает за ней на своих толстеньких ножках. Задыхаясь от быстрой ходьбы, он говорил о том, как он несчастен, заклинал ее сжалиться над ним, обещал делать все, что она пожелает, лишь бы она его простила. Он умолял ее уехать с ним куда-нибудь далеко, предостерегал, что она скоро наскучит Стрикленду. Когда он рассказал мне об этой безобразной сцене, я вышел из себя. До такой степени утратить рассудок и чувство собственного достоинства! Он сделал решительно все, чтобы добиться презрения жены, ибо нет жестокости более страшной, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит; в ней не остается больше ни доброты, ни терпимости, одно только безумное раздражение. Бланш Струве внезапно остановилась и наотмашь ударила мужа по лицу. Затем, пользуясь его растерянностью, убежала наверх, в мастерскую. И все это молча, без единого слова.
Рассказывая об этом, Струве схватился за щеку, словно еще чувствуя боль от удара; при этом в глазах его стояла душераздирающая тоска и забавное недоумение. Он был похож на побитого школьника, и я, от души жалея его, едва удерживался от смеха.
Затем он стал ежедневно бродить возле лавок, в которых она делала покупки, и, стоя за углом или на другой стороне улицы, смотрел, как она проходит мимо. Заговаривать с нею он больше не отваживался, но старался вложить во взгляд своих круглых глаз всю мольбу, переполнявшую его сердце. Он, кажется, надеялся, что вид его страданий смягчит ее. Она его попросту не замечала. Даже не потрудилась поискать другую дорогу или изменить время своего хождения по лавкам. В ее равнодушии была немалая доля жестокости; может быть, ей даже нравилось мучить его. Я не понимал, за что она его возненавидела.
Я упрашивал Струве образумиться. Нельзя же быть такой тряпкой!
– Все это тебя до добра не доведет, – говорил я. – Лучше бы ты хорошенько отколотил ее. Тогда бы она перестала презирать тебя.
Я советовал ему уехать на время домой. Он часто рассказывал мне о тихом городке на севере Голландии, где и сейчас жили его родители, люди очень скромные. Отец его был плотник. Их опрятный старый домишко из красного кирпича стоял на берегу заброшенного канала. Улицы там были широкие и безлюдные. Уже двести лет городок умирал, но дома еще сохраняли величавую простоту доброго старого времени. В них некогда жили в покое и довольстве богатые купцы, посылавшие свои товары в далекую Индию, и обветшалые здания, казалось, были еще проникнуты ароматом тех счастливых дней. Берегом канала можно было выйти в зеленеющие поля, где там и сям стояли ветряные мельницы и белые с черным коровы лениво пощипывали траву. Мне казалось, что в этих краях, полных воспоминаний детства, Дирк Струве сумеет позабыть о своем несчастье. Но он не хотел уезжать.
– Я должен быть здесь на случай, если понадоблюсь ей, – твердил он. – Вдруг случится что-нибудь ужасное, а меня здесь не будет.
– А что, по-твоему, должно случиться?
– Не знаю, но мне страшно.
Я пожал плечами.
Несмотря на все свое горе, Дирк Струве оставался комической фигурой. Если бы он хоть немножко похудел и осунулся, он, наверно, возбуждал бы жалость. Но ничего подобного с ним не случилось. Он был по-прежнему кругл, как шар, и его налитые красные щеки блестели, точно спелые яблоки. Своей щеголеватой опрятности Дирк тоже не утратил и ходил, как обычно, в изящном черном костюме и в котелке, который был ему маловат и потому сидел на голове как-то лихо и весело. Дирк уже успел обзавестись брюшком, которое ничуть не уменьшалось от всех его горестей. Он теперь больше, чем когда-либо, походил на преуспевающего коммивояжера. Очень печально, когда внешность человека находится в таком несоответствии с его душой. В данном случае страсть Ромео пылала в теле сэра Тоби Белча. У Дирка было нежное, великодушное сердце и повадки шута, безошибочное чувство красоты и умение писать только пошлые картинки, удивительная душевная деликатность и вульгарные манеры. Он проявлял немало такта в чужих делах, но в своих собственных отличался удивительной бестактностью. Да, жестокую шутку сыграла старуха природа, когда соединила в одном человеке столь противоречивые качества и столкнула его лицом к лицу с беспощадной и равнодушной вселенной.
Глава тридцать вторая
Я не видел Стрикленда уже больше месяца. Он был мне отвратителен, и при случае я с удовольствием высказал бы ему свое мнение о нем; однако разыскивать его с этой целью мне казалось излишним. Я всегда побаивался выступать в качестве поборника нравственности, ибо в этой роли обязательно становишься самодовольным, а человеку, не лишенному чувства юмора, это не совсем приятно. Если я уж рискую выставить себя в смешном виде, то лишь из-за чего-то очень мне дорогого. А Стрикленду была свойственна язвительная прямота, которая заставляла меня избегать всего хотя бы чуть-чуть похожего на позу.
Но однажды вечером, идя по авеню Клиши мимо излюбленного Стриклендом кафе, куда я теперь не заглядывал, я нос к носу столкнулся с ним. Стрикленд был не один, а с Бланш Струве, и они направлялись к столику в углу, где он обычно сидел.
– Где вы, черт вас возьми, пропадали столько времени? Я уж думал, вы уехали.
Судя по сердечному тону, Стрикленд догадывался о моем нежелании с ним разговаривать. Впрочем, с ним особых церемоний разводить не приходилось.
– Нет, – сухо возразил я, – никуда я не уезжал.
– Почему же вы сюда не заглядывали?
– В Париже много кафе, где можно посидеть от скуки часок-другой.
Бланш подала мне руку и пожелала доброго вечера. Я почему-то был убежден, что она очень изменилась; но на ней было то же изящное и скромное серое платье, в котором я привык видеть ее, и лоб у нее был такой же чистый, и глаза такие же безмятежные, как в ту пору, когда она хлопотала по хозяйству в доме Струве.
– Пойдемте сыграем партию в шахматы, – предложил Стрикленд.
Не знаю почему, но я не сумел отказаться и угрюмо пошел за ним к его постоянному столику. Стрикленд велел принести доску и фигуры. Они оба вели себя так, словно ничего не произошло, и я почувствовал, что было бы глупо мне держаться по-другому. Миссис Струве невозмутимо наблюдала за нашей игрой. Она молчала, но она и всегда была молчалива. Я взглянул на ее губы. Может быть, по ним мне удастся прочесть, что она чувствует? Я следил, не промелькнет ли в ее глазах тень страха или горечи, смотрел на ее лоб: может быть, хоть одна мимолетная черточка будет свидетельствовать о скрытом волнении. Ее лицо было ничего не говорящей маской. Мирно сложенные руки покоились на коленях. Я уже знал, что она женщина больших страстей, а судя по тому страшному удару, который она нанесла Дирку, так беззаветно ей преданному, способна и на стремительный порыв, и на отчаянную жестокость. Она ушла из-под надежного крова от доброго мужа, поставила крест на обеспеченной жизни, всем рискнула для преходящего – этого она не могла не знать – сердечного приключения. Если же вспомнить, что она была рачительной хозяйкой и примерно вела свой дом, тем замечательней покажется ее безрассудство, готовность жить в нужде и лишениях. Видимо, у этой женщины была очень сложная натура, едва ли не трагически противоречившая ее повадкам смиренницы.
Эта встреча взбудоражила меня, и мое воображение лихорадочно работало, покуда я старался сосредоточиться на игре. Я всегда очень старался победить Стрикленда, так как он был из тех игроков, что презирают побежденного противника; от его нескрываемого торжества поражение становилось еще неприятнее. Но надо отдать ему справедливость – собственный проигрыш он сносил вполне добродушно. Препротивный победитель, он был симпатичным побежденным. Те, кто считает, что характер человека отчетливее проступает в игре, могут сделать отсюда довольно тонкие выводы.
По окончании игры я подозвал официанта, заплатил за выпитое и откланялся. Наша встреча прошла совсем неинтересно. Ни одно слово не дало пищи моей фантазии, и какие бы предположения я ни строил, ничто их не подтверждало. Я терялся в догадках. Как складывается их жизнь? Много бы я дал, чтобы бесплотным духом проникнуть в стены мастерской и послушать, о чем говорят эти двое. Но моему воображению не за что было зацепиться.
Глава тридцать третья
Дня через два ко мне явился Дирк Струве.
– Говорят, ты видел Бланш, – выпалил он.
– С чего ты взял?
– Мне говорил один человек, он видел тебя с ними в кафе. Почему ты мне ничего не сказал?
– Не хотел тебя расстраивать.
– Пустое. Ты же знаешь, я хочу все, все знать о ней, каждую мелочь.
Я приготовился отвечать на его вопросы.
– Как она выглядит?
– Ничуть не изменилась.
– По-твоему, она счастлива?
Я пожал плечами.
– Что я могу тебе сказать? Мы сидели в кафе, играли в шахматы. Я с нею и словом не перемолвился.
– Да разве по лицу не видно?
Я покачал головой. Мне оставалось только повторить, что ни словом, ни жестом она не выдала своих чувств. Ему, Дирку, лучше меня известно ее удивительное самообладание.
Он стиснул руки.
– О-о, я так боюсь! Я уверен, случится что-то страшное, и я не в силах этому помешать.
– Но что именно? – осведомился я.
– Не знаю, – простонал он, сжимая голову руками. – Я предвижу ужасную катастрофу.
Струве и всегда-то легко приходил в волнение, но сейчас он был положительно вне себя и никаких резонов не слушал. Я думал, что Бланш скоро станет невтерпеж со Стриклендом. Неправду говорят, будто что посеешь, то и пожнешь. Люди часто делают все от них зависящее, чтобы навлечь на себя беду, но потом каким-то образом умудряются избежать последствий своего безумия. Поссорившись со Стриклендом, Бланш, конечно, оставит его и вернется к мужу, который в своем смирении только и ждет возможности все простить и забыть. Признаться, ни симпатии, ни сострадания она мне не внушала.
– Да, но ты не любишь ее, – повторял Струве.
– А почему надо полагать, что она несчастна? Насколько мне известно, эта парочка премило устроилась.
Струве посмотрел на меня скорбными глазами.
– Тебе все это, разумеется, безразлично, а для меня это важно, бесконечно важно.
Мне сделалось совестно за свою легкомысленную резкость.
– Можешь ты исполнить одну мою просьбу? – сказал Дирк.
– Охотно.
– Напиши Бланш от моего имени.
– А почему ты сам не можешь написать?
– Я уже не раз писал ей. Но ответа мне ждать не приходится. Она, видно, даже не читает моих писем.
– Ты забываешь о женском любопытстве. Неужели ты думаешь, она устоит против соблазна?
– Да, поскольку он исходил от меня.
Я взглянул на него. Он опустил глаза. Его ответ показался мне до боли унизительным. Дирк знал, что он настолько ей безразличен, что она даже не вскрывает его писем.
– И ты веришь, что она со временем к тебе вернется? – спросил я.
– Пусть она знает, что, если ей станет уж совсем плохо, она может смело на меня рассчитывать.
Я взял листок бумаги.
– Скажи точнее, что я должен писать?
И я написал:
Дорогая миссис Струве,
Дирк просит меня сказать, что в любое время, когда бы он вам ни понадобился, он будет счастлив возможностью быть вам полезным. Он не питает к вам недобрых чувств из-за того, что случилось. Его любовь неизменна. Вы всегда застанете его по нижеследующему адресу…
Глава тридцать четвертая
Хотя я не хуже Струве знал, что связь Стрикленда и Бланш добром не кончится, я все же не предвидел столь трагической развязки. Настало лето, душное и знойное, даже ночь не приносила отдыха перенапряженным нервам. Раскаленные солнцем улицы, казалось, отдавали назад весь дневной жар, и пешеходы еле волочили ноги. Я очень давно не видел Стрикленда. Занятый другим, я вовсе перестал о нем думать. Дирк наскучил мне своими тщетными ламентациями, и я избегал его. Нехорошая это была история, и я больше не собирался забивать ею себе голову.
Как-то утром я сидел в пижаме и работал. Мысли мои блуждали далеко, я думал о солнечных заливах Бретани, о свежем морском ветре. На столе возле меня стоял кофейник, в котором консьержка принесла мне традиционное café au lait[19], и остатки недоеденного печенья. Я слышал, как за стеной консьержка спускает воду после моей утренней ванны. Зазвенел звонок. Она открыла дверь, и раздался голос Струве, спрашивающий, дома ли я. Не вставая с места, я крикнул ему: «Входи». Он ворвался в комнату и бросился ко мне.
– Она покончила с собой, – хрипло проговорил он.
– Что ты хочешь сказать? – крикнул я, пораженный.
Струве шевелил губами, но ни один звук больше не слетал с них. Затем он стал что-то лопотать как помешанный. Сердце у меня заколотилось, и, сам не зная почему, я вдруг обозлился.
– Да возьми же себя в руки! Что ты такое несешь?
Он делал отчаянные жесты, но слова у него по-прежнему не выговаривались. Он точно лишился языка. Не знаю, что на меня нашло, но я схватил его за плечи и встряхнул. Вспоминая об этом, я, конечно, досадую на себя, но последние бессонные ночи, видимо, расшатали мои нервы сильнее, чем я думал.
– Дай мне сесть, – задыхаясь, проговорил он наконец.
Я налил стакан «Сен-Гальмье» и хотел подать ему, но мне пришлось поить его, как ребенка, держа стакан у самых его губ. Он с трудом сделал первый глоток, и несколько капель пролилось на его манишку.
– Кто покончил с собой?
Не знаю, почему я задал этот вопрос, мне ведь и так было понятно, о ком он говорит.
Он сделал усилие, чтобы овладеть собой.
– Вчера вечером они поссорились. Он ушел от нее.
– Она умерла?
– Нет, ее увезли в больницу.
– Так что ж ты мне толкуешь? – крикнул я. – Почему ты говоришь, что она покончила с собой?
– Не сердись на меня… я ничего не могу сказать, когда ты со мною так…
Я крепко сжал руки, силясь сдержать себя, и даже попытался улыбнуться.
– Извини. Я тебя не тороплю. Успокойся и расскажи все по порядку.
Круглые голубые глаза Дирка были полны ужаса, стекла очков делали их взгляд еще страшнее.
– Сегодня утром консьержка поднялась наверх, чтобы передать письмо, ей не открыли на звонок. Изнутри слышались стоны. Дверь оказалась незапертой, и она вошла. Бланш лежала на кровати, а на столе стояла бутылка со щавелевой кислотой.
Струве закрыл лицо руками и, всхлипывая, раскачивался взад и вперед.
– Она была в сознании?
– Да. Ох, если бы ты знал, как она мучилась! Я этого не вынесу! Не вынесу!
Он кричал в голос.
– Черт тебя возьми, тебе и выносить-то нечего. Ей надо вынести.
– Как ты жесток!
– Что же дальше?
– Они послали за доктором и за мной, дали знать в полицию. Я давно уже сунул консьержке двадцать франков и просил послать за мной, если что случится. – Он перевел дыхание, и я понял, как трудно ему продолжать. – Когда я пришел, она не хотела говорить со мной. Велела им меня прогнать. Я клялся, что все простил ей, но она не слушала. Она пыталась биться головой о стену. Доктор сказал, что мне нельзя оставаться с нею. Она все твердила: «Уведите его!» Я вышел из спальни и стал ждать в мастерской. Когда приехала карета и они уложили ее на носилки, мне велели уйти в кухню, чтобы она не знала, что я здесь.
Покуда я одевался – Струве хотел, чтобы я немедля отправился с ним в больницу, – он говорил, что ему удалось устроить для Бланш отдельную палату и таким образом хотя бы оградить ее от больничной сутолоки. По дороге он объяснил мне, зачем я ему нужен. Если она опять не пожелает впустить его, то, может быть, впустит меня. Он умолял меня снова сказать ей, что он любит ее по-прежнему, не станет ни в чем упрекать ее и хочет только одного – помочь ей. Он ничего не требует и никогда не станет принуждать ее к нему вернуться. Она будет совершенно свободна.
Но когда мы пришли в больницу – это было мрачное, угрюмое здание, от одного вида которого делалось скверно на душе, – и после бесконечных расспросов и хождений по лестницам и коридорам добрались наконец до лечащего врача, он объявил нам, что больная слишком слаба и сегодня никого принимать не может. Для врача, маленького бородатого человечка в белом халате и с грубоватыми манерами, случай Бланш был самым обыкновенным, а взволнованные родственники – докучливыми просителями, с которыми надо обходиться покруче. Да и что тут могло показаться ему из ряда вон выходящим? Истерическая женщина, поссорившись с любовником, приняла яд – это бывает нередко. Сначала он подумал, что Дирк – виновник несчастья, и был с ним незаслуженно груб. Когда я объяснил, что он муж, готовый все простить, врач посмотрел на него любопытным, испытующим взглядом. Мне показалось, что в этом взгляде промелькнула еще и насмешка. Дирк являл собою классический тип обманутого мужа. Врач слегка пожал плечами.
– В настоящую минуту опасности нет, – ответил он на наши расспросы. – Но мы не знаем, сколько она выпила кислоты. Не исключено, что она отделается испугом. Женщины часто пытаются покончить с собой из-за любви, но обычно так, чтобы в этом не преуспеть. Как правило, это жест, которым они хотят испугать или разжалобить любовника.
В тоне его слышалось нескрываемое презрение. Бланш Струве явно была для него только единицей, которую предстояло внести в число лиц, покушавшихся на самоубийство в текущем году в городе Париже. На долгие разговоры с нами у него не было времени, и он назначил нам час, когда прийти завтра: если больной станет лучше, он разрешит мужу повидать ее.
Глава тридцать пятая
Не знаю, как мы прожили этот день. Струве ни на минуту не мог остаться один, и я из кожи лез, пытаясь развлечь его. Я потащил его в Лувр, и он делал вид, что смотрит картины, но я знал, что мысленно он там, у жены. Я заставлял его есть и после завтрака насильно уложил в постель, но он не мог уснуть. Он охотно согласился пожить несколько дней у меня. Я совал ему книги, но, пробежав глазами страницу-другую, он бессмысленно уставлялся в пространство. Вечером мы сыграли неисчислимое множество партий в пикет, и он, чтобы мои старания не пропали зря, храбро притворялся заинтересованным. Кончилось тем, что я дал ему снотворного, и он впал в тревожное забытье.
На следующий день в больнице к нам вышла сиделка, ухаживавшая за Бланш, и сказала, что больной немного лучше; по нашей просьбе сиделка пошла узнать, не хочет ли она видеть мужа. Мы слышали голоса за дверью. Наконец сиделка вернулась и объявила, что больная отказывается принять кого бы то ни было. Мы сказали, что если она не хочет видеть Дирка, то, может быть, согласится принять меня, но и на это последовал отказ. Губы Дирка дрожали.
– Я не вправе настаивать, – сказала сиделка. – Больная слишком слаба. Возможно, что через день-два она передумает.
– Может быть, она все-таки хочет кого-нибудь видеть? – тихо, почти шепотом спросил Дирк.
– Она говорит, что у нее только одно желание – пусть ее оставят в покое.
Руки Дирка как-то странно дергались, словно они ничего общего не имели с его телом.
– Пожалуйста, скажите ей, что если она хочет видеть одного человека, то я приведу его. Я хочу только, чтобы она была счастлива.
Сиделка взглянула на него своими спокойными, добрыми глазами, которые видели всю земную боль и горечь, но оставались безмятежными, ибо перед ними стояло видение иного, безгрешного мира.
– Я скажу это ей, когда она немного успокоится.
Дирк, изнемогая от сострадания, умолял ее спросить Бланш сейчас же.
– Может быть, от этого ей станет лучше. Заклинаю вас, спросите ее.
По лицу сиделки пробежала слабая, жалостливая улыбка; она повернулась и пошла к Бланш. Я слышал ее приглушенный голос, и потом другой, незнакомый мне голос ответил:
– Нет. Нет. Нет!
Выйдя к нам, сиделка покачала головой.
– Неужели это она говорила? – спросил я. Я не узнал ее голоса.
– Голосовые связки больной, видимо, сильно обожжены.
Дирк чуть слышно вскрикнул в отчаянии. Я велел ему выйти и подождать меня внизу мне хотелось остаться с глазу на глаз с сиделкой. Он не спросил, зачем мне это нужно, и покорно вышел. Он утратил остатки воли и стал похож на послушного ребенка.
– Объяснила она вам, почему она это сделала? – спросил я.
– Нет. Она не хочет говорить. Она лежит на спине, не шевелясь иногда целыми часами. И плачет. Ее подушка все время мокрая. Она слишком слаба, чтобы пользоваться платком, и слезы льются у нее по щекам.
Меня словно кольнуло в сердце. В ту минуту я готов был убить Стрикленда, и, помнится, голос у меня дрожал, когда я прощался с сиделкой.
Дирк Струве ждал меня на лестнице. Он, казалось, ничего вокруг не видел и не заметил моего приближения, покуда я не тронул его за рукав. По улице мы шли молча. Я старался представить себе, что могло толкнуть бедняжку на этот страшный шаг? Я полагал, что Стрикленду все уже известно. К нему, наверно, приходили из полиции снимать допрос. Где он сейчас? Возможно, вернулся на старый чердак, служивший ему мастерской. Странно, что она не пожелала видеть его. Или она боялась послать за ним, зная, что он откажется прийти? В какую же бездну жестокости заглянула она, если после этого отказывалась жить.
Глава тридцать шестая
Следующая неделя была ужасна. Струве дважды в день ходил в больницу справляться о жене, которая по-прежнему не желала его видеть. Первое время он приходил оттуда довольный и воспрянувший духом, так как дело, видимо, шло на поправку, а затем в отчаянии, так как осложнение, которого врач все время опасался, отняло надежду на благополучный исход. Сиделка сочувствовала его горю, но ей нечего было сказать ему в утешение. Бедная женщина лежала неподвижно и отказывалась говорить; глаза ее, устремленные в одну точку, казалось, уже видели смерть. Теперь это был вопрос двух-трех дней, не более. И когда Струве пришел ко мне поздно вечером, я понял, что она умерла. Он был совершенно обессилен. От его обычной говорливости не осталось и следа. Он молча опустился на диван. Я оставил его в покое, так как знал, что здесь слова утешения бесполезны. Боясь, что он сочтет меня бессердечным, я не решался читать и с трубкой в зубах сидел у окна, покуда он не нашел в себе силы заговорить со мной.
– Ты был так добр ко мне, – сказал он наконец. – Все были так добры…
– Глупости, – отвечал я не без смущения.
– В больнице мне сказали, чтобы я подождал. Дали мне стул, и я сел в коридоре у ее дверей. Когда она была уже без памяти, они меня впустили. У нее рот и подбородок были обожжены. Ужасно, ее прелестный подбородок – весь израненный. Она умерла совсем спокойно, я даже не знал, что она мертва, покуда сиделка не сказала мне.
Он был слишком утомлен, чтобы плакать. В полной прострации он лежал на спине, точно в теле его не осталось уже ни капли сил, и вскоре я заметил, что он уснул. Впервые по-настоящему уснул за целую неделю. Природа, временами столь жестокая, иногда бывает милосердна. Я накрыл его пледом и потушил свет. Утром, когда я проснулся, он все еще спал. Он даже не переменил положения, и очки в золотой оправе по-прежнему сидели у него на носу.
Глава тридцать седьмая
Бланш Струве умерла при таких обстоятельствах, что нам пришлось пройти через множество отвратительных формальностей, прежде чем мы получили разрешение ее похоронить. Дирк и я вдвоем тащились за гробом в карете, но обратно ехали быстрей, так как возница на дрогах, покачивавшийся впереди нас, нахлестывал лошадей, казалось, спеша стряхнуть с себя даже самое воспоминание о покойнице. Страшное и незабываемое зрелище!
Я тоже чувствовал неодолимое желание выбросить из головы всю эту мрачную историю. Меня уже тяготила трагедия, собственно говоря, непосредственно меня не касавшаяся, и, делая вид перед самим собой, что я стараюсь для Дирка, я с облегчением заговорил о другом.
– Не думаешь ли ты на время уехать? – сказал я. – Право же, тебе сейчас лучше побыть вдали от Парижа.
Он не отвечал, но я безжалостно настаивал.
– Есть у тебя какие-нибудь планы на ближайшее будущее?
– Нет.
– Ты должен вернуться к жизни. Почему бы тебе не поехать в Италию и не начать снова работать?
Он опять промолчал, но мне на выручку пришел наш возница. На мгновение придержав лошадей, он перегнулся с козел и что-то сказал – что именно, я не разобрал и высунулся из окошка кареты, чтобы расслышать: он спрашивал, куда нас везти.
– Погодите минутку, – отвечал я. – Я бы хотел, чтобы мы вместе позавтракали, – обратился я к Дирку. – Я велю ему свезти нас на площадь Пигаль.
– Нет, я пойду в мастерскую.
– Хочешь, я пойду с тобой?
– Нет, я лучше пойду один.
– Хорошо.
Я крикнул кучеру адрес, и мы опять продолжали свой путь в молчании. Дирк не был у себя в мастерской с того злосчастного утра, когда Бланш отвезли в больницу. Я был рад, что он хочет остаться один, и, проводив его до дверей, с чувством облегчения с ним распрощался. Я снова наслаждался парижскими улицами и радовался, глядя на снующую взад и вперед толпу. День выдался ясный, солнечный, и радость жизни бурлила во мне. Я ничего не мог с собой поделать. Струве и его беда вылетели у меня из головы. Я хотел радоваться.
Глава тридцать восьмая
Я не видел его почти целую неделю. Но наконец под вечер, часов около семи, он зашел за мною и потащил меня обедать. Он был в глубоком трауре, котелок его обвивала черная лента, и даже носовой платок был оторочен черной каймой. Глядя на этот скорбный наряд, можно было подумать, что внезапная катастрофа разом унесла всех его родных и даже какого-нибудь двоюродного дядюшки у него не осталось на свете. Его кругленькая фигурка и толстые красные щеки смешно контрастировали с траурной одеждой. Жестокая участь – даже на беспредельное горе Дирка ложился налет шутовства!
Он объявил мне, что решился уехать, только не в Италию, как я советовал, а в Голландию.
– Завтра я уезжаю. Скорей всего, мы никогда больше не увидимся.
Я попытался что-то возразить, но он слабо улыбнулся.
– Я пять лет не был дома. Мне казалось, что все это отошло далеко-далеко. Я так оторвался от родных краев, что меня пугала мысль съездить туда даже на время, а теперь я вижу, что это единственное мое пристанище.
Он был измучен, подавлен и мыслями то и дело возвращался к своей нежной, любящей матери. Годами он терпеливо сносил свою смехотворность, но теперь она, казалось, придавливала его к земле. Последний удар, нанесенный изменой Бланш, отнял у него ту живость нрава, которая ему помогала весело с этим мириться. Больше он уже не мог смеяться заодно с теми, что смеялись над ним. Он стал парией. Он рассказывал мне о своем детстве, о чистеньком кирпичном домике и о страсти матери к опрятности и порядку. Кухня ее была истинным чудом белизны и блеска. Нигде ни пылинки, и все на своем месте. Аккуратность ее переходила в манию. Я как живую видел эту румяную хлопотливую старушку, что всю жизнь с утра и до поздней ночи пеклась о том, чтобы домик ее сиял чистотой и нарядностью. Отец Дирка, рослый, сухощавый старик с руками, заскорузлыми от неустанного труда, скупой на слова, по вечерам читал вслух газеты, а его жена и дочь (теперь она была замужем за капитаном рыболовецкой шхуны), чтобы не терять времени даром, шили. Ничего никогда не случалось в этом городке, отброшенном назад цивилизацией, и год сменялся годом, покуда не приходила смерть, как друг, несущий отдых тем, что усердно потрудились.
– Мой отец хотел, чтобы я тоже стал плотником. В пяти поколениях переходило у нас это ремесло от отца к сыну. Может быть, в этом мудрость жизни: идти по стопам отца, не оглядываясь ни направо, ни налево. Маленьким мальчиком я говорил, что женюсь на дочке соседа-шорника. У девочки были голубые глаза и косички, белые, как лен. При ней все в моем доме блестело бы, как стеклышко, и наш сын перенял бы мое ремесло.
Струве вздохнул и умолк. Мысли его унеслись к тому, что могло бы быть, и благополучие этой жизни, которым он некогда пренебрег, исполнило тоской его сердце.
– Жизнь груба и жестока. Никто не знает, зачем мы здесь и куда мы уйдем. Смирение подобает нам. Мы должны ценить красоту покоя. Должны идти по жизни смиренно и тихо, чтобы судьба не заметила нас. И любви мы должны искать у простых, немудрящих людей. Их неведение лучше, чем все наше знание. Надо нам жить тихо, довольствоваться скромным своим уголком, быть кроткими и добрыми, как они. Вот и вся мудрость жизни.
Я считал, что это говорит в нем его сломленный дух, и восстал против такого самоунижения. Но вслух сказал другое:
– А как ты напал на мысль сделаться художником?
Он пожал плечами.
– У меня обнаружились способности к рисованию. В школе я получал награды за этот предмет. Бедная матушка очень гордилась моим талантом и однажды подарила мне ящик с акварельными красками. Она носила мои наброски к пастору, к доктору и судье. Они-то и послали меня в Амстердам экзаменоваться в школу живописи. Я выдержал экзамен. Бедняжка, как она была горда! Сердце у нее разрывалось при мысли о разлуке со мной, но она силилась не показать своего горя. Она так радовалась, что ее сын будет художником. Отец с матерью берегли каждый грош и прикопили довольно денег, чтобы мне прожить в Амстердаме, а когда была выставлена моя первая картина, они все приехали – отец, мать и сестра; мать смотрела на нее и плакала. – Его добрые глаза увлажнились. – И теперь нет такой стены в нашем домишке, на которой не висела бы моя картина в красивой золотой раме.
Лицо Дирка на мгновение засветилось тихой радостью. Я вспомнил его холодные жанровые сценки – живописных крестьян под кипарисами или оливами. Как странно они должны выглядеть в своих аляповатых рамах на стене крестьянского домика.
– Добрая душа, она думала, что невесть как облагодетельствовала сына, сделав из него художника, но, может, лучше бы я покорился воле отца и был бы теперь просто-напросто честным плотником.
– Ну а сейчас, когда ты знаешь, что дает человеку искусство, ты мог бы пойти по другой дороге? Мог бы отказаться от того упоения, которое испытывал благодаря ему?
– Выше искусства ничего нет на свете, – помолчав, ответил Дирк.
Он долго в задумчивости смотрел на меня, наконец сказал:
– Ты знаешь, я виделся со Стриклендом.
– Ты?
Я был поражен. Мне казалось, что Струве невыносимо будет его видеть. Он слабо улыбнулся:
– Ты же сам говорил, что я лишен чувства гордости.
– Что ты имеешь в виду?
И он рассказал мне удивительную историю.
Глава тридцать девятая
Когда мы расстались после похорон бедной Бланш, Струве с тяжелым сердцем вошел в дом. Смутное стремление к самомучительству гнало его в мастерскую, хотя он и содрогался при мысли о страданиях, которые его ждут. Он едва втащился по лестнице, ноги отказывались ему служить, и, прежде чем войти, долго стоял у дверей, собираясь с силами. Ему было дурно. Он едва не бросился за мною, чтобы умолить меня вернуться: ему все казалось, что в мастерской кто-то есть. Он вспомнил, как часто стоял перед дверью мастерской, чтобы отдышаться после подъема на крутую лестницу, и как от нетерпеливого желания поскорее увидеть Бланш у него снова захватывало дух. Видеть ее – это было счастье, никогда не утихавшее, и, даже выходя из дому на какие-нибудь полчаса, он рвался к встрече так, словно они не виделись целый месяц. Вдруг ему стало казаться, что она не умерла. Все, что случилось, только сон, страшный сон, сейчас он повернет ключ, войдет и увидит ее склоненной над столом в грациозной позе женщины с «Bénédicité» Шардена, представлявшейся ему образцом прелести. Он быстро вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел.
Мастерская не имела запущенного вида. Аккуратность была одной из тех черт, которые так пленяли его в жене; он с молоком матери впитал любовь к той радости, которую дают чистота и порядок, и когда заметил, что Бланш инстинктивно кладет каждый предмет на отведенное ему место, то теплое и благодарное чувство поднялось в его сердце. В спальне все было так, словно она только что вышла оттуда: на туалетном столике лежали две щетки и между ними изящная гребенка; кто-то застелил постель, на которой Бланш провела свою последнюю ночь дома, и на подушке, в вышитом конверте, лежала ее ночная сорочка. Невозможно было поверить, что она уже никогда не войдет в эту комнату.
У Дирка пересохло в горле, и он пошел в кухню напиться воды. Здесь тоже все было в полном порядке. Над плитой на полке стояли тщательно вымытые тарелки, с которых она и Стрикленд ели в последний вечер перед ссорой. Ножи и вилки были убраны в стол. Под колпаком лежали остатки сыра, в жестяной коробке – горбушка хлеба. Она покупала продукты ежедневно и ровно столько, сколько нужно, так что со дня на день у нее в хозяйстве ничего не оставалось. Из протокола, составленного полицией, Струве знал, что Стрикленд ушел из дому тотчас после обеда, и дрожь охватила его при мысли, что у Бланш достало силы все вымыть и убрать, как обычно. Эта методичность лишний раз доказывала, как обдуманно она действовала. Ее самообладание было страшно. Острая боль внезапно пронзила его, ноги у него подкосились. Он доплелся до спальни, бросился на постель и стал звать: «Бланш! Бланш!»
Мысль о ее страданиях была ему нестерпима. Он вдруг ясно увидел, как она стоит в кухне – кухня у них была крошечная, – моет тарелки, стаканы, вилки, ложки, до блеска чистит ножи; затем все расставляет по местам, моет раковину, встряхнув полотенце, вешает его сушиться – оно все еще висит здесь, истрепанный серый лоскут, – и оглядывается кругом, все ли в порядке. Он видел, как она спускает засученные рукава, снимает фартук – вот он на гвозде за дверью, – достает пузырек со щавелевой кислотой и идет в спальню.
Не в силах терпеть эту муку, он вскочил с кровати и бросился вон из спальни. Вошел в мастерскую. Там было темно, так как кто-то задернул занавеси на огромном окне. Струве торопливо раздвинул их, и рыдания сдавили ему горло при первом же взгляде на комнату, в которой он был так счастлив. И здесь тоже все осталось без перемен. Стрикленд был равнодушен к тому, что его окружало, и жил в чужой мастерской, ровно ничего не меняя в ней. Обстановка у Струве была продуманно артистична, в соответствии с его представлением о том, как должен жить художник. На стенах там и сям старинная парча, на рояле – кусок дивного поблекшего шелка. В одном углу копия Венеры Милосской, в другом – Венеры Медицейской. Две итальянские горки с дельфтским фаянсом, несколько барельефов. Была здесь в прекрасной золоченой раме и копия с «Иннокентия X» Веласкеса, сделанная Струве в Риме, и множество его собственных картин, повешенных так, чтобы производить наибольший эффект, тоже в великолепных рамах. Струве всегда очень гордился своим вкусом. Он страстно любил романтическую атмосферу мастерской художника, и хотя сейчас вид всех этих вещей был ему как нож в сердце, он машинально чуть-чуть передвинул столик в стиле Людовика XV, принадлежавший к лучшим его сокровищам. Вдруг он заметил холст, повернутый лицом к стене и по размерам больший, чем те холсты, которыми он обычно пользовался. Дирк подошел и повернул его. На холсте была изображена нагая женщина. Сердце его учащенно забилось, он мигом понял, что это работа Стрикленда. Он отшвырнул картину – какого черта Стрикленд ее здесь оставил? – но от его резкого движения она упала на пол лицом вниз. Не важно, чья это работа. Дирк все равно не мог оставить ее валяться в пыли и поднял, но тут его одолело любопытство. Чтобы получше рассмотреть картину, он поставил ее на мольберт и отошел на несколько шагов.
У него сперло дыхание. Картина изображала женщину, лежащую на диване; одна рука ее была закинута за голову, другая спокойно лежала вдоль тела; одно колено чуть согнуто, другая нога вытянута. Классическая поза. Все поплыло перед глазами Струве. Это была Бланш. Отчаяние, ревность и ярость душили его, он стал громко кричать что-то нечленораздельное; сжимал кулаки и грозил невидимому врагу. Потом опять кричал не своим голосом. Он был вне себя. Это было уж слишком, этого он снести не мог. Он стал оглядываться по сторонам, ища, чем бы искромсать, изрезать картину, уничтожить ее сию же минуту, но ничего подходящего ему под руку не попадалось; он рылся в своих инструментах, и тоже тщетно, он сходил с ума. Наконец он нашел то, что искал, большой шпатель, и с ликующим криком схватил его. Размахивая им, словно кинжалом, он ринулся к картине.
Рассказывая, Струве снова пришел в неописуемое волнение и, схватив подвернувшийся под руку столовый нож, взмахнул им. Потом занес руку, как для удара, но тотчас разжал ее, и нож со стуком упал на пол. Струве посмотрел на меня с виноватой улыбкой и замолчал.
– Продолжай, – сказал я.
– Не знаю, что на меня нашло. Я уже совсем собирался продырявить картину, как вдруг я увидел ее.
– Кого ее?
– Картину. Это было подлинное произведение искусства. Я не мог к ней прикоснуться. Я испугался.
Он опять замолчал и смотрел на меня с открытым ртом, его голубые глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит.
– Это была удивительная, дивная картина. Меня охватил благоговейный трепет. Еще секунда – и я бы совершил ужаснейшее преступление. Я хотел получше разглядеть ее и споткнулся о шпатель. Ужасно!
В какой-то мере я заразился волнением Струве. Странное действие произвел на меня его рассказ. Мне вдруг почудилось, что я перенесся в мир, где смещены все ценности, и я стоял недоумевая, словно чужеземец в стране, где люди совсем по-иному, совсем непривычно реагируют на самые простые явления. Струве пытался рассказывать мне о картине, но речь его была бессвязна, и мне приходилось догадываться, что он имеет в виду. Стрикленд разорвал путы, связывавшие его. Он нашел не себя, как принято говорить, но свою новую душу, насыщенную силами, о которых никто не подозревал. Это было не только дерзкое упрощение линий, которое так полно и неповторимо выявляло личность художника, не только живопись, хотя тело было написано с такой проникновенной чувственностью, которая уже граничила с чудом; это было не только торжество плоти, хотя вы реально ощущали вес этого распростертого тела; нет, картина Стрикленда была пронизана духовностью, по-новому понятым трагизмом, который вел воображение по неведомым тропам в пустынные просторы, где прорезают мглу только вечные звезды и где душа, сбросив все покровы, трепетно приступает к разгадкам новых тайн.
Я впал в риторику, потому что и Струве был риторичен. (Кто не знает, что в волнении человек выражается, словно герой романа.) Он пытался выразить чувства, ранее ему незнакомые, не смог втиснуть их в будничные слова и уподобился мистику, который тщится описать несказанное. Одно только стало мне ясно из его речей: люди говорят о красоте беззаботно, они употребляют это слово так небрежно, что оно теряет свою силу и предмет, который оно должно осмыслить, деля свое имя с тысячью пошлых понятий, оказывается лишенным своего величия. Словом «прекрасное» люди обозначают платье, собаку, проповедь, а очутившись лицом к лицу с прекрасным, не умеют его распознать. Они стараются фальшивым пафосом прикрыть свои ничтожные мысли, и это притупляет их восприимчивость. Подобно шарлатану, фальсифицирующему тот подъем духа, который он некогда чувствовал в себе, они злоупотребляют своими душевными силами и утрачивают их. Но Струве, этот вечный шут с искренней и честной душой, также искренне и честно любил и понимал искусство. Для него искусство значило то же, что значит Бог для верующего, и когда он видел его, ему делалось страшно.
– Что ж ты сказал Стрикленду, когда встретился с ним?
– Предложил ему поехать со мной в Голландию.
Я опешил и с дурацким видом уставился на Струве.
– Мы оба любили Бланш. В доме моей матери для него нашлась бы комнатка. Мне казалось, что соседство простых бедных людей принесет успокоение его душе. И еще я думал, что он научится у них многим полезным вещам.
– Что же он сказал?
– Улыбнулся и, кажется, подумал, что я дурак. А потом заявил, что «ерундить» ему неохота.
Я бы предпочел, чтобы Стрикленд сформулировал свой отказ в других выражениях.
– Он отдал мне портрет Бланш.
Я удивился, зачем Стрикленд это сделал, но не сказал ни слова. Мы оба довольно долго молчали.
– А как ты распорядился своими вещами? – спросил я наконец.
– Позвал еврея-скупщика, и он неплохо заплатил мне на круг. Картины я увезу с собой. Кроме них, у меня сейчас ничего не осталось, разве что чемодан с одеждой да несколько книг.
– Хорошо, что ты едешь домой.
Я понимал, что единственное спасение для него – порвать с прошлым. Быть может, его горе, сейчас еще нестерпимое, со временем уляжется и благодатное забвение поможет ему сызнова взвалить на себя бремя жизни. Он молод и через несколько лет с грустью, не лишенной известной сладости, будет вспоминать о своем несчастье. Раньше или позже он женится на доброй голландке и будет счастлив. Я улыбнулся при мысли о бесчисленном множестве плохих картин, которые он успеет написать до конца своей жизни.
На следующий день я проводил его в Амстердам.
Глава сороковая
Занятый своими собственными делами, я целый месяц не встречал никого, кто бы мог напомнить мне об этой прискорбной истории, и постепенно она выветрилась у меня из головы. Но в один прекрасный день, когда я спешил куда-то, на улице со мною поравнялся Стрикленд. Вид его напомнил мне об ужасе, который я так охотно забыл, и я внезапно почувствовал отвращение к виновнику всего этого. Кивнув ему – не поклониться было бы ребячеством, – я ускорил шаг, но через минуту почувствовал, что меня трогают за плечо.
– Вы очень торопитесь? – добродушно осведомился Стрикленд.
Характерная его черта: он сердечно обходился с теми, кто не желал с ним встречаться, а мой холодный кивок не оставлял в том ни малейшего сомнения.
– Да, – сухо ответил я.
– Я немного провожу вас, – сказал он.
– Зачем?
– Чтобы насладиться вашим обществом.
Я смолчал, и он тоже молча пошел рядом со мною. Так мы шли, наверное, с четверть мили. Положение становилось комическим. Но мы как раз оказались возле магазина канцелярских товаров, и я решил: может же мне понадобиться бумага. Это был хороший предлог, чтобы отделаться от него.
– Мне сюда, – сказал я, – всего хорошего.
– Я вас подожду.
Я пожал плечами и вошел в магазин. Но тут же подумал, что французская бумага никуда не годится и что, раз уж моя хитрость не удалась, не стоит покупать ненужные вещи.
Я спросил что-то, чего мне заведомо не могли дать, и вышел на улицу.
– Ну как, купили то, что хотели?
– Нет.
Мы опять молча зашагали вперед и вышли на площадь, в которую вливалось несколько улиц. Я остановился и спросил:
– Вам куда?
– Туда, куда и вам, – улыбнулся он.
– Я иду домой.
– Я зайду к вам выкурить трубку.
– По-моему, вам следовало бы подождать приглашения, – холодно отвечал я.
– Конечно, будь у меня надежда получить его.
– Видите вы вон ту стену? – спросил я.
– Вижу.
– В таком случае, я полагаю, вы должны видеть и то, что я не желаю вашего общества.
– Признаюсь, я уже подозревал это.
Я не выдержал и фыркнул. Беда моя в том, что я не умею ненавидеть людей, которые заставляют меня смеяться. Но я тут же взял себя в руки.
– Вы гнусный тип. Более мерзкой скотины я, по счастью, в жизни еще не встречал. Зачем вам нужен человек, который не терпит и презирает вас?
– А почему вы, голубчик мой, полагаете, что я интересуюсь вашим мнением обо мне?
– Черт возьми, – сказал я злобно, ибо у меня уже мелькнула мысль, что доводы, которые я привел, не делают мне чести, – я просто знать вас не желаю.
– Боитесь, как бы я вас не испортил?
Откровенно говоря, я почувствовал себя смешным. Он искоса смотрел на меня с сардонической улыбкой, и мне под этим взглядом стало не по себе.
– Вам, видно, сейчас туго приходится, – нахально заметил я.
– Я был бы отъявленным болваном, если бы надеялся взять у вас взаймы.
– Видно, здорово вас скрутило, если уж вы начинаете льстить.
Он осклабился:
– А все равно я вам нравлюсь, потому что нет-нет да и даю вам повод сострить.
Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Он высказал роковую истину. Мне нравятся люди пусть дурные, но которые за словом в карман не лезут. Я уже ясно почувствовал, что только усилием воли могу поддерживать в себе ненависть к Стрикленду. Я сокрушался о своей моральной неустойчивости, но знал, что мое порицание Стрикленда смахивает на позу, и уж если я это знал, то он, со своим безошибочным чутьем, знал и подавно. Конечно, он подсмеивался надо мной. Я не стал возражать ему и попытался спасти свое достоинство гробовым молчанием и пожатием плеч.
Глава сорок первая
Мы подошли к дому, в котором я жил. Я не просил его войти и стал молча подниматься по лестнице. Он шел за мной по пятам. Он был у меня в первый раз, но даже не взглянул на убранство комнаты, хотя я потратил немало труда, чтобы сделать ее приятной для глаза. На столе стояла коробка с табаком, он тотчас же набил свою трубку и сел не в одно из удобных кресел, а на единственный стул, да и то боком.
– Если уж вы решили устраиваться здесь как дома, почему бы вам не сесть в кресло? – раздраженно спросил я.
– А почему вы так заботитесь о моем удобстве?
– Не о вашем, а о своем. Когда кто-нибудь сидит на неудобном стуле, мне самому становится неудобно.
Он фыркнул, но не двинулся с места и молча продолжал курить, не замечая меня и, видимо, погруженный в свои мысли. Я недоумевал, зачем он пришел сюда.
Писатель, покуда долголетняя привычка не притупит его чувствительности, сам робеет перед инстинктом, внушающим ему столь жгучий интерес к странностям человеческой натуры, что он не в состоянии осудить их и от них отвернуться. То артистическое удовольствие, которое он получает от созерцания зла, его самого немного пугает. Впрочем, честность заставляет его признать, что он не столько осуждает иные недостойные поступки, сколько жаждет доискаться их причин. Подлец, которого писатель создал и наделил логически развитым и завершенным характером, влечет его наперекор требованиям законности и порядка. По-моему, Шекспир придумывал Яго с большим смаком, нежели Дездемону, точно сотканную из лунного света. Возможно, что, создавая образы мошенников и негодяев, писатель стремится удовлетворить инстинкты, заложенные в нем природой, но обычаями и законами цивилизованного мира оттесненные в таинственную область подсознательного. Облекая в плоть и кровь создания своей фантазии, он тем самым как бы дарует отдельную жизнь той части своего «я», которая иначе не может себя выразить. Его радость – это радость освобождения.
Писатель скорее призван знать, чем судить.
Стрикленд внушал мне неподдельный ужас и наряду с этим холодное любопытство. Он меня озадачивал, и в то же время я жаждал узнать мотивы его поступков, а также отношение к трагедии, которую он навязал людям, приютившим и пригревшим его. И я смело вонзил скальпель.
– Струве сказал мне, что картина, которую вы писали с его жены, – лучшая из всех ваших работ.
Стрикленд вынул трубку изо рта, в глазах его промелькнула улыбка.
– Да, писать ее было забавно.
– Почему вы отдали ему картину?
– Я ее закончил, так на что она мне?
– Вы знаете, что Струве едва ее не загубил?
– Она мне не слишком удалась.
Он помолчал, затем вынул трубку изо рта и усмехнулся:
– А вы знаете, что этот пузан приходил ко мне?
– Неужто вас не тронуло то, что он вам предложил?
– Нет. По-моему, это было глупо и сентиментально.
– Вы, видимо, забыли, что разрушили его жизнь, – сказал я.
Он в задумчивости теребил свою бороду.
– Он очень плохой художник.
– Но очень хороший человек.
– И отличный повар, – насмешливо присовокупил Стрикленд.
В его бездушии было что-то нечеловеческое, и я отнюдь не собирался деликатничать с ним.
– А скажите, я спрашиваю из чистого любопытства, чувствовали вы хоть малейшие угрызения совести после смерти Бланш Струве?
Я внимательно следил за выражением его лица, но оно оставалось бесстрастным.
– Чего мне, собственно, угрызаться?
– Сейчас я приведу вам ряд фактов. Вы умирали, и Дирк Струве перевез вас к себе. Он ходил за вами, как родная мать. Принес вам в жертву свое время, удобства, деньги. Он вырвал вас из когтей смерти.
Стрикленд пожал плечами.
– Бедняга обожает делать что-нибудь для других. В этом его жизнь.
– Предположим, что вы не были обязаны ему благодарностью, но разве вы были обязаны уводить от него жену? До вашего появления они были счастливы. Почему вы не могли оставить их в покое?
– А почему вы думаете, что они были счастливы?
– Это было очевидно.
– До чего же у вас проницательный ум! По-вашему, она была в состоянии простить ему то, что он для нее сделал?
– Что вы хотите сказать?
– Известно вам, как он на ней женился?
Я покачал головой.
– Она была гувернанткой в семье какого-то римского князя, и сын хозяина совратил ее. Она думала, что он на ней женится, а ее выгнали на улицу. Она была беременна и пыталась покончить с собой. Струве ее подобрал и женился на ней.
– Вполне в его духе. Я в жизни не видывал человека с таким мягким сердцем.
Я нередко удивлялся, что могло соединить этих столь несхожих людей, но подобное объяснение мне никогда в голову не приходило. Так вот причина необычной любви Дирка к жене. В его отношении к ней было нечто большее, чем страсть. И помнится, в ее сдержанности мне всегда чудилось что-то такое, чему я и не мог подыскать определения; только сейчас я понял: это было не просто желание скрыть позорную тайну. Ее спокойствие напоминало затишье, воцарившееся на острове, над которым пронесся ураган. Ее веселость была веселостью отчаяния. Стрикленд вывел меня из задумчивости замечанием, поразительным по своему цинизму:
– Женщина может простить мужчине зло, которое он причинил ей, но жертв, которые он ей принес, она не прощает.
– Уж вам-то не грозит опасность остаться непрощенным.
Чуть заметная улыбка тронула его губы.
– Вы всегда готовы пожертвовать своими принципами ради красного словца, – сказал он.
– Что же сталось с ребенком?
– Ребенок родился мертвым три или четыре месяца спустя после их женитьбы.
Тут я спросил о том, что всегда было для меня самым непонятным:
– А почему, скажите на милость, вы заинтересовались Бланш Струве?
Он не отвечал так долго, что я уже собирался повторить свой вопрос.
– Откуда я знаю? – проговорил он наконец. – Она меня терпеть не могла. Это было забавно.
– Понимаю.
Стрикленд вдруг разозлился.
– Черт подери, я ее хотел.
Но он тут же овладел собой и с улыбкой взглянул на меня.
– Сначала она была в ужасе.
– Вы ей сказали?
– Зачем? Она и так знала. Я ей слова не говорил. Она меня боялась. В конце концов я взял ее.
По тому, как он это сказал, я понял, до чего неистово было его желание. И невольно содрогнулся. Вся жизнь этого человека была беспощадным отрешением от материального, и, видимо, тело временами жестоко мстило духу. И в случае с Бланш сатир возобладал в нем, и, беспомощный в тисках инстинкта, могучего, как первобытные силы природы, он уже не мог противиться своему влечению, ибо в душе его не осталось места ни для благоразумия, ни для благодарности.
– Но зачем вам вздумалось уводить ее от мужа? – поинтересовался я.
– Я этого не хотел, – отвечал он нахмурясь. – Когда она сказала, что уйдет со мной, я удивился не меньше Струве. Я ей сказал, что, когда она мне надоест, ей придется собирать свои манатки, и она ответила, что идет на это. – Он сделал паузу. – У нее было дивное тело, а мне хотелось писать обнаженную натуру. После того как я закончил портрет, она уже меня не интересовала.
– А ведь она всем сердцем любила вас.
Он вскочил и заходил по комнате.
– Я в любви не нуждаюсь. У меня на нее нет времени. Любовь – это слабость. Но я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть свое желание, но я его ненавижу: оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе. Женщины ничего не умеют, только любить, любви они придают бог знает какое значение. Им хочется уверить нас, что любовь – главное в жизни. Но любовь – это малость. Я знаю вожделение. Оно естественно и здорово, а любовь – это болезнь. Женщины существуют для моего удовольствия, но я не терплю их дурацких претензий быть помощниками, друзьями, товарищами.
Я никогда не слышал, чтобы Стрикленд подряд говорил так много и с таким страстным негодованием. Но, впрочем, я сейчас, как и раньше, не пытаюсь воспроизвести точные его слова: лексикон его был беден, дар красноречия у него начисто отсутствовал, так что его мысли приходилось конструировать из междометий, выражения лица, жестов и отрывочных восклицаний.
– Вам бы жить в эпоху, когда женщины были рабынями, а мужчины рабовладельцами, – сказал я.
– Да, я просто нормальный мужчина.
Невозможно было не рассмеяться этому замечанию, сделанному с полной серьезностью; но он, шагая из угла в угол, точно зверь в клетке, все силился хоть относительно связно выразить то, что было у него на душе.
– Если женщина любит вас, она не угомонится, пока не завладеет вашей душой. Она слаба и потому неистово жаждет полновластия. На меньшее она не согласна. Так как умишко у нее с куриный носок, то абстрактное для нее непостижимо, и она его ненавидит. Она занята житейскими мелочами, все идеальное вызывает ее ревность. Душа мужчины уносится в высочайшие сферы мироздания, а она старается втиснуть ее в приходо-расходную книгу. Помните мою жену? Бланш очень скоро пустилась на те же штуки. С потрясающим терпением готовилась она заарканить и связать меня. Ей надо было низвести меня до своего уровня; она обо мне ничего знать не хотела, хотела только, чтобы я целиком принадлежал ей. И ведь готова была исполнить любое мое желание, кроме одного – отвязаться от меня.
Я довольно долго молчал.
– А как по-вашему, что она должна была сделать после того, как вы ее бросили?
– Она могла вернуться к Струве, – сердито отвечал он. – Струве готов был принять ее.
– Возмутительное рассуждение, – отвечал я. – Впрочем, толковать с вами о таких вещах – все равно что расписывать красоту заката слепорожденному.
Он остановился и посмотрел мне в лицо с презрительным недоумением.
– Неужто вам и вправду не все равно, жива или умерла Бланш Струве?
Я задумался, ибо во что бы то ни стало хотел честно ответить на этот вопрос.
– Наверно, я черствый человек, потому что ее смерть не слишком меня огорчает. Жизнь сулила ей много хорошего. И ужасно, что все это с такой бессмысленной жестокостью отнято у нее, что же касается меня, то, к стыду моему, ее трагедия оставляет меня сравнительно спокойным.
– Взгляды у вас смелые, а отстаивать их смелости не хватает. Жизнь не имеет цены. Бланш Струве покончила с собой не потому, что я бросил ее, а потому, что она была женщина вздорная и неуравновешенная. Но хватит говорить о ней, не такая уж она важная персона. Пойдемте, я покажу вам свои картины.
Он говорил со мной как с ребенком, внимание которого надо отвлечь. Я был зол, но больше на себя, чем на него. Мне все вспоминалась счастливая жизнь четы Струве в уютной мастерской на Монмартре, их отзывчивость, доброта и гостеприимство. Жестоко, что безжалостный случай все это разрушил. Но самое жестокое – что ничего не изменилось. Жизнь шла своим чередом, и мимолетное несчастье ни в чьем сердце не оставило следа. Я думал, что Дирк, человек скорее пылких, чем глубоких чувств, скоро позабудет свое горе, но Бланш… один Бог знает, какие радужные грезы посещали ее в юности, Бланш – зачем она жила на свете? Все это было так бессмысленно и глупо.
Стрикленд отыскал свою шляпу и стоял, выжидательно глядя на меня.
– Вы идете?
– Почему вы держитесь за знакомство со мною? – спросил я. – Вы же знаете, что я ненавижу и презираю вас.
Он добродушно ухмыльнулся.
– Вы злитесь только из-за того, что мне наплевать, какого вы обо мне мнения.
Я почувствовал, как кровь прилила у меня к лицу от гнева. Нет, этот человек не в состоянии понять, что его безжалостный эгоизм вызывает ненависть. Я жаждал пробить броню этого полнейшего безразличия. Но, увы, зерно истины все-таки было в его словах. Ведь мы, скорей всего бессознательно, свою власть над другими измеряем тем, как они относятся к нашему мнению о них, и начинаем ненавидеть тех, которые не поддаются нашему влиянию. Для человеческой гордости нет обиды жесточе. Но я не хотел показать, что слова Стрикленда меня задели.
– Дозволено ли человеку полностью пренебрегать другими людьми? – спросил я не столько его, сколько самого себя. – Человек в каждой мелочи зависит от других. Попытка жить только собою и для себя заведомо обречена на неудачу. Рано или поздно старым, усталым и больным вы приползете обратно в стадо. И когда ваше сердце будет жаждать покоя и сочувствия, вам станет стыдно. Вы ищете невозможного. Повторяю, рано или поздно человек в вас затоскует по узам, связывающим его с человечеством.
– Пойдемте смотреть мои картины.
– Вы когда-нибудь думаете о смерти?
– Зачем? Она того не стоит.
Я смотрел на него в удивлении. Он стоял передо мной неподвижно, в глазах его мелькнула насмешка, и, несмотря на все это, я вдруг прозрел в нем пламенный, мученический дух, устремленный к цели более высокой, чем все то, что сковано плотью. На мгновение я стал свидетелем поисков неизреченного. Я смотрел на этого человека в обшарпанном костюме, с большим носом, горящими глазами, с рыжей бородой и всклокоченными волосами и, странным образом, видел перед собой не эту оболочку, а бесплотный дух.
– Что ж, пойдем посмотрим ваши картины, – сказал я.
Глава сорок вторая
Не знаю, почему Стрикленду вдруг вздумалось показать их мне. Но я очень обрадовался. Человек открывается в своих трудах. В светском общении он показывает себя таким, каким хочет казаться, и правильно судить о нем вы можете лишь по мелким и бессознательным его поступкам да непроизвольно меняющемуся выражению лица. Присвоивши себе ту или иную маску, человек со временем так привыкает к ней, что и вправду становится тем, чем сначала хотел казаться. Но в своей книге или в своей картине он наг и беззащитен. Его претензии только подчеркивают его пустоту. Деревяшка и есть деревяшка. Никакими потугами на оригинальность не скрыть посредственности. Зоркий ценитель даже в эскизе усматривает сокровенные душевные глубины художника, его создавшего.
Не скрою, что я волновался, взбираясь по нескончаемой лестнице в мансарду Стрикленда. Мне чудилось, что я на пороге удивительного открытия. Войдя наконец в его комнату, я с любопытством огляделся. Она показалась мне меньше и голее, чем прежде. «Интересно, – подумал я, – что сказали бы о ней мои знакомые художники, работающие в огромных мастерских и убежденные, что они не могут творить, если окружающая обстановка им не по вкусу».
– Станьте вон там. – Стрикленд показал мне точку, с которой, как он считал, картины представали в наиболее выгодном освещении.
– Вы, наверно, предпочитаете, чтобы я молчал? – осведомился я.
– Конечно, черт вас возьми, можете попридержать свой язык.
Он ставил картину на мольберт, давал мне посмотреть на нее минуты две, затем снимал и ставил другую. Он показал мне, наверно, холстов тридцать. Это были плоды его работы за шесть лет, то есть с тех пор, как он начал писать. Он не продал ни одной картины. Холсты были разной величины. Меньшие – натюрморты, покрупнее – пейзажи. Было у него штук шесть портретов.
– Вот и все, – объявил он наконец.
Мне бы очень хотелось сказать, что я сразу распознал их красоту и необычайное своеобразие. Теперь, когда я снова видел многие из них, а с другими ознакомился по репродукциям, я не могу не удивляться, что с первого взгляда испытал горькое разочарование. Нервная дрожь – воздействие подлинного искусства – не потрясла меня. Картины Стрикленда привели меня в замешательство, и я не могу простить себе, что мне даже в голову не пришло купить хотя бы одну из них. Я упустил счастливый случай. Большинство их попало в музеи, остальные украшают коллекции богатых меценатов. Я стараюсь подыскать для себя оправдание. Мне все-таки кажется, что у меня хороший вкус, только ему недостает оригинальности. В живописи я мало что смыслю и всегда иду по дорожке, проложенной для меня другими. В ту пору я преклонялся перед импрессионистами. Я мечтал приобрести творения Сислея и Дега и приходил в восторг от Мане. Его «Олимпия» казалась мне шедевром новейших времен, а «Завтрак на траве» трогал меня до глубины души. Я воображал, что эти произведения – последнее слово в живописи.
Не буду описывать картины, которые показывал мне Стрикленд. Такие описания всегда наводят скуку, а кроме того, его картины знакомы решительно всем, кто интересуется живописью. Теперь, после того как искусство Стрикленда оказало столь грандиозное воздействие на современную живопись и неведомая область, в которую он проник одним из первых, уже, так сказать, нанесена на карту, всякий, впервые видящий его картину, внутренне подготовлен к ней, я же никогда ничего подобного не видел. Прежде всего я был поражен тем, что мне показалось топорной техникой. Привыкнув к рисунку старых мастеров и убежденный, что Энгр был величайшим рисовальщиком нового времени, я решил, что Стрикленд рисует из рук вон плохо. О том, что упрощение – его цель, я не догадывался. Помню, как меня раздражало, что круглое блюдо в одном из натюрмортов было неправильной формы и на нем лежали кособокие апельсины. Лица на портретах он делал больше натуральной величины, и это производило отталкивающее впечатление. Я воспринимал их как карикатуры. Написаны они были в совершенно новой для меня манере. Пейзажи еще сильнее меня озадачили. Два или три из них изображали лес в Фонтенбло, остальные – улицы Парижа; на первый взгляд они казались нарисованными пьяным извозчиком. Я просто ошалел. Нестерпимо кричащие краски, и все в целом какой-то дурацкий, непонятный фарс. Вспоминая об этом, я еще больше поражаюсь чутью Струве. Он с первого взгляда понял, что здесь речь шла о революции в искусстве, и почти еще в зародыше признал гения, перед которым позднее преклонился весь мир.
Растерянный и сбитый с толку, я тем не менее был потрясен. Даже при моем колоссальном невежестве я почувствовал, что здесь тщится проявить себя великая сила. Все мое существо пришло в волнение. Я ясно ощущал, что эти картины говорят мне о чем-то очень для меня важном, но о чем именно, я еще не знал. Они казались мне уродливыми, но в них была какая-то великая и нераскрытая тайна, что-то странно дразнящее и волнующее. Чувства, которые они во мне возбуждали, я не умел проанализировать: слова тут были бессильны. Мне начинало казаться, что Стрикленд в материальных вещах смутно провидел какую-то духовную сущность, сущность до того необычную, что он мог лишь в неясных символах намекать о ней. Точно среди хаоса вселенной он отыскал новую форму и в безмерной душевной тоске неумело пытался ее воссоздать. Я видел мученический дух, алчущий выразить себя и таким образом найти освобождение.
Я обернулся к Стрикленду:
– Мне кажется, вы избрали неправильный способ выражения.
– Что за околесицу вы несете?
– Вы, видимо, стараетесь что-то сказать – что именно, я не знаю, но сомневаюсь, можно ли это высказать средствами живописи.
Я ошибся, полагая, что картины Стрикленда дадут мне ключ к пониманию его странной личности. На деле они только заставили меня еще больше ему удивляться. Теперь я уже вовсе ничего не понимал. Единственное, что мне уяснилось – но, может быть, и это была игра воображения, – что он жаждал освободиться от какой-то силы, завладевшей им. А какая это была сила и что значило освобождение от нее, оставалось туманным. Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темей и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их, и потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы похожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная ее языка: им хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные фразы из разговорника. В мозгу их бурлят идеи одна интересней другой, а сказать эти люди могут разве что: «Тетушка нашего садовника позабыла дома свой зонтик».
Итак, основное, что я вынес из картин Стрикленда, – неимоверное усилие выразить какое-то состояние души; в этом усилии, думал я, и следует искать объяснение тому, что так меня поразило. Краски и формы, несомненно, имели для Стрикленда значение, ему самому не вполне понятное. Он испытывал неодолимую потребность выразить то, что чувствовал, и единственно с этой целью создавал цвет и форму. Он, не колеблясь, упрощал, даже извращал и цвет, и форму, если это приближало его к тому неведомому, что он искал. Факты ничего не значили для него, ибо под грудой пустых случайностей он видел лишь то, что считал важным. Казалось, он познал душу вселенной и обязан был выразить ее. Пусть эти картины с первого взгляда смущали и озадачивали, но и волновали они до глубины души. И вот, сам не знаю отчего, я вдруг почувствовал, совсем уж неожиданно, жгучее сострадание к Стрикленду.
– Теперь я, кажется, знаю, почему вы поддались своему чувству к Бланш Струве, – сказал я.
– Почему?
– Мужество покинуло вас. Ваша телесная слабость сообщилась вашей душе. Я не знаю, какая тоска грызет вас, толкает вас на опасные одинокие поиски того, что должно изгнать демона, терзающего вашу душу. По-моему, вы вечный странник, стремящийся поклониться святыне, которой, возможно, не существует. К какой непостижимой нирване вы стремитесь? Я не знаю. Да и вы, вероятно, не знаете. Может быть, вы ищете Правды и Свободы, и на мгновение вам почудилось, что любовь принесет вам вожделенное освобождение? Ваш утомленный дух искал, думается мне, покоя в объятиях женщины, но, не найдя его, вы эту женщину возненавидели. Вы были к ней беспощадны, потому что вы беспощадны к самому себе. Вы убили ее из страха, так как все еще дрожали перед опасностью, которой только что избегли.
Он холодно улыбнулся и потеребил свою бороду.
– Ну и сентиментальны же вы, дружище.
Через неделю я случайно услышал, что Стрикленд отправился в Марсель. Больше я никогда его не видел.
Глава сорок третья
То, что я написал о Стрикленде, конечно, никого удовлетворить не может, задним числом я вполне отдаю себе в этом отчет. Я пересказал кое-какие события, совершившиеся на моих глазах, но они остались темными, ибо я не знаю первопричин этих событий. Самое странное из случившегося – решение Стрикленда стать художником – в моем пересказе выглядит простой причудой; между тем он, разумеется, неспроста принял такое решение, хотя что именно его на это толкнуло, я не знаю. Из собственных его слов мне ничего не уяснилось. Если бы я писал роман, а не просто перечислял известные мне факты из жизни незаурядного человека, я бы придумал уйму всевозможных объяснений для этого душевного переворота. Наверно, я рассказал бы о неудержимом влечении Стрикленда к живописи, в детстве подавленном волей отца или же принесенном в жертву необходимости зарабатывать свой хлеб; я бы изобразил, как гневно он относился к требованиям жизни; обрисовав борьбу между его страстью к искусству и профессией биржевого маклера, я бы мог даже привлечь на его сторону симпатии читателя. Я сделал бы из него весьма внушительную фигуру. Возможно, что кто-нибудь даже увидел бы в нем нового Прометея, и оказалось бы, что я создал современную версию о герое, во имя блага человечества обрекшем себя всем мукам Прометеева проклятия. А это неизменно захватывающий сюжет.
С таким же успехом я мог бы сыскать мотивы его поступка в семейной жизни. Тут к моим услугам имелся бы добрый десяток вариантов. Например, скрытый дар пробивается наружу благодаря знакомству с писателями и художниками, в обществе которых вращается его жена; или: не удовлетворенный семейным кругом, он углубляется в себя; и еще: любовная история раздувает в пламя маленький огонек, который, в моем изображении, сначала бы едва-едва тлел в его душе. В таком случае миссис Стрикленд мне, вероятно, пришлось бы обрисовать совсем по-другому. Не церемонясь с фактами, я бы сделал ее брюзгливой, надоедливой женщиной или ханжой, не понимающей духовных запросов мужа. Брак их я бы изобразил как нескончаемую цепь мучений, разорвать которую можно только бегством. Я бы, наверно, расписал яркими красками его терпеливое отношение к душевно чуждой ему жене и жалость, которая долго не позволяла ему сбросить тяжкое ярмо. О детях, пожалуй, упоминать бы и вовсе не следовало.
Не менее эффектно было бы свести Стрикленда со стариком художником, которого либо нужда, либо жажда наживы некогда заставили отказаться от своего призвания. Видя в Стрикленде возможности, им самим некогда упущенные, старик уговаривает его покончить с прежней жизнью и всецело предаться священной тирании искусства. Этот старый человек, добившийся богатства и высокого положения в свете, который пытается в другом пережить все, на что у него самого недостало мужества, хотя он и сознавал, что искусство – это лучшая доля, должен быть дан слегка иронически.
Факты куда менее значительны. Стрикленд прямо со школьной скамьи поступил в контору биржевого маклера, не испытывая при этом никаких моральных терзаний. До женитьбы он жил, как все молодые люди его круга: понемножку играл на бирже, во время дерби или гребных гонок, случалось, терял два-три соверена. В свободное время он занимался боксом, а на камине у него стояла фотография миссис Лангтри и Мэри Андерсон. Он читал «Панч» и «Спортинг таймс». Ходил на танцы в Хэмпстед.
То, что я потерял Стрикленда из виду на довольно долгий срок, особого значения не имеет. Годы, которые он провел в борьбе за овладение трудным искусством кисти, были достаточно однообразны, а то, чем ему приходилось заниматься, чтобы заработать себе на жизнь, вряд ли представляло хоть какой-нибудь интерес. Рассказывать об этом – значило бы рассказывать о событиях в жизни других людей. Да к тому же эти события не наложили отпечатка на характер Стрикленда. Он видел много сцен, которые могли бы послужить великолепным материалом для плутовского романа о современном Париже, но ничем этим не интересовался и, судя по его разговорам, не вынес ровно никаких впечатлений из своей парижской жизни. Возможно, что, приехав сюда, он был уже слишком стар и потому неподатлив колдовству большого города. Самое странное, что вопреки всему этому он казался мне не только практическим, но и сухо-деловитым человеком. Жизнь его в те годы, несомненно, была полна романтики, но он не подозревал об этом. Для того чтобы почувствовать романтику, надо, вероятно, быть немного актером и уметь, отрешившись от самого себя, наблюдать за своими действиями с глубокой заинтересованностью, но в то же время как бы и со стороны. Стрикленд был абсолютно неспособен на такое раздвоение. Я в жизни не встречал человека, менее занятого собой. К несчастью, я не могу описать тот тернистый путь, идя по которому он сумел покорить себе свое искусство. Если бы я показал, как неустрашимо он переносил неудачи, как мужественно не поддавался отчаянию, как упорно вел борьбу с сомнением – заклятым врагом художника, я вызвал бы симпатию к человеку, который – я это понимаю – покажется весьма несимпатичным. Но мне тут не за что зацепиться. Я никогда не видел Стрикленда за работой, как, вероятно, никто не видел. Тайны своей борьбы он хранил про себя. Если в полном одиночестве своей мастерской он и единоборствовал с ангелом Господним, то ни одна живая душа не знала о его страданиях.
Теперь, когда речь пойдет о его связи с Бланш Струве, я с огорчением вижу, что в моем распоряжении нет ничего, кроме отрывочных, не связанных между собою фактов. Чтобы придать слитность своему рассказу, я должен был бы объяснить, как и почему их союз завершился трагедией, но я ничего не знаю об их жизни в течение этих трех месяцев. Не знаю, как они проводили время и о чем разговаривали. В сутках двадцать четыре часа, а вершины своей чувство достигает лишь в редкие минуты. Я могу только воображать, что они делали все остальные часы. Покуда было светло и Бланш еще не выбивалась из сил, он, вероятно, писал ее, а она сердилась, видя, как он углублен в работу. Она существовала для него только как модель, не как любовница. Но затем оставались еще долгие часы, и они жили бок о бок в полном молчании. Ее это, наверно, пугало. Говоря, что своим уходом к нему Бланш как бы мстила Дирку Струве, пришедшему ей на помощь в трагическую минуту жизни, Стрикленд давал повод ко многим страшным догадкам. Но я надеюсь, что он ошибся. Иначе это было бы слишком печально. Хотя кто может разобраться во всех мельчайших движениях человеческого сердца? Разумеется, не тот, кто ждет от него только благопристойных и нормальных чувств. Когда Бланш поняла, что, несмотря на мгновения страсти, Стрикленд остается чужим ей, она, должно быть, впала в отчаяние, и тут, когда ей уяснилось, что она для него не личность, а только орудие наслаждения, она стала делать жалкие усилия, чтобы привязать его к себе. Она окружала его комфортом, не замечая, что комфорт ничего не значит для этого человека. Она изощрялась, готовя ему лакомые кушанья, и не замечала, что он совершенно равнодушен к еде. Она боялась оставить его одного, преследовала его своим вниманием и, когда его страсть утихала, старалась снова возбудить ее, ибо только в эти мгновения могла питать иллюзию, что он принадлежит ей. Возможно, она умом и понимала, что цепи, которыми она его опутывала, будили в нем только инстинкт разрушения – так, когда видишь зеркальное стекло в окне, руки чешутся запустить в него камнем, – но ее сердце не внимало голосу разума, и она все шла по пути, который – тут она не заблуждалась – был для нее роковым. Должно быть, она была очень несчастна. Но слепая любовь заставила ее верить в то, во что ей хотелось верить, да и обожала она Стрикленда так, что ей казалось невозможным, чтобы он не платил ей любовью.
Беда в том, что мой рассказ о Стрикленде грешит большими недостатками, чем неполное знание фактов из его жизни. Я много написал о его отношениях с женщинами, потому что эти отношения очень бросались в глаза, а между тем им принадлежало весьма скромное место в его жизни. И право же, издевка судьбы, что для женщин, приближавшихся к нему, они оборачивались трагедией. По-настоящему его жизнь состояла из мечты и титанического труда.
Тут-то и начинается литературная неправда. Любовь, как правило, только один из эпизодов в жизни человека, в романах же ей отводится первое место, и это не соответствует жизненной правде. Мало найдется мужчин, для которых любовь – самое важное на свете, и это по большей части неинтересные мужчины; их презирают даже женщины, для которых любовь превыше всего. Преклонение льстит женщинам, волнует их, и все же они не могут отделаться от чувства, что мужчины, все на свете забывающие из-за любви, – убогие создания. Даже в краткие периоды, когда мужчина страстно любит, он занят еще и другими делами, отвлекающими его от любимой. Внимание одного сосредоточено на работе, которая дает ему средства к жизни; другой увлекается спортом или искусством. Большинство мужчин развивают свою деятельность в различных областях; они способны всецело сосредоточиваться на том, что их в данную минуту занимает, и досадуют, если одно перебивает другое. В любви разница между мужчиной и женщиной в том, что женщина любит весь день напролет, а мужчина – только урывками.
В жизни Стрикленда желание занимало очень мало места. Для него оно было чем-то второстепенным и докучным. Душа его рвалась в иные пределы. Он знал буйную страсть, и желание временами терзало его плоть, требуя неистовых оргий чувственности, но он ненавидел этот инстинкт, отнимавший у него власть над самим собой. Мне кажется, Стрикленд ненавидел и ту, что должна была делить с ним вакханалию страсти. Овладев собою, он испытывал отвращение к женщине, которой только что наслаждался. Мысли его уносились в горние страны, и женщина внушала ему ужас, какой может внушить пестрокрылому мотыльку, порхающему с цветка на цветок, неприглядная куколка, из которой он, торжествуя, возник. Мне думается, искусство – это проявление полового инстинкта. Одно и то же чувство заставляет усиленно биться человеческое сердце при виде красивой женщины, Неаполитанского залива в лунном свете и «Положения во гроб» Тициана. Вполне возможно, что Стрикленд ненавидел нормальное проявление полового инстинкта, оно казалось ему низменным по сравнению со счастьем художественного творчества. Мне самому странно, что, описав человека жестокого, эгоистического, грубого и чувственного, я в конце концов прихожу к выводу, что он был подлинным идеалистом. Но факты – упрямая вещь.
Он жил беднее любого батрака. И работал тяжелее, нимало не интересуясь тем, что большинство людей считает украшением жизни. К деньгам он был равнодушен, к славе тоже. Но не стоит воздавать ему хвалу за то, что он противостоял искушению и не шел ни на один из тех компромиссов с обществом, на которые мы все так охотно идем. Он не знал искушения. Ему ни разу даже не пришла на ум возможность компромисса. В Париже он жил более одиноко, чем отшельник в Фиваидской пустыне. Он ничего не требовал от людей, разве чтобы они оставили его в покое. Стремясь к одной лишь цели, он для ее достижения готов был пожертвовать не только собою – на это способны многие, – но и другими. Он был визионер и одержимый.
Да, Стрикленд был плохой человек, но и великий тоже.
Глава сорок четвертая
Немалое значение имеют взгляды художника на искусство, и потому я считаю нужным сказать здесь несколько слов о том, как Стрикленд относился к великим мастерам прошлого. Многого я, конечно, не знаю. Стрикленд был не слишком словоохотлив и то, что ему хотелось сказать, не умел облечь в точные слова, запоминающиеся слушателю. Он не был остроумен. Юмор его, как видно из предыдущего – конечно, если мне хоть в какой-то мере удалось воспроизвести его манеру говорить, – носил сардонический характер. Острил он грубо. Он иногда заставлял собеседника смеяться тем, что говорил правду, но этот вид юмора действителен только в силу своей необычности: если бы чаще слышали правду, никто бы не смеялся.
Стрикленд, я бы сказал, был от природы не слишком умен, и его взгляды на искусство не отличались оригинальностью. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о художниках, работы которых были в известной мере родственны его работам, например о Сезанне или Ван Гоге; я даже не уверен, что он когда-нибудь видел их произведения. Импрессионистами он особенно не интересовался. Технику их он признавал, но я склонен думать, что импрессионистическая манера казалась ему пошлой. Однажды, когда Струве на все лады прославлял Моне, он заметил: «Я предпочитаю Винтерхальтера». Впрочем, он, вероятно, сказал это, чтобы позлить Струве, и, конечно, достиг цели.
Мне очень жаль, что я не могу привести какие-нибудь из ряда вон выдающиеся суждения Стрикленда о старых мастерах. В характере этого человека столько странностей, что возмутительные высказывания о старших собратьях могли бы успешно завершить его портрет. Мне бы очень хотелось навязать ему какие-нибудь фантастические теории относительно его предшественников, но, увы, я должен признаться, что его взгляды мало чем отличались от общепринятых. Я подозреваю, что он не знал Эль Греко, но к Веласкесу относился с каким-то нетерпеливым восторгом. Шарден его восхищал, а Рембрандт приводил в экстаз. Он говорил о впечатлении, которое на него производит Рембрандт, с такой откровенной грубостью, что я не решаюсь повторить его слова. Но вот что было уже совсем неожиданно, так это его живой интерес к Брейгелю-старшему. В то время я почти не знал этого художника, а Стрикленд не умел выражать свои мысли. Я запомнил то, что он говорил о нем, только потому, что это ровно ничего не объясняло.
– Этот настоящий, – заявил Стрикленд. – Бьюсь об заклад, что с него семь потов сходило, когда он писал.
Позднее, увидев в Вене картины Питера Брейгеля, я, кажется, понял, что в нем привлекало Стрикленда. Брейгелю тоже виделся какой-то особый мир, его самого удивлявший. Я тогда хотел написать о нем и сделал ряд заметок в своей записной книжке, но потом потерял ее, и в воспоминании у меня осталось только чувство, вызванное его картинами. Люди представлялись ему уродливыми и комичными, и он был зол на них за то, что они уродливы и комичны, жизнь – смешением комических и подлых поступков, достойных только смеха, но горько ему было над этим смеяться. Мне всегда казалось, что Брейгель средствами одного искусства тщится выразить то, что лучше поддалось бы выражению средствами другого; может быть, поэтому-то и смутно тянуло к нему Стрикленда. Видно, оба они хотели в живопись вложить идеи, бывшие более под стать литературе.
Стрикленду в то время было около сорока семи лет.
Глава сорок пятая
Выше я уже говорил, что, если бы не случайный мой приезд на Таити, я бы никогда не написал этой книги. Дело в том, что после долгих скитаний на Таити очутился Чарлз Стрикленд и там создал картины, на которых главным образом и зиждется его слава. Я думаю, что ни одному художнику не суждено полностью воплотить мечту, властвующую над ним, и Стрикленд, вконец измученный своей борьбой с техникой, сделал, быть может, меньше, чем другие, чтобы воплотить видение, вечно стоявшее перед его духовным взором, но на Таити обстоятельства ему благоприятствовали. В этом новом мирке он нашел много элементов, необходимых для того, чтобы его вдохновение стало плодотворным. Последние картины Стрикленда уже дают некоторое представление о том, что он искал. Они являются какой-то новой и странной пищей для нашей фантазии. Словно в этом далеком краю дух его, до той поры бестелесно бродивший по свету в поисках приюта, обрел наконец плоть и кровь. Выражаясь тривиально, Стрикленд здесь нашел себя.
Казалось бы, что, приехав на этот отдаленный остров, я должен был немедленно вспомнить о Стрикленде, в свое время так сильно меня интересовавшем, но я весь ушел в работу, кроме нее ни о чем не думал и лишь несколько дней спустя вспомнил о том, что его имя связано с Таити. Впрочем, я видел его пятнадцать лет назад, и уже девять прошло с тех пор, как он умер. Кроме того, впечатления от Таити вытеснили из моей головы даже дела, я все еще не мог прийти в себя. Помнится, в первое утро я проснулся чуть свет и вышел на веранду отеля. Нигде ни живой души. Я отправился в кухню, но она была заперта, на скамейке возле двери спал мальчик-туземец. Надежду позавтракать пока что приходилось оставить, и я пошел вниз, к морю. Китайцы уже раскладывали товар в своих лавчонках. Предрассветное небо было бледно, и над лагуной стояла призрачная тишина. В десяти милях от берега высился остров Муреа, хранивший свою тайну, словно твердыня святого Грааля.
Я все еще не верил своим глазам. Дни, прошедшие со времени моего отплытия из Веллингтона, были так необычны, так непохожи на все другие дни. Веллингтон – чистенький, совсем английский городок, точь-в-точь такой, как все портовые городки южной Англии. В море три дня бушевал шторм. Серые, рваные тучи тянулись по небу друг за дружкой. Затем ветер стих, море успокоилось, стало синим. Тихий океан пустыннее других морей, просторы его кажутся безграничными, а самое заурядное плавание по нему отдает приключением. Воздух, который мы вдыхаем, – это эликсир, подготавливающий к неожиданному и неизведанному.
Лишь раз в жизни дано смертному испытать чувство, что он вплывает в золотое царство фантазии, – когда взору его открываются берега Таити. Вы видите еще и соседний остров Муреа, каменное диво, таинственно вздымающееся среди водной пустыни. Со своими зубчатыми очертаниями он точно Монтсеррат Тихого океана, и вам начинает казаться, что полинезийские рыцари свершают там диковинные обряды, охраняя недобрую тайну. Красота этого острова раскрывается по мере приближения к нему, когда становятся отчетливо видны восхитительные изломы его вершин, но он бережно хранит свою тайну и, стоит вам поравняться с ним, весь как бы съеживается, замыкается в скалистую, неприступную суровость. И если б он исчез, покуда вы ищете проход между рифами, и перед вами простерлась бы лишь синяя пустыня океана, то и в этом, кажется, не было бы ничего удивительного.
Таити – высокий зеленый остров, с полосами более темной зелени, в которых вы угадываете молчаливые долины; в их темной таинственной глубине журчат и плещутся студеные потоки, и чувствуешь, что жизнь в этих тенистых долах с незапамятных времен шла по одним и тем же незапамятным путям. В таком чувстве есть печаль и страх. Но это мимолетное впечатление лишь обостряет радость минуты. Так на миг промелькнет печаль в глазах шутника, когда веселые сотрапезники до упаду смеются над его остротами, – рот его улыбается, шутки становятся веселее, но одиночество его еще нестерпимее. Таити улыбается, приветствуя вас; этот остров как обворожительная женщина, что расточает свою прелесть и красоту, и нет на свете ничего милее гавани Папеэте. Шхуны, стоящие на якоре у причала, сияют чистотой, городок, что тянется вдоль бухты, бел и наряден, а тамаринды, полыхающие под синью неба, яростны, словно крик страсти. Дух захватывает от того, как они чувственны в своем бесстыдном неистовстве. Встречать пароход на пристань высыпает веселая, жизнерадостная толпа; она шумит, радуется, жестикулирует. Это море коричневых лиц. Точно все цвета радуги волнуются и колышутся здесь под лазурным, блистающим небом. Суматоха все время отчаянная – при разгрузке багажа, при таможенном досмотре, и кажется, что все улыбаются вам. Солнце печет нестерпимо. Пестрота ослепляет.
Глава сорок шестая
В первые же дни моего пребывания на Таити я свел знакомство с капитаном Николсом. Однажды утром, когда я завтракал на веранде, он вошел и представился мне. Прослышав, что я интересуюсь Чарлзом Стриклендом, капитан Николс явился поговорить со мной. На Таити судачат не хуже, чем в английской деревне, и слух о том, что я раза два или три спросил относительно картин Стрикленда, распространился с молниеносной быстротой. Я поинтересовался, завтракал ли капитан.
– Да, – отвечал он, – я рано пью кофе, но от глоточка виски не откажусь.
Я кликнул боя-китайца.
– А может, не стоит пить спозаранку? – сказал капитан.
– Ну, это уж вы спрашивайте вашу печень, – отвечал я.
– Собственно, я трезвенник, – заметил капитан, наливая себе добрых полстакана канадского виски.
Смеясь, он показывал желтые поломанные зубы. Капитан был очень худой человек, среднего роста, с седой шевелюрой и седыми топорщившимися усами. Он явно не брился уже два дня. Лицо его, коричневое от постоянного пребывания на солнце, было изборождено морщинами, а голубые глазки смотрели удивительно плутовато. Они бегали быстро-быстро, следя за каждым моим движением, и придавали капитану изрядно жуликоватый вид, хотя в настоящую минуту он был, можно сказать, сама доброжелательность. Его костюм цвета хаки выглядел весьма неопрятным, а руки очень нуждались в воде и мыле.
– Я хорошо знал Стрикленда, – начал он, закурив сигарету, которую я ему предложил, и поудобнее устраиваясь в кресле. – Благодаря мне он и попал на эти острова.
– Где вы с ним повстречались? – спросил я.
– В Марселе.
– Что вы там делали?
Он заискивающе улыбнулся.
– Гм, я там, собственно, сидел без работы.
Судя по виду моего нового приятеля, он и теперь находился не в лучшем положении; я уже приготовился поддержать это приятное знакомство. Такие шалопаи, как правило, вознаграждают нас за мелкие моральные издержки, которые несешь, общаясь с ними. Они легко сближаются, разговорчивы. Заносчивость чужда им, а предложение выпить – вернейший путь к их сердцу. Вам нет нужды завоевывать их расположение, и за то, что вы будете внимательно слушать их россказни, они заплатят вам не только доверием, но и благодарностью.
Для них первейшее удовольствие в жизни – почесать язык и заодно щегольнуть своей образованностью, и надо признать, по большей части они превосходные рассказчики. Излишество их жизненного опыта приятно уравновешивается живостью воображения. Простаками их, конечно, не назовешь, но они уважают закон, когда он опирается на силу. Играть с ними в покер – рискованное занятие, но их сноровка придает дополнительную своеобразную прелесть этой лучшей в мире игре. Я хорошо узнал капитана Николса за время своего пребывания на Таити, и это знакомство, безусловно, обогатило меня. Сигары и виски, за которые я платил (от коктейля он, как заядлый трезвенник, раз и навсегда отказался), так же как и те несколько долларов, которые капитан взял у меня взаймы с видом, ясно говорившим, что он делает мне величайшее одолжение, отнюдь не эквивалентны тому, что я от него получил: он развлекал меня. Я остался его должником и не вправе отделаться от него двумя словами.
Не знаю, почему капитану Николсу пришлось уехать из Англии. Он об этом старательно умалчивал, а задавать вопросы людям его склада – заведомая бестактность. Он намекал на какую-то беду, незаслуженно его постигшую, и вообще считал себя жертвой несправедливости. Я полагал, что речь идет о мошенничестве или о насилии, и охотно поддакивал ему: да, судейские чиновники в старой Англии – отчаянные формалисты. Зато как это хорошо, что, несмотря на все неприятности, испытанные им в родной стране, он остался пламенным патриотом. Он неоднократно заявлял, что Англия – лучшая страна в мире, и живо чувствовал свое превосходство над американцами и жителями колоний, итальяшками, голландцами и канаками.
Но счастливым капитан все-таки не был. Он страдал от дурного пищеварения и то и дело глотал таблетки пепсина; по утрам у него не было аппетита, что, впрочем, не ухудшало его настроения. У него имелись и другие основания роптать на жизнь. Восемь лет назад он опрометчиво женился. Есть люди, которым милосердное провидение предуказало холостяцкое житье, но они из своенравия или по случайному стечению обстоятельств нарушают его волю. Нет на свете ничего более жалкого, чем женатый холостяк. А капитан Николс был женатым холостяком. Я знал его жену, ей было лет двадцать восемь – впрочем, она принадлежала к тому типу женщин, возраст которых не определишь; такой она была, вероятно, в двадцать лет и в сорок тоже едва ли выглядела старше. Мне казалось, что она вся как-то стянута. Ее плоское лицо с узкими губами было стянуто, кожа плотно обтягивала кости, рот кривился в натянутой улыбке, волосы были стянуты в тугой узел, платье сидело в обтяжку, а белое полотно, из которого оно было сшито, выглядело как черная бумазея. Я никак не мог понять, почему капитан Николс на ней женился, а женившись, почему от нее не удрал. Впрочем, кто знает, может быть, он не раз пытался это сделать; меланхолия же его именно тем и объяснялась, что все эти попытки терпели крушение. Как бы далеко он ни уходил, в какое бы укромное местечко ни забивался, миссис Николс, неумолимая, как судьба, и беспощадная, как совесть, немедленно настигала его. Он не мог избавиться от нее, как причина не может избавиться от следствия.
Мошенник, артист, а может быть, и джентльмен не принадлежит ни к какому классу. Его не проймешь нахальной бесцеремонностью бродяги и не смутишь чопорным этикетом королевского двора. Но миссис Николс принадлежала к сословию, так сказать, ниже среднего. Папаша ее был полисменом – и, я уверен, весьма расторопным. Не знаю, чем она привязала к себе капитана, но не думаю, чтобы узами любви. Я от нее слова не слышал, но не исключено, что в домашней обстановке это была весьма говорливая особа. Так или иначе, но капитан Николс смертельно ее боялся. Иногда мы с ним сидели на террасе отеля, и он вдруг замечал, что она проходит по улице. Она его не окликала, ни словом, ни жестом не показывала, что видит его, а невозмутимо шагала туда и обратно. Странное беспокойство овладевало тогда капитаном Николсом: он начинал смотреть на часы и вздыхать.
– Ну, мне пора, – говорил он наконец.
И тут уже ничем нельзя было удержать его, даже стаканом виски. А ведь он неустрашимо встречал ураганы, тайфуны и, вооруженный одним только револьвером, не задумываясь вступил бы в драку с десятком безоружных негров. Случалось, что миссис Николс посылала за ним дочь, бледную, сердитую девочку лет семи.
– Тебя мама зовет, – говорила она плаксивым голосом.
– Иду, иду, деточка, – отвечал капитан Николс.
Он вскакивал и шел за дочерью. Прекрасный пример торжества духа над материей, а следовательно, в отступлении, которое я себе позволил, по крайней мере имеется мораль.
Глава сорок седьмая
Я постарался придать некоторую слитность отрывочным рассказам капитана Николса о Стрикленде, которые и перескажу сейчас по возможности последовательно. Они познакомились зимой того же года, когда я в последний раз видел Стрикленда в Париже. Как он жил эти месяцы после нашей встречи, я не знаю, но, видно, ему пришлось очень круто, так как Николс встретился с ним в ночлежном доме. В Марселе в то время была всеобщая забастовка, и Стрикленд, оставшись без денег, не мог заработать даже те гроши, которые были ему необходимы, чтобы душа не рассталась с телом.
Монастырский ночлежный дом в Марселе – это большое мрачное здание, где бедняки и безработные получали право одну неделю пользоваться койкой, если у них были в порядке документы и они могли доказать монахам, что не являются беспаспортными бродягами. Капитан Николс тотчас же заметил Стрикленда, выделявшегося своим ростом и оригинальной наружностью, в толпе возле дверей ночлежки; они ждали молча: кто шагал взад и вперед, кто стоял, прислонившись к стене; многие сидели на обочине дороги, свесив ноги в канаву. Когда их наконец впустили в контору, капитан услышал, что проверявший документы монах обратился к Стрикленду по-английски. Но капитану не удалось заговорить с ним: как только их впустили в общую комнату, туда тотчас же явился монах с громадной Библией и с кафедры, стоявшей в конце помещения, начал проповедь, которую эти несчастные должны были слушать в уплату за то, что их здесь приютили. Капитан и Стрикленд были назначены в разные спальни, а в пять часов утра, когда дюжий монах объявил подъем и капитан заправлял свою койку и умывался, Стрикленд уже исчез. Капитан около часу пробродил по улицам, дрожа от холода, а потом отправился на площадь Виктора Желю, где обычно собирались безработные матросы. Там он опять увидел Стрикленда, дремлющего у пьедестала памятника. Он разбудил его пинком.
– Пошли, браток, завтракать!
– Иди ко всем чертям, – отвечал Стрикленд.
Я узнал лаконичный стиль Стрикленда и решил, что свидетельству капитана Николса можно верить.
– Сидишь на мели? – спросил капитан.
– Проваливай, – сказал Стрикленд.
– Пойдем со мной, я тебе раздобуду завтрак.
Поколебавшись секунду-другую, Стрикленд встал, и они пошли в столовую «Ломоть хлеба», где голодным и вправду давали по куску хлеба с условием, что он будет съеден на месте: «навынос» хлеб не выдавался. Оттуда они двинулись в «Ложку супа», там в одиннадцать утра и в четыре дня бедняки получали по тарелке жидкой соленой похлебки. Столовые эти находились в разных концах города, так что только вконец изголодавшийся человек мог соблазниться таким завтраком. С этого началась своеобразная дружба Чарлза Стрикленда и капитана Николса.
Они провели в Марселе месяца четыре. Жизнь их текла без всяких приключений, если под приключением понимать неожиданные и яркие происшествия, ибо они с утра до вечера были заняты поисками заработка, которого хватило бы на оплату койки в ночлежном доме и на кусок хлеба, достаточный, чтобы заглушить муки голода. Мне бы очень хотелось воспроизвести здесь те характерные и красочные картины, которые развертывались передо мною в передаче капитана Николса. Оба они такого навидались за время своей жизни «на дне» большого портового города, что из этого получилась бы преинтересная книжка, а разговоры действующих лиц в рассказе капитана Николса могли бы послужить отличным материалом для составления полного словаря блатного языка. Но, к сожалению, я могу привести здесь лишь отдельные эпизоды. Начнем с того, что это было примитивное, грубое, но не унылое существование. И Марсель, который я знал, Марсель оживленный и солнечный, с комфортабельными гостиницами и ресторанами, наполненными сытой толпой, стал казаться мне банальным и серым. Я завидовал людям, которые собственными глазами видели все то, что я только слышал из уст капитана Николса.
После того как двери ночлежного дома закрылись перед ними, они оба решили прибегнуть к гостеприимству некоего Строптивого Билла. Это был хозяин матросской харчевни, рыжий мулат с тяжеленными кулаками, который давал приют и пищу безработным матросам и сам же подыскивал им места. Стрикленд и Николс прожили у него, наверно, с месяц, спали на полу вместе с другими матросами – шведами, неграми, бразильцами – в двух совершенно пустых комнатах, отведенных хозяином для своих постояльцев, и каждый день отправлялись вместе с ним на площадь Виктора Желю, куда приходили капитаны пароходов в поисках рабочей силы. Строптивый Билл был женат на толстой обрюзгшей американке, бог весть каким образом дошедшей до такой степени падения, и его постояльцам вменялось в обязанность поочередно помогать ей по хозяйству. Капитан Николс считал, что Стрикленд ловко увильнул от этой работы, написав портрет Билла. Последний не только уплатил за холст, краски и кисти, но еще дал Стрикленду в придачу фунт контрабандного табаку. Полагаю, что эта картина и по сей день украшает гостиную полуразрушенного домишка неподалеку от набережной и теперь наверняка стоит полторы тысячи фунтов. Стрикленд мечтал поступить на какое-нибудь судно, идущее к берегам Австралии или Новой Зеландии, и уже оттуда пробраться на Самоа или на Таити. Почему Стрикленда потянуло в Южные моря, не знаю, но, помнится, ему давно представлялся остров, зеленый и солнечный, среди моря, более синего, чем моря северных широт. Он, наверно, и привязался к капитану Николсу потому, что тот знал эти далекие края. Мысль отправиться именно на Таити тоже исходила от Николса.
– Таити ведь принадлежит французам, – пояснил мне капитан, – а французы не такие чертовские формалисты, как англичане.
Я понял, что он имеет в виду.
У Стрикленда не было нужных бумаг, но подобные пустяки Билла не смущали, когда можно было хорошо подработать (он забирал у матросов, которых устраивал на корабль, жалованье за весь первый месяц). Итак, он снабдил Стрикленда документами одного английского кочегара, весьма кстати умершего у него в харчевне. Но оба они, и капитан Николс, и Стрикленд, рвались на восток, а работа, как назло, представлялась только на пароходах, идущих на запад. Стрикленд дважды отказался от места на судах, отправляющихся в Соединенные Штаты, и в третий раз – на угольщике, идущем в Ньюкасл. Строптивый Билл не терпел упрямства, из-за которого мог остаться внакладе, и без всяких церемоний вышвырнул обоих из своего заведения. Они снова сели на мель.
Еда у Строптивого Билла не отличалась роскошеством, из-за стола его нахлебники вставали почти такими же голодными, как и садились за него, и все-таки Стрикленд и Николс в течение нескольких дней с нежностью вспоминали об этих обедах. «Ложка супа» и ночлежный дом были закрыты для них, и они поддерживали свое существование только тем, на что расщедривался «Ломоть хлеба». Спали они где придется: в товарных вагонах на запасных путях или под повозками у пакгауза, но холод стоял лютый, и, продремав часа два, они начинали бегать по улицам. Больше всего оба страдали без табаку, и капитан отправлялся «на охоту» к пивному заведению – подбирать окурки папирос и сигар, брошенные вечерними посетителями.
– Я бог знает чем набивал свою трубку, – заметил капитан, меланхолически пожимая плечами, и взял из ящика, который я ему пододвинул, сразу две сигары: одну он сунул в рот, другую – в карман.
Временами им удавалось зашибить немножко денег. Когда приходил почтовый пароход, они работали на его разгрузке, так как капитан Николс ухитрился завязать знакомство с боцманом. Иногда они хитростью проникали на бак английского парохода, и команда угощала земляков сытным завтраком. При этом они рисковали наткнуться на корабельное начальство и кубарем скатиться по трапу да еще получить пинок вдогонку.
– Ну, да пинок в зад – беда небольшая, если брюхо полно, – заметил капитан Николс, – и лично я на это дело не обижался. Начальству положено наблюдать за дисциплиной.
Я живо представил себе, как капитан Николс вверх тормашками летит по узенькому трапу и, будучи истым англичанином, восхищается дисциплиной английского торгового флота.
Чаще всего они промышляли на рыбном рынке, а как-то раз получили по франку за погрузку на товарную платформу неисчислимого количества ящиков с апельсинами, сваленных у причала. Однажды им сильно повезло: знакомый «хозяин» взял подряд на покраску судна, которое прибыло с Мадагаскара, обогнув мыс Доброй Надежды, и они несколько дней кряду провисели в люльке, нанося слой краски на его заржавленные борта. Положение это, безусловно, должно было вызвать сардонические реплики Стрикленда. Я спросил Николса, как вел себя Стрикленд во время всех этих испытаний.
– Ни разу не слыхал, чтобы он хоть выругался, – отвечал капитан. – Иногда он, конечно, хмурился, но, если у нас с утра до вечера маковой росинки во рту не бывало и нечем было заплатить китаезе за ночлег, он только посмеивался.
Меня это не удивило. Стрикленд никогда не падал духом от неблагоприятных обстоятельств, но было ли то следствием невозмутимости характера или гордости, судить не берусь.
«Головой китаезы» портовый сброд прозвал грязный притон на улице Бутери; его содержал одноглазый китаец, и там за шесть су можно было получить койку, а за три выспаться на полу. Здесь оба они завели себе друзей среди таких же горемык и, когда у них не было ни гроша, а на дворе стояла стужа, не стесняясь, брали у них взаймы несколько су из случайно заработанного франка, чтобы оплатить ночлег. Эти бродяги, не задумываясь, делились последним грошом с такими же, как они. В марсельский порт стекались люди со всего света, но различие национальностей не служило помехой доброй дружбе, все они чувствовали себя свободными гражданами единой страны – великой страны Кокейн.
– Но зато рассвирепевший Стрикленд бывал страшен, – задумчиво процедил капитан Николс. – Как-то раз мы зашли в логово Строптивого Билла, и тот спросил у Чарли документы, которыми когда-то ссудил его.
– А ну, возьми, попробуй! – сказал Чарли.
Строптивый Билл был здоровенным детиной, но вид Чарли ему не понравился, и он стал на все лады честить его. А когда Билл ругался, его, право же, небезынтересно было послушать. Чарли терпел-терпел, а затем шагнул вперед и сказал: «Вон отсюда, скотина!» Тут важно не что он сказал, а как сказал! Билл ни слова ему не ответил, пожелтел весь и смотался так быстро, точно спешил на свидание.
В передаче капитана Николса Стрикленд обозвал Билла вовсе не «скотиной», но, поскольку эта книга предназначена для семейного чтения, я, в ущерб точности, решил вложить в уста Стрикленда слова, принятые в семейном кругу.
Но не таков был Строптивый Билл, чтобы стерпеть унижение от простого матроса. Его власть зависела от престижа, и прошел слух, что он поклялся прикончить Стрикленда.
Однажды вечером капитан Николс и Стрикленд сидели в кабачке на улице Бутери. Это узкая улица, застроенная одноэтажными домишками – по одной комнате в каждом, похожими не то на ярмарочные балаганы, не то на клетки в зверинце. У каждой двери там стоят женщины. Одни, лениво прислонившись к косяку, мурлычут какую-то песенку, хриплыми голосами зазывают прохожих, другие молча читают. Есть здесь француженки, итальянки, испанки, японки и темнокожие. Есть худые и толстые. Густой слой белил, подведенные брови, ярко-красные губы не скрывают следов, оставленных временем и развратом. Некоторые из этих женщин одеты в черные «рубашки» и телесного цвета чулки; на других короткие муслиновые платьица, как у девочек, а крашеные волосы завиты в мелкие кудряшки. Через открытую дверь виднеется пол, выложенный красным кафелем, широкая деревянная кровать, кувшин и таз на маленьком столике. Пестрая толпа слоняется по улице – индийцы-матросы, белокурые северяне со шведского парусника, японцы с военного корабля, английские моряки, испанцы, щеголеватые молодые люди с французского туристического парохода, негры с американских торговых судов.
Днем улица Бутери грязна и убога, но по ночам, освещенная только лампами в окнах хибарок, она красива какой-то зловещей красотой. Омерзительная похоть, пронизывающая воздух, гнетет и давит, и тем не менее есть что-то таинственное в этой картине, что-то тревожное и захватывающее. Все здесь насыщено первобытной силой; она внушает отвращение и в то же время очаровывает. Могучим потоком снесены условности цивилизации, и люди на этой улице стоят лицом к лицу с сумрачной действительностью. Атмосфера напряженная и трагическая.
В кабачке, где сидели Стрикленд и Николс, пианола громко отбарабанивала танцы. По стенам за столиками расселись пьяные в дым матросы и несколько человек солдат; посредине, сбившись в кучу, танцевали пары. Бородатые загорелые моряки с большими мозолистыми руками крепко прижимали к себе девиц, на которых не было ничего, кроме рубашки. Случалось, что два матроса вставали из-за столика и шли танцевать в обнимку. Шум стоял оглушительный. Посетители пели, ругались, хохотали. Когда какой-нибудь мужчина долгим поцелуем впивался в сидящую у него на коленях девицу, английские матросы оглушительно мяукали. Воздух был тяжелый от пыли, поднимаемой сапогами мужчин, и сизый от табачного дыма. Жара стояла отчаянная. Женщина, сидевшая за стойкой, кормила грудью ребенка. Официант, низкорослый парень с прыщавым лицом, носился взад и вперед с подносом, уставленным кружками пива.
Вскоре туда явился Строптивый Билл в сопровождении двух дюжих негров; с первого взгляда можно было определить, что он уже основательно хлебнул. Он тотчас же стал напрашиваться на скандал. Толкнул столик, за которым сидело трое солдат, и опрокинул кружку пива. Началась свара, хозяин вышел и предложил Биллу убираться вон. Малый он был здоровенный, скандалов в своем заведении не терпел, и Билл заколебался. Связываться с кабатчиком не имело смысла, полиция всегда была на его стороне; итак, Билл крепко выругался и пошел к двери. Но тут ему на глаза попался Стрикленд. Ни слова не говоря, он ринулся к его столику и плюнул ему в лицо. Стрикленд швырнул в него пивной кружкой. Танцующие остановились. На мгновение воцарилась полная тишина, но, когда Строптивый Билл бросился на Стрикленда, всех до одного охватила жажда драки, и началась свалка. Столы опрокидывались, осколки летели на пол. Шум поднялся адский. Женщины врассыпную бросились на улицу и за стойку. Прохожие вбегали и вмешивались в потасовку. Теперь уже слышались проклятия на всех языках, удары, вопли; посреди комнаты в яростный клубок сцепились человек десять матросов. Откуда ни возьмись явилась полиция, и все, кто мог, постарались улизнуть. Когда зал был очищен, на полу без сознания остался лежать Строптивый Билл с глубокой раной на голове. Капитан Николс выволок на улицу Стрикленда, рука у него была ранена, лицо и изодранная одежда – в крови; Николсу разбили нос.
– Лучше тебе смотаться из Марселя, покуда Билл не вышел из больницы, – сказал он Стрикленду, когда они уже добрались до «Головы китаезы» и по мере возможности приводили себя в порядок.
– Это, пожалуй, почище петушиного боя, – заметил Стрикленд.
При этих словах мне сразу представилась его сардоническая улыбка.
Капитан Николс был в тревоге. Он хорошо знал мстительность Строптивого Билла. Стрикленд дважды одолел мулата, а когда Билл трезв, с ним лучше не связываться. Он теперь будет действовать исподтишка. Торопиться он не станет, но в одну прекрасную ночь Стрикленд получит удар ножом в спину, а через день-два тело неизвестного бродяги будет выловлено из грязной воды в гавани. На следующий день капитан отправился на разведку к дому Строптивого Билла. Он еще лежал в больнице, но жена, которая ходила его навещать, сказала, что он поклялся убить Стрикленда, как только вернется домой.
Прошла целая неделя.
– Я всегда говорил, – задумчиво продолжал капитан Николс, – что если уж ты дал тумака, то пусть это будет основательный тумак. Тогда у тебя по крайней мере хватит времени поразмыслить о том, что делать дальше.
Но Стрикленду вдруг повезло. В бюро по найму матросов поступила заявка – на пароход, идущий в Австралию, срочно требовался кочегар, так как прежний в приступе белой горячки бросился в море возле Гибралтара.
– Беги скорей в гавань и подписывай контракт, – сказал капитан Николс. – Бумаги у тебя, слава Богу, есть.
Стрикленд последовал его совету, и больше они не виделись. Пароход простоял в гавани всего шесть часов, и вечером, когда он уже рассекал студеные волны, капитан увидел на востоке исчезающий дымок.
Я старательно изложил все слышанное от капитана потому, что меня привлек контраст между этими событиями и той жизнью, которой при мне жил Стрикленд на Эшли-Гарденз, занятый биржевыми операциями. Но, с другой стороны, я знаю, что капитан Николс – отъявленный враль и, возможно, в его рассказе нет ни слова правды. Я бы не удивился, узнав, что он никогда в жизни не видел Стрикленда и что все его описания Марселя вычитаны из иллюстрированных журналов.
Глава сорок восьмая
На этом я предполагал закончить свою книгу. Сперва мне хотелось описать последние годы Стрикленда на Таити и его страшную кончину а затем обратиться вспять и познакомить читателей с тем, что мне было известно о его первых шагах как художника. И не потому, что так мне заблагорассудилось, а потому, что я сознательно хотел расстаться со Стриклендом в пору, когда он с душою, полной смутных грез, покидал Европу для неведомого острова, давно уже дразнившего его воображение. Мне нравилось, что этот человек в сорок семь лет, то есть в возрасте, когда другие живут налаженной, размеренной жизнью, пустился на поиски нового света. Я уже видел серое море, вспененное мистралем, и пароход; с борта его Стрикленд смотрит, как скрываются вдали берега Франции, на которые ему не суждено вернуться; и я думал, что много все-таки бесстрашия было в его сердце. Я хотел, чтобы конец моей книги был оптимистическим. Как это подчеркнуло бы несгибаемую силу человеческой души! Но ничего у меня не вышло. Не знаю почему, повесть моя не желала строиться, и после нескольких неудачных попыток я отказался от этого замысла, начал, как положено, книгу сначала и решил рассказать читателю только то, что я знал о жизни Стрикленда, последовательно излагая факты.
Но в моем распоряжении были лишь самые отрывочные сведения. Я оказался в положении биолога, которому по одной кости предстоит восстановить не только внешний вид доисторического животного, но и его жизненный уклад. Стрикленд не произвел сильного впечатления на людей, которые соприкасались с ним на Таити. Для них он был просто бродяга без гроша за душой, отличавшийся от других бродяг разве тем, что малевал какие-то чудные картины. И лишь через несколько лет после его смерти, когда на остров из Парижа и Берлина съехались агенты крупных торговцев картинами в надежде, что там еще можно будет разыскать кое-что из творений Стрикленда, они стали догадываться, что среди них жил человек весьма недюжинный. Тут их осенило, что они за медный грош могли купить полотна, которые стоили теперь огромных денег, и они очень сокрушались об упущенных возможностях. Среди жителей Папеэте, знавших Стрикленда, был один французский еврей по имени Коэн, у которого случайно оказалась картина Стрикленда. Маленький старичок с добродушными глазками и приветливой улыбкой, наполовину торговец, наполовину моряк, он курсировал на собственной шхуне между Паумоту и Маркизскими островами, привозя туда всевозможные товары и взамен забирая копру, перламутр и жемчуг. Мне сказали, что он собирается недорого продать большую черную жемчужину, и я пошел к нему; когда же выяснилось, что жемчужина мне все равно не по карману, я заговорил с ним о Стрикленде. Старик хорошо знал его.
– Я, видите ли, интересовался им, потому что он был художник. У нас на островах художник – редкость, и я очень жалел его за то, что он так слаб в своем ремесле. Я первый дал ему работу. У меня есть плантация на полуострове, и туда требовался надсмотрщик. От туземцев ведь работы не добьешься, если над ними нет белого надсмотрщика. Я ему сказал: «У вас останется куча времени, чтобы писать картины, и денег немножко подработаете». Я знал, что он голодает, и предложил ему хорошее жалованье.
– Не думаю, чтобы он был хорошим надсмотрщиком, – улыбнулся я.
– Я смотрел на это сквозь пальцы, потому что всегда любил художников. Это ведь у нас в крови. Но он прослужил у меня всего два или три месяца и ушел, как только заработал денег на холст и краски. Он восхищался здешней природой, и его опять потянуло бродяжничать. Но я иногда продолжал с ним встречаться. Он изредка наведывался в Папеэте и по нескольку дней жил там, а потом, если ему удавалось достать у кого-нибудь денег, опять исчезал. В один из таких наездов он пришел ко мне и попросил взаймы двести франков. Вид у него был такой, словно он не ел целую неделю, и у меня не хватило духу ему отказать. На этих деньгах я, конечно, поставил крест. И вдруг через год он является и приносит мне картину. Он словом не обмолвился о долге, а только сказал: «Вот вам вид вашей плантации, я его написал для вас». Я взглянул на нее и не знал, что сказать, но, конечно, поблагодарил, а когда он ушел, я показал ее жене.
– Что же это была за картина? – спросил я.
– Лучше не спрашивайте. Я в ней ровно ничего не понял, так как отродясь подобного не видывал. «Что нам с ней делать?» – сказал я жене. «О том, чтобы повесить ее, нечего и думать, – отвечала она, – люди будут смеяться над нами». Она снесла картину на чердак, где у нас лежала пропасть всякого хлама, потому что моя жена не в состоянии выбросить ни одной вещи. Это ее мания. Можете себе представить мое изумление, когда перед самой войной брат написал мне из Парижа: «Не знаешь ли ты чего-нибудь об английском художнике, который жил на Таити? Оказалось, что он гений и его картины идут по очень высокой цене. Постарайся разыскать что-нибудь из его вещей и пришли мне. Можно хорошо заработать». Я спрашиваю жену, как насчет картины, которую мне подарил Стрикленд? Может, она все еще на чердаке? «Конечно, на чердаке, – говорит жена, – ты же знаешь, что я никогда ничего не выбрасываю, это моя мания». Мы с ней полезли на чердак и среди бог знает какого хлама, накопившегося за тридцать лет нашей жизни в этом доме, разыскали картину. Я опять смотрю на нее и говорю: «Ну кто бы мог подумать, что надсмотрщик с моей плантации, которому я дал взаймы двести франков, окажется гением? Скажи на милость, что хорошего в этой картине?» – «Не знаю, – отвечала она, – на нашу плантацию это нисколько не похоже, и кокосовых пальм с синими листьями я никогда не видала. Но они там все с ума посходили в Париже и, может, твоему брату удастся продать ее за двести франков, которые тебе задолжал Стрикленд». Сказано – сделано. Мы запаковали и отправили картину. В скором времени пришло письмо от брата. И что же, вы думаете, он написал? «Получив твою картину, я сначала решил, что тебе вздумалось надо мной подшутить. Я бы лично не дал за нее и того, что стоила пересылка. Я даже боялся показать ее тому человеку, который надоумил меня послать тебе запрос. Можешь себе представить, как я был удивлен, когда он объявил, что это замечательное произведение искусства, и предложил мне тридцать тысяч франков. Он, может быть, дал бы и больше, но я, откровенно говоря, совсем обалдел и согласился, не успев даже собраться с мыслями».
И затем мосье Коэн сказал нечто совершенно очаровательное:
– Как жаль, что бедняга Стрикленд не дожил до этого дня. Воображаю его удивление, когда я бы вручил ему за его картину двадцать девять тысяч восемьсот франков.
Глава сорок девятая
Я жил в «Отель де ля флёр», и хозяйка его, миссис Джонсон, поведала мне печальную историю о том, как она прозевала счастливый случай. После смерти Стрикленда часть его имущества продавалась с торгов на рынке в Папеэте. Миссис Джонсон отправилась на торги, потому что среди его вещей была американская печка, которую ей хотелось приобрести. В конце концов она и купила ее за двадцать семь франков.
– Там было еще штук десять картин, да только без рам, – рассказывала она, – и никто на них не льстился. Некоторые пошли за десять франков, а большинство за пять или за шесть. Подумать только, если бы я их купила, я бы теперь была богатой женщиной.
Нет, Тиаре Джонсон ни при каких обстоятельствах не стала бы богатой женщиной. Деньги текли у нее из рук. Она была дочерью туземки и английского капитана, обосновавшегося на Таити. Когда я с ней познакомился, ей было лет пятьдесят, но выглядела она старше – прежде всего из-за своих громадных размеров. Высокая и страшно толстая, она казалась бы величественной, если б ее лицо способно было выразить что-нибудь, кроме добродушия. Руки ее напоминали окорока, грудь – гигантские кочны капусты; лицо миссис Джонсон, широкое и мясистое, почему-то казалось неприлично голым, а громадные подбородки переходили один в другой – сколько их было, сказать не берусь: они утопали в ее бюсте. Она с утра до вечера ходила в розовом капоте и широкополой соломенной шляпе. Но когда она распускала свои темные, длинные и вьющиеся волосы, а делала она это нередко, потому что они составляли предмет ее гордости, то ими нельзя было не залюбоваться, и глаза у нее все еще оставались молодыми и задорными. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь смеялся заразительнее, чем она. Смех ее, начавшись с низких раскатов где-то в горле, становился все громче и громче, причем сотрясалось все ее огромное тело. Превыше всего на свете она ставила веселую шутку, стакан вина и красивого мужчину. Знакомство с нею было истинным удовольствием.
Лучшая повариха на острове, Тиаре обожала вкусно покушать. С утра до поздней ночи восседала она в кухне на низеньком стуле, вокруг нее суетились повар-китаец и три девушки-туземки, а она отдавала приказания, весело болтала со всеми и пробовала пикантные кушанья собственного изобретения. Если ей хотелось почтить кого-нибудь из друзей, она собственноручно стряпала обед. Гостеприимство ее не знало границ, и не было человека на острове, который ушел бы без обеда из «Отель де ля флёр», пока в ее кладовой были хоть какие-нибудь припасы. Тиаре никогда не выгоняла постояльцев, не плативших по счетам, надеясь, что со временем дела их поправятся и они отдадут свой долг. Один из них попал в беду, и она в течение многих месяцев ничего с него не спрашивала за стол и квартиру, а когда в китайской прачечной отказались бесплатно стирать ему, она стала отдавать в стирку его белье вместе со своим. «Нельзя же, чтоб бедный малый разгуливал в грязных рубашках», – говорила Тиаре, а поскольку он был мужчина – мужчины же должны курить, – то она ежедневно выдавала ему по франку на папиросы. При этом она была с ним ничуть не менее обходительна, чем с другими постояльцами.
Годы и тучность сделали ее неспособной к любви, но она с живейшим интересом вникала в любовные дела молодежи. Любовь, по ее убеждению, была естественнейшим занятием для мужчин и женщин, и в этой области она всегда охотно давала советы и указания на основе своего обширного опыта.
– Мне еще пятнадцати не было, когда отец узнал, что у меня есть возлюбленный, третий помощник капитана с «Тропической птицы». Настоящий красавчик.
Она вздохнула. Говорят, женщины всегда с нежностью вспоминают своего первого возлюбленного, – но всегда ли им удается вспомнить, кто был первым?
– Мой отец был умный человек.
– И что же он сделал? – полюбопытствовал я.
– Сначала избил меня до полусмерти, а потом выдал за капитана Джонсона. Я не противилась. Конечно, он был старше меня, но тоже красавец собою.
Тиаре – отец назвал ее по имени душистого белого цветка (таитяне говорят, что если человек хоть раз услышит его аромат, то непременно вернется на Таити, как бы далеко он ни уехал), – Тиаре хорошо помнила Стрикленда.
– Иногда он заглядывал к нам, а кроме того, я часто видела его на улицах Папеэте. Я так его жалела – тощий, всегда без денег. Бывало, стоит мне услышать, что он в городе, и я сейчас же посылала боя звать его обедать. Раз-другой я даже раздобыла для него работу, но он как-то ни к чему не мог прилепиться. Пройдет немного времени, его опять уже тянет в лес – и он исчезает.
Стрикленд добрался до Таити через полгода после того, как покинул Марсель. Проезд свой он заработал матросской службой на судне, совершавшем рейсы между Оклендом и Сан-Франциско, и высадился на берег с этюдником, мольбертом и дюжиной холстов. В кармане у него было несколько фунтов стерлингов, заработанных в Сиднее. Высадившись на Таити, он, видимо, сразу почувствовал себя дома. Стрикленд поселился у туземцев в маленьком домишке за городом.
По словам Тиаре, он как-то сказал ей:
– Я мыл палубу, и вдруг один матрос говорит мне: «Вот и пришли!» Я поднял глаза, увидал очертания острова и мигом понял – это то самое место, которое я искал всю жизнь. Когда мы подошли ближе, мне показалось, что я узнаю его. Мне и теперь случается видеть уголки, как будто давно знакомые. Я готов голову дать на отсечение, что когда-то уже жил здесь.
– Это случается, – заметила Тиаре, – я знавала людей, которые сходили на берег на несколько часов, покуда пароход грузится, и никогда не возвращались домой. А другие приезжали сюда служить на один год и всячески поносили Таити, потом они уезжали и клялись, что лучше повесятся, чем снова приедут сюда. А через несколько месяцев мы снова встречали их на пристани, и они говорили, что уже нигде больше не находят себе места.
Глава пятидесятая
Мне думается, что есть люди, которые родились не там, где им следовало родиться. Случайность забросила их в тот или иной край, но они всю жизнь мучаются тоской по неведомой отчизне. Они чужие в родных местах, и тенистые аллеи, знакомые им с детства, равно как и людные улицы, на которых они играли, остаются для них лишь станцией на пути. Чужаками живут они среди родичей; чужаками остаются в родных краях. Может быть, эта отчужденность и толкает их вдаль, на поиски чего-то постоянного, чего-то, что сможет привязать их к себе. Может быть, какой-то глубоко скрытый атавизм гонит этих вечных странников в края, оставленные их предками давно-давно, в доисторические времена. Случается, что человек вдруг ступает на ту землю, к которой он привязан таинственными узами. Вот наконец дом, который он искал, его тянет осесть среди природы, ранее им не виданной, среди людей, ранее не знаемых, с такою силой, точно это и есть его отчизна. Здесь, и только здесь, он находит покой.
Я рассказал Тиаре историю одного человека, с которым я познакомился в лондонской больнице Святого Фомы. Это был еврей по имени Абрахам, белокурый, плотный молодой человек, нрава робкого и скромного, но на редкость одаренный. Медицинская школа дала ему стипендию, и все пять лет учения он был лучшим студентом. Затем Абрахам был оставлен при больнице как хирург и терапевт. Блистательные его таланты признавались всеми. Вскоре он получил постоянную должность, будущее его было обеспечено. Если вообще можно что-нибудь с уверенностью предрекать человеку, то уж Абрахаму, конечно, можно было предречь самую блестящую карьеру. Его ждали почет и богатство. Прежде чем приступить к своим новым обязанностям, он решил взять отпуск, а так как денег у него не было, то он поступил врачом на пароход, отправлявшийся в страны Леванта; там не очень-то нуждались в судовом враче, но один из ведущих хирургов больницы был знаком с директором пароходной линии – словом, все отлично устроилось.
Через месяц или полтора Абрахам прислал в дирекцию письмо, в котором сообщал, что никогда не вернется в больницу. Это вызвало величайшее удивление и множество самых странных слухов. Когда человек совершает какой-нибудь неожиданный поступок, таковой обычно приписывают недостойным мотивам. Но очень скоро нашелся врач, готовый занять место Абрахама, и об Абрахаме забыли. О нем не было ни слуху ни духу.
Лет примерно через десять, когда экскурсионный пароход, на котором я находился, вошел в гавань Александрии, мне вместе с другими пассажирами пришлось подвергнуться врачебному осмотру. Врач был толстый мужчина в потрепанном костюме; когда он снял шляпу, я заметил, что у него совершенно голый череп. Мне показалось, что я с ним где-то встречался. И вдруг меня осенило.
– Абрахам, – сказал я.
Он в недоумении оглянулся, узнал меня, горячо потряс мне руку. После взаимных возгласов удивления, узнав, что я собираюсь заночевать в Александрии, он пригласил меня обедать в Английский клуб. Вечером, когда мы встретились за столиком, я спросил, как он сюда попал. Должность он занимал весьма скромную и явно находился в стесненных обстоятельствах. Абрахам рассказал мне свою историю. Уходя в плавание по Средиземному морю, он был уверен, что вернется в Лондон и приступит к работе в больнице Святого Фомы. Но в одно прекрасное утро его пароход подошел к Александрии, и Абрахам с палубы увидел город, сияющий белизной, и толпу на пристани; увидел туземцев в лохмотьях, суданских негров, шумливых, жестикулирующих итальянцев и греков, важных турок в фесках, яркое солнце и синее небо. Тут что-то случилось с ним, что именно, он не мог объяснить. «Это было как удар грома, – сказал он и, не удовлетворенный таким определением, добавил: – Как откровение». Сердце его сжалось, затем возликовало – и сладостное чувство освобождения пронзило Абрахама. Ему казалось, что здесь его родина, и он тотчас же решил до конца дней своих остаться в Александрии. На судне ему особых препятствий не чинили, и через двадцать четыре часа он со всеми своими пожитками сошел на берег.
– Капитан, верно, принял вас за сумасшедшего, – смеясь, сказал я.
– Мне было все равно, что обо мне думают. Это действовал не я, а какая-то необоримая сила во мне. Я решил отправиться в скромный греческий отель и вдруг понял, что знаю, где он находится. И правда, я прямо вышел к нему и тотчас же его узнал.
– Вы бывали раньше в Александрии?
– Я до этого никогда не выезжал из Англии.
Он скоро поступил на государственную службу в Александрии, да так и остался на этой должности.
– Жалели вы когда-нибудь о своем поступке?
– Никогда, ни на одну минуту. Я зарабатываю достаточно, чтобы существовать, и я доволен. Я ничего больше не прошу у судьбы до самой смерти. И, умирая, скажу, что прекрасно прожил жизнь.
Я уехал из Александрии на следующий день и больше не думал об Абрахаме; но не так давно мне довелось обедать с другим старым приятелем, тоже врачом, неким Алеком Кармайклом, очень и очень преуспевшим в Англии. Я столкнулся с ним на улице и поспешил поздравить его с рыцарским званием, которое было ему пожаловано за выдающиеся заслуги во время войны. В память прошлых дней мы сговорились пообедать и провести вечер вместе, причем он предложил никого больше не звать, чтобы всласть наговориться. У него был великолепный дом на улице Королевы Анны, обставленный с большим вкусом. На стенах столовой я увидел прелестного Беллотто и две картины Зоффани, возбудившие во мне легкую зависть. Когда его жена, высокая красивая женщина в платье из золотой парчи, оставила нас вдвоем, я, смеясь, указал ему на перемены, происшедшие в его жизни с тех пор, как мы были студентами-медиками. В те времена мы считали непозволительной роскошью обед в захудалом итальянском ресторанчике на Вестминстер-Бридж-роуд. Теперь Алек Кармайкл состоял в штате нескольких больниц и, надо думать, зарабатывал в год не менее десяти тысяч фунтов, а рыцарское звание было только первой из тех почетных наград, которые, несомненно, его ожидали.
– Да, мне жаловаться грех, – сказал он, – но самое странное, что всем этим я обязан счастливой случайности.
– Что ты имеешь в виду?
– Помнишь Абрахама? Вот перед кем открывалось блестящее будущее. В студенческие годы он во всем меня опережал. Ему доставались все награды и стипендии, на которые я метил. При нем я всегда играл вторую скрипку. Не уйди он из больницы, и он, а не я, занимал бы теперь это видное положение. Абрахам был гениальным хирургом. Никто не мог состязаться с ним. Когда его взяли в штат Святого Фомы, у меня не было никаких шансов остаться при больнице. Я бы сделался просто практикующим врачом без всякой надежды выбиться на дорогу. Но Абрахам ушел, и его место досталось мне. Это была первая удача.
– Да, ты, пожалуй, прав.
– Счастливый случай. Абрахам – чудак. Он совсем опустился, бедняга. Служит чем-то вроде санитарного врача в Александрии и зарабатывает гроши. Я слышал, что он живет с уродливой старой гречанкой, которая наплодила ему с полдюжины золотушных ребятишек. Да, одного ума и способностей еще недостаточно. Характер – вот самое важное. Абрахам был бесхарактерный человек.
Характер? А я-то думал, надо иметь очень сильный характер, чтобы после получасового размышления поставить крест на блестящей карьере только потому, что тебе открылся иной жизненный путь, более осмысленный и значительный. И какой же нужен характер, чтобы никогда не пожалеть об этом внезапном шаге! Но я не стал спорить, а мой приятель задумчиво продолжал:
– Конечно, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрахам так поступил. Я-то ведь на этом немало выиграл. – Он с удовольствием затянулся дорогой сигарой. – Но не будь у меня тут личной заинтересованности, я бы пожалел, что даром пропал такой талант. Черт знает что, и надо же так исковеркать себе жизнь!
Я усомнился в том, что Абрахам исковеркал себе жизнь. Разве делать то, к чему у тебя лежит душа, жить так, как ты хочешь жить, и не знать внутреннего разлада – значит исковеркать себе жизнь? И такое ли уж это счастье быть видным хирургом, зарабатывать десять тысяч фунтов в год и иметь красавицу жену? Мне думается, все определяется тем, чего ты ищешь в жизни, и еще тем, что ты спрашиваешь с себя и с других. Но я опять придержал язык, ибо кто я, чтобы спорить с рыцарем?
Глава пятьдесят первая
Когда я рассказал эту историю Тиаре, она похвалила меня за сдержанность, и последующие несколько минут мы работали молча – лущили горох. Но затем ее взгляд, всегда бдительный в кухонных делах, отметил какое-то упущение повара-китайца, вызвавшее в ней бурю негодования. Она излила на него целый поток брани. Китаец не остался в долгу, и разгорелась отчаянная перепалка. Они кричали на туземном языке – я знал на нем не больше десятка слов, – и так, что казалось, вот-вот начнется светопреставление; но мир внезапно был восстановлен, и Тиаре протянула повару сигарету. Они оба спокойно закурили.
– А вы знаете, что это я нашла ему жену? – вдруг сказала Тиаре, и все ее необъятное лицо расплылось в улыбке.
– Повару?
– Нет, Стрикленду.
– Но он был женат.
– Он мне так и сказал, но я отвечала, что та жена в Англии, а Англия на другом конце света.
– Это верно, – согласился я.
– Он появлялся в Папеэте каждые два или три месяца – словом, когда ему нужны были краски, табак и деньги, и бродил по улицам, точно бездомный пес. Я очень его жалела. У меня здесь была горничная девушка, ее звали Ата, моя дальняя родственница; родители у нее умерли, и я взяла ее жить к себе. Стрикленд иногда к нам захаживал – хорошенько пообедать или сыграть с боем в шахматы. Я заметила, что она на него поглядывает, и спросила, нравится ли он ей. Она сказала, что очень даже нравится. Вы же знаете этих девчонок, они всегда готовы пойти за белым человеком.
– Разве она была туземка? – спросил я.
– Да, чистокровная туземка. Так вот, после разговора с ней я послала за Стриклендом и сказала ему: «Пора тебе остепениться, Стрикленд. В твоем возрасте уже не пристало возиться с девчонками на набережной. Это дрянные девчонки, и ничего хорошего от них ждать не приходится. Денег у тебя нет, и ни на одной службе ты больше двух месяцев не продержался. Теперь тебя уже никто не возьмет на работу. Ты говоришь, что можешь просуществовать, живя в лесу то с одной, то с другой из местных женщин, благо они так охочи до белых мужчин, но это-то как раз белому мужчине и не подобает. А теперь слушай меня внимательно, Стрикленд…»
Тиаре мешала французские слова с английскими, ибо одинаково бегло говорила на обоих языках, хотя и с певучим акцентом, не лишенным приятности. Слушая Тиаре, я думал, что так, наверно, говорила бы птица, умей она говорить по-английски.
– «Как ты насчет того, чтобы жениться на Ате? Она хорошая девочка, и ей всего семнадцать лет. Она привередница, не чета другим нашим девчонкам; капитан или первый помощник, ну это еще куда ни шло, но ни один туземец к ней не прикасался. Elle se respecte, vois-tu[20]. Эконом с «Оаху», когда был здесь в последний раз, сказал, что не видел на островах девушки красивее Аты. Ей пора обзавестись семьей, а кроме того, капитан и первые помощники тоже ведь любят разнообразие. Я у себя долго девушек не держу. У Аты есть клочок земли возле Таравао, у самого въезда на мыс, и при нынешних ценах на копру вы вполне проживете. Там есть дом, и ты будешь писать картины сколько твоей душе угодно. Ну как?»
Тиаре перевела дыхание.
– Вот тогда он мне и сказал про свою жену в Англии. «Бедный мой Стрикленд, – отвечала я, – у каждого мужчины где-нибудь есть жена, поэтому они и бегут к нам на острова. Ата – разумная девушка, и ей не нужны церемонии у мэра. Она протестантка, а протестанты, как тебе известно, смотрят на это иначе, чем католики». Тут он сказал: «А что думает сама Ата?» – «Ата, по-моему, к тебе неравнодушна, – заметила я. – За ней дело не станет. Позвать ее?» Он фыркнул как-то отрывисто и сердито, у него была такая манера, и я позвала Ату. Она знала, о чем я говорю с ним, плутовка; я краешком глаза видела, что она подслушивает, хотя она и делала вид, что гладит мою блузку. Ата подошла; она смеялась и немножко робела. Стрикленд, ни слова не говоря, смотрел на нее.
– Она была хорошенькая? – спросил я.
– Недурна. Да вы, наверно, видели ее на картинах. Стрикленд без конца ее писал, иногда в парео, а иногда и совсем голую. Да, она была очень недурна. И стряпать умела хорошо. Я сама ее выучила. Я вижу, что Стрикленд задумался, и говорю: «Ата получала у меня хорошее жалованье и принакопила деньжат, да еще капитаны и первые помощники иной раз давали ей, у нее теперь не одна сотня франков». Он потеребил свою рыжую бороду и улыбнулся. «Ну как, Ата, – сказал он, – гожусь я тебе в мужья?» Она ничего не отвечала, только хихикнула. «Я же говорю, милый мой Стрикленд, что девочка к тебе неравнодушна», – настаивала я. «Я буду бить тебя», – сказал Стрикленд, глядя на Ату. «А как иначе я узнаю, что ты меня любишь?» – ответила она.
Тиаре прервала свой рассказ, задумалась и потом сказала:
– Мой первый муж, капитан Джонсон, постоянно колотил меня. Он был настоящий мужчина. Красавец собой, высокий – шесть футов три дюйма, и пьяный никакого удержу не знал. В такие дни я ходила вся в синяках и кровоподтеках. Ох, как я плакала, когда он умер. Думала, что не переживу его. Но по-настоящему я узнала цену своей потери, только выйдя замуж за Джорджа Рейни. Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. В жизни у меня не было большего разочарования. Рейни тоже был видный мужчина. Ростом чуть пониже капитана Джонсона и с виду крепкий. Но только с виду. Спиртного он в рот не брал. Ни разу меня не ударил. Ему бы быть миссионером. Я крутила романы с офицерами всех судов, которые заходили в нашу гавань, а Джордж Рейни ничего не замечал. Под конец мне стало невтерпеж, и я развелась с ним. Зачем нужен такой муж? Ужас, как некоторые мужчины обращаются с женщинами.
Я повздыхал вместе с Тиаре, прочувствованно заметил, что мужчины спокон веков были обманщиками, и попросил продолжать рассказ о Стрикленде.
– «Ладно, – сказала я ему, – спешить некуда. Обдумай все хорошенько. У Аты чудная комнатка во флигеле. Поживи с ней хотя бы месяц и проверь, понравится ли она тебе. Столоваться можешь у меня. А через месяц, если решишь жениться на ней, прямо переезжайте в ее дом и устраивайтесь». Он согласился. Ата продолжала работать по дому, а он ел у меня, как я и обещала. Кроме того, я научила Ату готовить несколько блюд, которые он любил. Писал он в то время мало, больше бродил по горам и купался. Часто сидел на берегу, не сводя глаз с лагуны, а под вечер ходил смотреть на остров Муреа или ловил рыбу. Любил он еще шататься в гавани и болтать с туземцами. Да, Стрикленд был славный, тихий малый. Каждый вечер после обеда они с Атой уходили во флигель. Я видела, что его уже тянет в лес, и в конце месяца спросила, на что он решился. Он отвечал, что, если Ата согласна, он готов уйти с ней. Я устроила им свадебный обед, своими руками приготовила гороховый суп, омара à la portugaise[21], карри и салат из кокосовых орехов – кстати, вы, кажется, еще не пробовали у меня этого салата? Обязательно надо угостить вас, пока вы здесь. И на сладкое я подала им мороженое. А сколько мы выпили шампанского и потом еще ликеров! Я уж решила устроить пир на славу. После обеда мы танцевали в гостиной. Я еще так не разжирела тогда и до смерти любила танцевать.
Роль гостиной в «Отель де ля флёр» выполняла небольшая комната со старым пианино и аккуратно расставленной вдоль стен мебелью красного дерева, обитой тисненым бархатом. На круглых столиках лежали альбомы фотографий, а стены были украшены увеличенными фотографическими портретами Тиаре и ее первого мужа, капитана Джонсона. И хотя Тиаре была уже стара и толста, мы как-то раз скатали брюссельский ковер, позвали девушек, кое-кого из друзей Тиаре и устроили танцы, правда, под визгливые звуки граммофона. На веранде воздух был пропитан приятным ароматом тиаре, и над нашими головами в безоблачном небе сиял Южный Крест.
Тиаре снисходительно улыбнулась, вспоминая былое веселье.
– Мы танцевали до трех часов, – продолжала она свой рассказ, – и спать пошли еще очень навеселе. Я сказала молодым, чтоб они, пока есть дорога, ехали на моей двуколке, дальше им надо было большой путь пройти пешком. Участок Аты находился далеко в горах, в ущелье. Они выехали на рассвете, и бой, которого я послала с ними, вернулся только на следующий день.
Да, так вот женился Стрикленд.
Глава пятьдесят вторая
Следующие три года были, наверно, самыми счастливыми в жизни Стрикленда. Домик Аты стоял в восьми километрах от большой дороги, опоясывавшей остров, и добираться к нему надо было по извилистой тропинке, осененной кронами пышных тропических деревьев. В этом бунгало из некрашеного дерева было всего две комнатки, рядом под навесом была устроена кухня. Все убранство дома состояло из нескольких циновок, служивших постелями, да качалки на веранде. Бананы с огромными растрепанными листьями, что похожи на изодранную одежду императрицы в изгнании, толпились вокруг. Была там еще и аллигаторова груша, и множество кокосовых пальм; кокосовые орехи – главный доход этих краев. Отец Аты насадил вокруг своего участка кротоновые кусты, и они росли теперь в буйном изобилии, словно ограда из веселых праздничных огней. Перед домом высилось манговое дерево, а по краям росчисти багряные цветы двух сросшихся тамариндов спорили с золотом кокосовых орехов.
Здесь жил Стрикленд, кормясь тем, что давала земля, и лишь изредка наведываясь в Папеэте. Возле дома его и Аты протекала речка, в которой он купался. Случалось, что в нее заходили косяки морской рыбы. Тогда туземцы сбегались на берег, вооруженные острогами, и с шумом и криком вонзали их в огромных испуганных рыб, беспорядочно стремившихся назад, в море. Иногда Стрикленд ходил на мыс; он возвращался оттуда с омаром или с полной корзиной пестроперых рыбок, которых Ата жарила в кокосовом масле. Она стряпала еще и лакомое кушанье из крупных земляных крабов, то и дело попадающихся под ноги в тех краях. В горах росли дикие апельсины, и Ата время от времени отправлялась туда с несколькими женщинами из соседней деревушки и приходила домой, сгибаясь под тяжестью зеленых, сладких, пахучих плодов. Когда поспевали кокосовые орехи, родичи Аты (у нее, как и у всех туземцев, была пропасть родни) взбирались на деревья и сбрасывали вниз огромные зрелые плоды. Они вскрывали их и раскладывали на солнце сушиться. Затем вырезали копру и набивали ею мешки, женщины взваливали их на себя и несли к скупщику, в деревню у лагуны; в обмен они получали рис, мыло, мясные консервы и немножко денег. В деревне по случаю праздника изредка закалывали свинью, тогда гости и хозяева наедались до тошноты, плясали и распевали религиозные песнопения.
Но дом Аты стоял на отшибе, а таитяне ленивы. Они любят кататься, любят судачить, но ходить пешком – это не для них; Стрикленд и Ата месяцами жили в полном одиночестве. Он писал картины, читал, а когда становилось темно, они сидели на веранде, курили и вглядывались в ночь. Потом у Аты родился ребенок, и бабка, принимавшая его, осталась жить у них. Вскоре к бабке явилась ее внучка, а вслед за ней какой-то юнец – никто толком не знал, чей он и откуда, – но он тоже, не чинясь, поселился в доме. И все они зажили вместе.
Глава пятьдесят третья
– Tenez, voilà le Capitaine Brunot[22], – сказала однажды Тиаре, когда я пытался придать слитность тому, что она рассказала мне о Стрикленде. – Он хорошо знал Стрикленда и бывал у него в доме.
Передо мной стоял француз, уже в летах, с окладистой черной бородой, в которой виднелась проседь, с загорелым лицом и большими блестящими глазами. Одет он был в белоснежный полотняный костюм. Я обратил на него внимание еще за завтраком, и А-Лин, китаец-бой, сказал мне, что он прибыл сегодня на пароходе с Паумоту. Тиаре познакомила нас, и он вручил мне визитную карточку, на которой стояло: «Рене Брюно» – и пониже: «Капитан дальнего плавания». Мы сидели на маленькой веранде возле кухни, и Тиаре занималась кройкой платья для одной из горничных девушек. Капитан подсел к нам.
– Да, я был хорошо знаком со Стриклендом, – сказал он. – Я большой любитель шахмат, а Стрикленд всегда охотно играл. Я приезжал на Таити по делам раза три-четыре в год, и, если мне удавалось застать его в Папеэте, мы приходили играть в «Отель де ля флёр». Когда он женился, – капитан Брюно с улыбкой пожал плечами, – enfin[23], когда он стал жить с девушкой, которую ему подсунула Тиаре, он позвал меня к себе. – Капитан взглянул на Тиаре, и они оба рассмеялись. – Приблизительно через год, зачем и почему, уж не помню, я очутился в той части острова. Покончив с делами, я сказал себе: «Voyons, почему бы мне не навестить беднягу Стрикленда?» Я стал расспрашивать туземцев, не знают ли они чего о нем, и выяснил, что он живет в каких-нибудь пяти километрах от того места, где я был. Ну, я и отправился к нему. Никогда мне не забыть этого посещения. Я живу на атолле – это низкая полоска земли, которая окружает лагуну, и красота там значит – море и небо, изменчивые краски лагуны и стройность кокосовых пальм. Но место, где жил Стрикленд, – поистине то были райские кущи. Ах, если бы я мог описать всю прелесть этого уголка, спрятанного от мира, синее небо и пышно разросшиеся деревья! Это было какое-то пиршество красок. Воздух благоухающий и прохладный. Нет, словами нельзя описать этот рай. И там он жил, не думая о мире и миром забытый. На европейский глаз все это, наверно, выглядело убого. Дом полуразрушенный и не слишком чистый. Когда я пришел, на веранде валялось несколько туземцев. Вы же знаете, они народ общительный. Один малый лежал, вытянувшись во весь рост, и курил, на нем не было ничего, кроме парео. (Парео – это длинный лоскут красного или синего ситца с белым узором. Туземцы обвязывают его вокруг бедер так, что впереди он спускается до колен.) Девушка лет пятнадцати плела шляпу из листьев пандануса, – продолжал капитан Брюно, – какая-то старуха, сидя на корточках, курила трубку. Затем я увидел Ату. Она кормила грудью новорожденного, другой ребенок, совершенно голый, играл у ее ног. Увидев меня, она крикнула Стрикленда, и он появился в дверях. На нем тоже не было ничего, кроме парео. Право же, мне не забыть эту фигуру: всклокоченные волосы, рыжая борода, широкая волосатая грудь. Ноги у него были сбитые, все в мозолях и царапинах: я понял, что он всегда ходит босиком. Он стал настоящим туземцем. Мне он, по-видимому, обрадовался и тотчас же велел Ате зарезать к обеду цыпленка. Затем он потащил меня в дом показывать картину, над которой сейчас работал. В углу комнаты была навалена куча циновок, посредине стоял мольберт и на нем холст. Мне было жалко Стрикленда, и я купил у него по дешевке несколько картин для себя и для своих друзей во Франции. И хотя покупал я эти картины просто из сострадания, но постепенно полюбил их. Честное слово, мне в них виделась какая-то странная красота. Все считали меня сумасшедшим, а вот вышло-то, что я был прав. Я был первым его поклонником на островах.
Он бросил злорадный взгляд на Тиаре, которая снова, охая и ахая, принялась рассказывать о том, как на распродаже Стриклендова имущества она не обратила внимания на картины, а купила американскую печку за двадцать семь франков.
– И эти картины еще у вас? – полюбопытствовал я.
– Да, я держу их, покуда моя дочь не станет невестой. Тогда я их продам, а деньги пойдут ей в приданое.
Затем он продолжил рассказ о своем посещении Стрикленда.
– Никогда я не забуду этого вечера. Я думал пробыть у него не больше часа, но он настойчиво просил меня остаться ночевать. Я колебался, мне, признаться, не очень-то нравился вид циновок, на которых мне предлагалось спать, но в конце концов согласился. Когда я строил себе дом на Паумоту, я месяцами спал на худшей постели, и над головой у меня были только ветки тропического кустарника; что же касается насекомых, то кожа у меня толстая и укусов не боится. Мы пошли на реку купаться, покуда Ата стряпала обед, а пообедав, сидели на веранде. Курили и болтали. Туземный юнец играл на концертино песенки, певшиеся в мюзик-холлах лет десять назад. Странно они звучали среди тропической ночи, за тысячи миль от цивилизованного мира. Я спросил Стрикленда, не тяготит ли его жизнь в глуши, среди всего этого народа. Нет, сказал он: ему удобно иметь модели под рукой. Вскоре туземцы, громко зевая, ушли спать, а мы с ним остались одни. Не знаю, как описать непроницаемую тишину этой ночи. На моем острове никогда не бывает такой полной тишины. У моря там стоит шорох мириад живых существ, и крабы, шурша, копошатся в песке. По временам слышно, как где-то в лагуне прыгнула рыба, или вдруг доносятся торопливые громкие всплески – это рыбы спасаются бегством от акулы. И надо всем этим – извечный глухой шум прибоя. Но здесь ничто, ничто не нарушало тишины, и воздух был напоен ароматом белых ночных цветов. Так дивно хороша была эта ночь, что душа, казалось, не могла больше оставаться в темнице тела. Вы ясно чувствовали: вот-вот она унесется в горние страны, и даже смерть принимала здесь обличье друга.
Тиаре вздохнула.
– Ах, если бы мне было пятнадцать лет!
Тут она увидела кошку, крадущуюся к блюду с креветками на кухонном столе, проворно запустила книжкой ей вдогонку да еще излила на негодницу целый поток брани.
– Я спросил его, счастлив ли он с Атой. «Ата не пристает ко мне, – отвечал Стрикленд. – Она готовит мне пищу и смотрит за своими детьми. Она делает все, что я ей велю. И дает мне то, что я спрашиваю с женщины». – «И вы никогда не жалеете о Европе? Не скучаете по огням парижских или лондонских улиц, по друзьям, по людям, вам равным, или… que sais-je[24] – по театрам, газетам? Не хотите снова услышать, как омнибусы грохочут по булыжной мостовой?» Он долго молчал, потом ответил: «Я останусь здесь до самой смерти». – «Но неужто вам не бывает тоскливо, одиноко?» Он фыркнул: «Mon pauvre ami[25], вы, видно, не понимаете, что такое художник».
Капитан Брюно мягко улыбнулся, и в его темных добрых глазах появилось странное выражение.
– Стрикленд был несправедлив ко мне: я знаю, что такое мечты. И мне являлись видения. По-своему и я художник.
Мы умолкли, а Тиаре вытащила из своего объемистого кармана пачку папирос, дала нам по одной, и мы все трое закурили. Наконец Тиаре прервала молчание:
– Раз уж monsieur так интересуется Стриклендом, почему бы вам не свести его к доктору Кутра? Доктор мог бы рассказать кое-что о его болезни и смерти.
– Volontiers[26], – отвечал капитан, глядя на меня.
Я поблагодарил. Он вынул часы.
– Уже седьмой. Мы застанем его дома, если пойдем сейчас же.
Я встал без дальнейших церемоний, и мы двинулись по дороге к докторскому дому. Он жил в предместье, но так как и «Отель де ля флёр» находился на окраине, то мы быстро вышли за город. Широкую дорогу осеняли перечные деревья, по обе ее стороны простирались плантации кокосовых пальм и ванили. Птицы-пираты переговаривались среди пальмовых листьев. Проходя по каменному мосту, переброшенному через мелководную реку, мы остановились посмотреть на купающихся мальчишек. Они гонялись друг за дружкой, пронзительно крича и смеясь, их мокрые коричневые тела блестели на солнце.
Глава пятьдесят четвертая
Покуда мы шли, я думал о том, что в последнее время, когда я столько слышал о Стрикленде, невольно привлекло мое внимание. На этом далеком острове к нему, видимо, относились не с озлоблением, как в Англии, но, напротив, сочувственно и охотно мирились со всеми его выходками. Эти люди – туземцы и европейцы – считали его чудаком, но чудаки были им не внове. Они считали вполне естественным, что мир полон странных людей, которые совершают странные поступки. Они понимали, что человек не то, чем он хочет быть, но то, чем не может не быть. В Англии и во Франции Стрикленд был не к месту, а здесь находилось место для самых различных людей, не подходящих ни под какую мерку. Не то чтобы он на Таити стал добр, менее эгоистичен и груб, но оказался в условиях более благоприятных. Если бы он прожил здесь всю жизнь, то и считался бы не хуже людей. Здесь он получил то, чего не хотел, да и не ждал от своих соотечественников, – доброжелательное отношение.
Я попытался объяснить капитану Брюно, почему все это удивляло меня, и он минуту-другую молчал.
– Ничего нет удивительного, – сказал он наконец, – что я доброжелательно относился к Стрикленду, ведь у нас, хотя мы, быть может, и не подозревали об этом, были общие стремления.
– Какое же, скажите на милость, могло быть общее стремление у столь различных людей, как вы и Стрикленд? – улыбаясь, спросил я.
– Красота.
– Понятие довольно широкое, – пробормотал я.
– Вы ведь знаете, что люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей любви. Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галере. Стриклендом владела страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь.
– Как странно, что вы это говорите! – воскликнул я. – Я давно думал, что Стрикленд был одержим бесом.
– Его страсть была – создать красоту. Она не давала ему покоя. Гнала из страны в страну. Демон в нем был беспощаден – и Стрикленд стал вечным странником, его терзала божественная ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды так страстно, что готовы расшатать устои мира, лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд, только правду ему заменяла красота. Я чувствовал к нему лишь глубокое сострадание.
– И это тоже странно. Человек, которого Стрикленд жестоко оскорбил, однажды сказал мне, что чувствует к нему глубокую жалость. – Я немного помолчал. – Неужели вы впрямь нашли объяснение человеку, который всегда казался мне непостижимым? Как вам это пришло в голову?
Он с улыбкой повернулся ко мне.
– Разве я вам не говорил, что и я, на свой лад, был художником? Меня снедало то же желание, что и Стрикленда. Но для него средством выражения была живопись, а для меня сама жизнь.
И капитан Брюно рассказал мне историю, которую я должен повторить на этих страницах, ибо она, хотя бы по контрасту, кое-что добавляет к моему представлению о Стрикленде. Для меня лично она имеет еще и собственную прелесть.
Капитан Брюно, бретонец по рождению, служил во французском флоте. Женившись, он вышел в отставку и поселился в своем именьице под Кемпером, чтобы в тиши и покое прожить остаток своих дней, но из-за внезапного банкротства нотариуса, который вел его дела, остался без гроша. Ни капитан Брюно, ни его жена не пожелали жить нищими там, где недавно занимали видное положение в обществе. В свое время капитан плавал в Южных морях и теперь решил там искать счастья.
Несколько месяцев он прожил в Папеэте, чтобы оглядеться и набраться опыта; затем на деньги, взятые взаймы у одного друга во Франции, купил островок из группы Паумоту. Это была узкая полоска земли вокруг лагуны, необитаемая и заросшая кустарником да дикой гуавой. Вместе с бесстрашной молодой женщиной, своею женой, и несколькими туземцами он высадился на этот островок и принялся за постройку дома и расчистку земли под плантацию кокосовых пальм. Это было двадцать лет назад, а теперь бесплодный остров стал цветущим садом.
– Раньше это был адский труд, и мы с женой выбивались из сил. Я вставал на заре, корчевал, строил, сажал, а ночью бросался на постель и засыпал как убитый. Моя жена работала наравне со мной. Потом у нас родились дети, сын и дочь. Мы с женой обучали их всему, что знали сами. Я выписал пианино из Франции, и она стала учить их музыке и английскому языку, а я – латыни и математике. Мы все вместе читали книги по истории. Мои дети умеют управлять парусом. Плавают не хуже туземцев. Знают все о здешних краях. Деревья на моей плантации приносят щедрый урожай, и в лагуне есть перламутр. Сейчас я приехал на Таити покупать шхуну. Я могу добыть столько перламутра, что это не будет напрасным расходом, и кто знает, не удастся ли мне найти жемчуг. Там, где ничего не было, теперь все цветет. Я тоже создал красоту. Ах, вы не понимаете, что значит смотреть на высокие, крепкие деревья и думать: каждое посажено моими руками!
– Позвольте мне задать вам вопрос, который вы некогда задали Стрикленду. Неужели вы никогда не жалеете о Франции и своем старом доме в Бретани?
– Со временем, когда наша дочь выйдет замуж, а сын женится и сможет заменить меня на острове, мы с женой вернемся на родину и кончим свои дни в старом доме, где я родился.
– Вспоминая о счастливо прожитой жизни, – заметил я.
– Evidemment[27], на моем острове нет развлечений. Мы живем вдали от мира: ведь нам нужно четыре дня, чтобы добраться даже до Таити, – но мы счастливы. Мало кому дано начать работу и завершить ее. Наша жизнь простая и чистая. Мы не знаем честолюбия и гордимся только одним: тем, что пожинаем плоды своих трудов. Ни злоба, ни зависть не мучают нас. Ах, mon cher monsieur[28], я часто слышал разговоры о благости труда, обычно это только пустые фразы, но для меня они полны глубочайшего смысла. Я счастливый человек.
– И вы, безусловно, это заслужили, – улыбаясь, заметил я.
– Я хотел бы так думать. Но я и сам не знаю, чем я заслужил такую жену – друга, помощницу, прекрасную возлюбленную и прекрасную мать моих детей.
Я задумался над тем, что рассказал мне капитан Брюно.
– Для того чтобы вести такую суровую жизнь и добиться такого большого успеха, вам обоим надо было обладать сильной волей и решительным характером.
– Возможно, но к этому добавилось еще и другое, иначе бы мы ничего не достигли.
– Что же именно?
Он остановился и несколько театральным жестом вытянул руку.
– Вера в Бога. Без нее бы нам пропасть…
Мы как раз подошли к дому доктора Кутра.
Глава пятьдесят пятая
Доктор Кутра был старый француз, огромного роста и очень толстый. Фигура его напоминала гигантское утиное яйцо, а глаза, пронзительные, голубые и добродушные, частенько с самодовольным выражением уставлялись на его громадное брюхо. Лицо у него было румяное, волосы седые. Такие люди, как он, с первого взгляда внушают симпатию. Доктор Кутра принял нас в комнате, какую можно увидеть в любом доме провинциального французского городка; две-три полинезийские редкости странно выглядели в ней. Он потряс мою руку обеими руками – кстати сказать, огромными – и посмотрел на меня дружелюбным, хотя и очень хитрым взглядом. Здороваясь с капитаном Брюно, он учтиво осведомился о супруге и детках. Несколько минут они обменивались любезностями, затем немного посплетничали, обсудили виды на урожай копры и ванили и наконец перешли к цели моего визита.
Я перескажу своими словами то, что узнал от доктора Кутра, так как мне все равно не воссоздать его живого, образного рассказа. У доктора был низкий, звучный голос, вполне соответствовавший его мощному облику, и безусловный актерский талант. Слушать его было интереснее, чем сидеть в театре.
Как-то раз доктору Кутра пришлось поехать в Таравао к захворавшей правительнице племени; он живо описал, как эта тучная старуха возлежала на огромной кровати, куря папиросы, а вокруг нее суетилась толпа темнокожих приближенных. После того как он ее осмотрел, его пригласили в другую комнату и стали потчевать обедом: сырой рыбой, жареными бананами, цыплятами – que sais-je[29], излюбленными кушаньями туземцев, – и за едой он заметил заплаканную молодую девушку, которую гнали прочь от двери. Он не обратил на это особого внимания, но когда вышел садиться в свою двуколку, чтобы ехать домой, опять увидел ее; она стояла в сторонке, и слезы градом лились по ее щекам. Он спросил какого-то малого, почему она плачет, и в ответ услышал, что она пришла с гор звать его к белому человеку, который тяжко заболел. А ей сказали, что доктора нельзя беспокоить. Тогда он подозвал девушку и спросил, чего она хочет. Она ответила, что ее послала Ата, которая раньше служила в «Отель де ля флёр», и что Красный болен. Девушка сунула ему в руку измятый кусок газеты, в котором оказался стофранковый билет.
– Кто такой Красный? – спросил доктор у кого-то из туземцев.
Ему объяснили, что так называют англичанина, который живет с Атой в долине, километрах в семи отсюда. По описанию он узнал Стрикленда. Но в долину можно добраться только пешком, а доктору ходить пешком не подобает, поэтому-то они и отгоняли от него девушку.
– Признаюсь, – сказал доктор Кутра, обернувшись ко мне, – что меня взяло сомнение. Отмахать четырнадцать километров по горной тропинке – не слишком большое удовольствие, да и ночевать домой уж не попадешь. Вдобавок Стрикленд был мне не по нутру. Тунеядец, который предпочитал жить с туземкой, чем зарабатывать свой хлеб, как все мы, грешные. Mon Dieu[30], ну откуда мне было знать, что со временем весь мир признает его гением? Я спросил девушку, неужто он так болен, что не может сам прийти ко мне. И еще спросил, что с ним такое. Она молчала. Я настаивал, пожалуй, сердито; она опустила глаза и опять расплакалась. Я пожал плечами: в конце концов, мой долг идти, и я пошел за ней в прескверном настроении.
Настроение доктора, конечно, не улучшилось, когда он наконец добрался до них, весь в поту и умирая от жажды. Ата дожидалась его и пошла по тропинке ему навстречу.
– Первым делом дайте мне пить, – закричал он, – не то я сдохну от жажды. Pour Г amour de Dieu[31], дайте кокосовый орех.
Она кликнула какого-то мальчишку, он примчался, влез на дерево и сбросил спелый орех. Ата проткнула дырку в скорлупе, и доктор жадно припал к освежающей струйке. Затем он свернул папиросу, и настроение его улучшилось.
– Ну, где же ваш Красный?
– Он в доме, рисует картину. Я не сказала ему, что вы придете. Пожалуйста, взгляните на него.
– А на что он жалуется? Если он в состоянии работать, то мог бы сам прийти в Таравао и избавить меня от этой проклятой беготни. Я полагаю, что мое время не менее дорого, чем его.
Ата промолчала и вместе с мальчиком пошла за доктором к дому. Девушка, которая привела его, уже сидела на веранде; здесь же, у стены, лежала какая-то старуха и крутила папиросы на туземный манер.
Ата указала ему на дверь. Доктор, сердясь на то, что все они так странно себя ведут, вошел и увидел Стрикленда, занятого чисткой палитры. Стрикленд в одном парео стоял спиной к двери возле мольберта с картиной. Он обернулся на шум шагов и бросил на доктора неприязненный взгляд. Он был удивлен и рассержен этим вторжением. Но у доктора перехватило дыхание, ноги его приросли к полу: он во все глаза смотрел на Стрикленда. Нет, этого он не ждал. Мороз пробежал у него по коже.
– Вы входите довольно бесцеремонно, – сказал Стрикленд. – Чем могу служить?
Доктор уже справился с собой, но голос не сразу вернулся к нему. Всю его злость как рукой сняло, и он почувствовал – et bien, oui je ne le nie pas[32], – как его захлестнула жалость.
– Я доктор Кутра. Я был в Таравао, у старой правительницы, и Ата послала туда за мной.
– Ата – дура. У меня, правда, были какие-то боли в суставах и небольшая лихорадка, но это пустяки и скоро пройдет. Когда кто-нибудь пойдет в Папеэте, я велю купить мне хины.
– Посмотрите на себя в зеркало.
Стрикленд взглянул на него, улыбнулся и подошел к дешевенькому зеркальцу в узкой деревянной рамке, висевшему на стене.
– Ну и что?
– Разве вы не замечаете перемены в вашем лице? Не замечаете, как утолстились ваши черты и стали походить… в книгах это называется львиный лик. Mon pauvre ami, неужели мне надо говорить вам, какая у вас страшная болезнь?
– У меня?
– Посмотрите на себя еще раз, и вы увидите ее типичные признаки.
– Вы шутите, – сказал Стрикленд.
– Я был бы счастлив, если бы мог шутить.
– Вы хотите сказать, что у меня проказа?
– К несчастью, в этом нет сомнения.
Доктор Кутра многим объявлял смертный приговор, и все же не мог победить ужаса, который его при этом охватывал. Он всякий раз чувствовал, как яростно должен приговоренный ненавидеть его, доктора, цветущего, здорового, обладающего бесценным правом – жить. Стрикленд молча смотрел на него. Лицо его, уже обезображенное страшной болезнью, не выражало ни малейшего волнения.
– Они знают? – спросил он наконец, кивнув головою в сторону тех, что сидели на веранде в непривычном, странном молчании.
– Туземцы хорошо знают признаки этой болезни, – ответил доктор. – Они боялись сказать вам.
Стрикленд шагнул к двери и выглянул. Наверно, страшное у него было лицо, потому что на веранде все разом завопили и запричитали, а потом разразились плачем. Стрикленд молчал. Посмотрев на них несколько секунд, он вернулся в комнату.
– Как долго я, по-вашему, смогу протянуть?
– Кто знает? Иногда болезнь длится двадцать лет. Это счастье, если она протекает быстро.
Стрикленд подошел к мольберту и задумчиво посмотрел на картину.
– Вы проделали нелегкий путь. По справедливости тот, кто принес важные вести, должен быть вознагражден. Возьмите эту картину. Сейчас она ничего для вас не значит, но, возможно, когда-нибудь вы обрадуетесь, что она у вас есть.
Доктор Кутра протестовал. Ему не нужно никакой платы: стофранковый билет он уже успел вернуть Ате. Но Стрикленд настаивал. Затем они вместе вышли на веранду. Туземцы плакали в голос.
– Успокойся, женщина. Вытри слезы, – сказал Стрикленд Ате. – Тебе нечего бояться. Я очень скоро оставлю тебя.
– А тебя не отнимут у меня?
В те времена на островах еще не было закона об обязательной изоляции прокаженных; они могли оставаться на свободе.
– Я уйду в горы, – сказал Стрикленд.
Тогда Ата поднялась и посмотрела ему прямо в глаза.
– Пусть другие уходят, если хотят, я тебя не оставлю. Ты мой муж, а я твоя жена. Если ты уйдешь от меня, я повешусь вон на том дереве за домом. Богом клянусь тебе.
Она говорила грозно и властно. Это была уже не покорная робкая девушка-туземка, а женщина сильная и решительная. Она стала неузнаваемой.
– Зачем тебе оставаться со мной? Ты можешь вернуться в Папеэте, там ты скоро найдешь себе другого белого мужчину. Старуха присмотрит за твоими детьми, а Тиаре охотно возьмет тебя обратно.
– Ты мой муж, а я твоя жена. Где будешь ты, там буду и я.
На мгновение силы изменили Стрикленду: слезы выступили у него на глазах и медленно покатились по щекам. Затем он опять улыбнулся обычной своей сардонической улыбкой.
– Удивительные существа эти женщины, – сказал он доктору. – Можно обращаться с ними хуже, чем с собакой, можно бить их, пока руки не заболят, а они все-таки любят вас. – Он пожал плечами. – Одна из нелепейших выдумок христианства – будто у них есть душа.
– Что ты говоришь доктору? – подозрительно спросила Ата. – Ты не уйдешь от меня?
– Если ты хочешь, я останусь с тобой, девочка.
Ата бросилась перед ним на колени, обхватила руками его ноги и поцеловала. Стрикленд смотрел на доктора Кутра со слабой улыбкой.
– В конце концов они покоряют вас, и вы беспомощны в их руках. Белые или коричневые, все они одинаковы.
Доктор Кутра знал, что глупо говорить слова соболезнования по поводу такого страшного несчастья, и молча откланялся. Стрикленд велел Танэ, мальчику, проводить его до деревни. Доктор помолчал и, обращаясь ко мне, прибавил:
– Я ведь вам уже говорил, что Стрикленд был мне не по нутру. Я его недолюбливал. Но, когда я медленно спускался в Таравао, я с невольным восхищением думал о мужестве этого человека: так стоически перенести это страшнейшее несчастье! На прощание я сказал Танэ, что пришлю кое-какие лекарства, но я не очень надеялся, что Стрикленд будет принимать их, и еще меньше – что они принесут какую-нибудь пользу. Я также просил мальчика передать Ате, что приду, когда бы она за мной ни послала. Жизнь – жестокая штука, и природа иногда страшно глумится над своими детьми. С тяжелым сердцем вернулся я в свой уютный дом в Папеэте.
Долгое время мы все молчали.
– Но Ата не присылала за мной, – снова начал доктор, – и как-то так получилось, что я долго не был в той части острова. О Стрикленде я ничего не знал. Раза два я, правда, слышал, что Ата приходила в Папеэте покупать краски, но видеть ее мне не довелось. Прошло больше двух лет, прежде чем я снова попал в Таравао, все к той же старой правительнице. Там я спросил, не слышно ли чего о Стрикленде. Теперь все уже знали, что у него проказа. Первым из дому ушел Танэ, а вскоре старуха и ее внучка. Стрикленд с Атой и детьми остались совершенно одни. Никто даже близко не подходил к их плантации, вы не можете себе представить, какой ужас здешние люди испытывают перед этой болезнью; в старину, если у человека обнаруживалась проказа, они просто убивали его. Только мальчишки из ближней деревни, забравшись далеко в горы, видели иногда белого человека с косматой рыжей бородой. Тогда они в страхе удирали. Случалось еще, что Ата ночью спускалась в деревню и будила лавочника, чтобы купить у него самое необходимое. Она знала, что на нее смотрят с не меньшим испугом и отвращением, чем на Стрикленда, и всячески старалась избегать встреч с людьми. Однажды женщины, случайно оказавшиеся вблизи плантации, увидели, что она стирает белье в речке, и забросали ее камнями. После этого лавочнику велено было передать ей, что, если ее еще раз застанут на речке, мужчины из деревни подожгут ее дом.
– Звери, – сказал я.
– Mais non, mon cher monsieur[33], люди – всегда люди. Страх толкает их на жестокость… Я решил навестить Стрикленда, и после осмотра больной попросил, чтобы мне дали кого-нибудь в проводники. Но никто не решился идти со мной, и я отправился один.
Когда доктор Кутра пришел на плантацию, щемящая тоска сдавила его сердце. Он дрожал, хотя и разгорячился от ходьбы. Что-то зловещее носилось в воздухе и мешало идти дальше. Словно таинственные силы преграждали ему путь. Чьи-то невидимые руки тянули его назад. Никто не приходил сюда собирать кокосовые орехи, и они гнили на земле. Запустение царило повсюду. Кустарник буйно разросся, и девственный лес, казалось, готов был вновь захватить эту полоску земли, отнятую у него ценой такого тяжкого труда. «Это обитель страдания», – подумалось доктору. Когда он подошел к дому, нездешняя тишина поразила его; он решил, что дом покинут. Затем он увидел Ату. Она сидела на корточках под навесом, служившим им кухней, и что-то варила в котелке. Ребенок молча возился в грязи рядом с нею. Увидев доктора, она не улыбнулась.
– Я пришел взглянуть на Стрикленда, – сказал он.
– Пойду скажу ему.
Она направилась к дому, взошла по ступенькам на веранду и отворила дверь. Доктор Кутра шел за нею, но помедлил, повинуясь ее знаку. Когда дверь приоткрылась, на него пахнуло тошнотворно сладким запахом, который делает нестерпимой близость прокаженного. Доктор услышал, как что-то сказала Ата, затем услышал ответ Стрикленда, но не узнал его голоса. Он звучал хрипло, слов было не разобрать. Доктор Кутра поднял брови, он понял: болезнь уже бросилась на голосовые связки. Ата опять вышла на веранду.
– Он не хочет вас видеть. Вам надо уйти.
Доктор настаивал, но Ата не впускала его. Тогда он пожал плечами и повернул обратно. Ата пошла за ним. Он чувствовал, что ей тоже хочется поскорей его спровадить.
– Значит, я ничего не смогу сделать для вас? – спросил он.
– Вы можете прислать ему красок, больше он ничего не хочет.
– Он еще может работать?
– Он рисует на стенах дома.
– Какая страшная жизнь для вас, дитя мое.
Тогда она наконец улыбнулась, и сверхчеловеческая любовь засветилась в ее глазах. Доктор Кутра был потрясен. Благоговейное чувство охватило его. Он не нашелся что сказать.
– Он мой муж, – сказала Ата.
– Где ваш второй ребенок? – спросил он. – Прошлый раз я видел двоих.
– Он умер. Мы похоронили его под манговым деревом.
Ата прошла с ним еще немного и сказала, что ей пора возвращаться. Доктор Кутра понял, что она боится встретить кого-нибудь из деревни. Он повторил, что, если понадобится ей, пусть она пришлет за ним, он придет тотчас же.
Глава пятьдесят шестая
Прошло еще года два, может быть, и три, ибо время на Таити течет незаметно, и нелегко вести ему счет, когда к доктору Кутра пришла весть, что Стрикленд умирает. Ата остановила почтовую повозку на дороге в Папеэте и умолила возницу заехать к доктору. Но доктора не оказалось дома, и печальная весть дошла до него только вечером. Ехать в такой поздний час было немыслимо, и доктор пустился в дорогу следующим утром на рассвете. Он доехал до Таравао и в последний раз прошел пешком семь километров до дома Аты. Тропинка заросла, по ней явно никто не ходил в последние годы. Идти было трудно. Он то шел, спотыкаясь, по высохшему руслу ручья, то продирался сквозь заросли колючего кустарника; чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие с деревьев над его головой, ему приходилось карабкаться на скалы. Вокруг стояла мертвая тишина.
У доктора вырвался вздох облегчения, когда он наконец увидел маленький некрашеный домишко, теперь совсем обветшавший и грязный; но и возле дома царила та же нестерпимая тишина. Он подошел поближе, и маленький мальчик, беспечно игравший на солнцепеке, испуганно шарахнулся от него – здесь любой незнакомец был враг. Доктору показалось, однако, что ребенок следит за ним из-за ствола пальмы. Дверь на веранду стояла настежь. Он крикнул – никто не отозвался. Он вошел. Постучался, но и на этот раз ответа не было. Он нажал ручку второй двери и открыл ее. От зловония, которым пахнуло на него, ему сделалось дурно. Он прижал платок к носу и заставил себя войти в комнату. Она тонула в полумраке, и после яркого солнечного света он в первую минуту ничего не видел. Потом он вздрогнул. Он не понимал, где находится. Какой-то сказочный мир окружал его. Ему смутно чудился девственный лес, в котором обнаженные люди расхаживали под деревьями. Потом он понял, что это так расписаны стены.
– Mon Dieu, неужто у меня солнечный удар, – пробормотал доктор.
Легкое движение в комнате привлекло его внимание, и он увидел Ату. Она лежала на полу и тихо плакала.
– Ата, – позвал он, – Ата!
Она не подняла головы. Его опять затошнило от омерзительного запаха, и он закурил сигару. Глаза его привыкли к темноте, и страшное волнение овладело им, когда он всмотрелся в расписанные стены. Он ничего не понимал в живописи, но здесь было что-то такое, что потрясло его. От пола до потолка стены покрывала странная и сложная по композиции живопись. Она была неописуемо чудесна и таинственна. У доктора захватило дух. Чувства, поднявшиеся в его сердце, не поддавались ни пониманию, ни анализу. Благоговейный восторг наполнил его душу, восторг человека, видящего сотворение мира. Это было нечто великое, чувственное и страстное; и в то же время это было страшно, он даже испугался. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны – прекрасные и пугающие. Руками человека, познавшего то, что человеку познать не дозволено. Это было нечто первобытное и ужасное. Более того – нечеловеческое. Доктор невольно подумал о черной магии. Это было прекрасно и бесстыдно.
– Бог мой, он гений!
Эти слова вырвались у доктора помимо его воли.
Затем его взгляд упал на груду циновок в углу, он приблизился и увидел то страшное, изувеченное, безобразное, что когда-то было Стриклендом. Стрикленд был мертв. Доктор Кутра взял себя в руки и склонился над изуродованным трупом. Но тут же вздрогнул, сердце его на миг перестало биться от ужаса: кто-то стоял за ним! Это была Ата. Он не слышал, как она подошла. Она стояла рядом и смотрела на то же, на что смотрел он.
– Господи ты Боже мой, мои нервы никуда не годятся. Вы меня до смерти напугали.
Он еще раз бросил взгляд на жалкие останки того, что было человеком, и вдруг отшатнулся.
– Он был слеп!
– Да, он ослеп уже год назад.
Глава пятьдесят седьмая
Но тут наш разговор был прерван появлением мадам Кутра. Она делала визиты и теперь вернулась домой. Мадам Кутра вплыла, как корабль на всех парусах; весьма представительная дама, высокая, дородная, с пышным бюстом, с телесами, скованными устрашающе тугим корсетом. У нее был крупный нос крючком и тройной подбородок. Держалась она очень прямо. Она ни на мгновение не поддалась расслабляющему очарованию тропиков; напротив, была даже более деятельной, более светской и энергичной, чем можно представить себе даму в умеренном климате. Неистощимая говорунья, она тотчас же излила на нас поток новостей и сенсаций. С ее приходом разговор, который мы только что вели, стал казаться далеким и нереальным.
Наконец доктор Кутра прервал ее:
– У меня в кабинете все еще висит картина Стрикленда. Хотите взглянуть?
– С удовольствием.
Мы поднялись, и он повел меня на веранду, вернее, на галерею, окружавшую дом. Там мы постояли, любуясь буйной яркостью цветов в его саду.
– Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах дома Стрикленда, – задумчиво проговорил он.
Я думал о том же. Мне казалось, что Стрикленд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем. Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он, верно, сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И, кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был наконец изгнан, и вместе с завершением работы, изнурительной подготовкой к которой была вся его жизнь, покой снизошел на его исстрадавшуюся мятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение.
– А что изображала эта роспись?
– Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские кущи, Адама и Еву, que sais-je?[34] – это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского, славословие природе, величавой, равнодушной, прельстительной и жестокой. Дух захватывало от ощущения бесконечности пространства и нескончаемости времени. Стрикленд написал деревья, которые я видел каждый день: кокосовые пальмы, баньяны, тамаринды, аллигаторовы груши, – и с тех пор вижу совсем иными, словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомые мне – и в то же время другие. В них было собственное, им одним присущее значение. А эти нагие люди, мужчины и женщины! Земные и, однако, чуждые земному. В них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра божества. Перед вами был человек во всей наготе своих первобытных инстинктов, и мороз подирал вас по коже, потому что это были вы сами.
Доктор Кутра пожал плечами и усмехнулся.
– Вы будете смеяться надо мной. Я материалист и вдобавок грузный, толстый мужчина – Фальстаф, что ли? Лирика мне не к лицу. Я выставляю себя на посмешище. Но даю вам слово, никогда в жизни искусство не производило на меня такого впечатления. Tenez[35], то же самое чувство я испытал в Сикстинской капелле. Я благоговел перед человеком, расписавшим этот потолок. Это было гениально и грандиозно. Я чувствовал себя ничтожным червем. Но к величию Микеланджело мы подготовлены. Нельзя было быть подготовленным к тому чуду, которое явилось мне в туземной хижине, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье над Таравао. Микеланджело здоров и нормален. В его творениях – спокойствие величия, но здесь что-то смущало душу. Не знаю, что именно. Но мне было не по себе. Как вам объяснить это чувство? Точно сидишь у дверей комнаты, наверное зная, что в ней никого нет, и в то же время с ужасом сознаешь, что в ней все-таки кто-то есть. В таких случаях бранишь себя: ведь это пустое, нервы… и тем не менее… Минута-другая – и ты уже не можешь бороться со страхом, непостижимый ужас душит тебя. Да, скажу по правде, я не был особенно огорчен, когда узнал, что эти странные шедевры уничтожены.
– Уничтожены! – воскликнул я.
– Mais oui[36], разве вы не знали?
– Откуда мне знать? Я никогда раньше не слыхал об этих вещах, но, слушая вас, надеялся, что они попали в руки какого-нибудь любителя-коллекционера. Ведь полного списка работ Стрикленда еще и поныне не существует.
– Когда он ослеп, он часами сидел в этих двух расписанных им комнатушках, незрячими глазами смотрел на свои творения и видел, может быть, больше, чем прежде, больше, чем за всю свою жизнь. Ата говорила мне, что он никогда не жаловался на судьбу, никогда не терял мужества. До самого конца дух его оставался ясным и добрым. Но он взял с нее слово, что когда она похоронит его – я, кажется, не сказал вам, что своими руками вырыл для него могилу, так как никто из туземцев не решался подойти к зараженному дому, мы с ней завернули его тело в три парео, сшитых вместе, и похоронили под манговым деревом, – так вот, он взял с нее слово, что она подожжет дом и не уйдет, покуда он не сгорит дотла.
Я довольно долго молчал и думал, потом сказал:
– Значит, он до конца остался таким, как был.
– Вы полагаете? А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия.
– Даже после того, что вы мне рассказали?
– Да, я ведь уже понял, что это создание гения, и думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но Ата меня и слушать не хотела. Она дала слово. Я ушел, не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах, и уже позднее узнал, что она исполнила его волю. Облила керосином пол, панданусовые циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки, великого произведения искусства более не существовало.
– По-моему, Стрикленд знал, что это шедевр. Он достиг того, чего хотел. Его жизнь была завершена. Он сотворил мир и увидел, что он прекрасен. Затем из гордости и высокомерия он уничтожил его.
– Ну, да пора уже показать вам картину, – сказал доктор Кутра и пошел к двери.
– А что сталось с Атой и ее ребенком?
– Они уехали на Маркизские острова. У нее там родственники. Я слышал, что ее сын служит на какой-то шхуне. Говорят, он очень похож на отца.
У самой двери в кабинет доктор остановился.
– Это натюрморт с фруктами, – улыбаясь, сказал он. – Вы скажете, сюжет не слишком подходящий для кабинета врача, но моя жена не желает терпеть эту картину в гостиной. По ее мнению, она слишком непристойна.
– Непристойна! Но ведь это натюрморт! – в изумлении воскликнул я.
Мы вошли в кабинет, и картина сразу бросилась мне в глаза. Я долго смотрел на нее.
Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек.
Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпис-лазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскрешавшей в памяти смутные видения Римской империи времен Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось Рождество в Англии, снег, доброе веселье и радостные возгласы детей, – но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в противоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их – значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли нежданными опасностями, и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога. Все здоровое и естественное, все приверженное добру и простым радостям простых людей должно было в страхе отшатнуться от этих плодов – и все же была в них необоримо притягательная сила: подобно плоду от древа познания добра и зла, они были чреваты всеми возможностями Неведомого.
Я не выдержал и отвел глаза. Теперь я знал, что Стрикленд унес свою тайну в могилу.
– Voyons, René, mon ami[37], – послышался громкий бодрый голос мадам Кутра. – Что вы там делаете так долго? Вас ждут аперитивы. Спроси мосье, не хочет ли он рюмочку дюбоннэ.
– Volontiers[38], мадам, – ответил я, выходя на веранду.
Чары были разрушены.
Глава пятьдесят восьмая
Пришло время моего отъезда с Таити. Согласно гостеприимному обычаю острова, все, с кем я здесь встречался, преподнесли мне подарки: корзиночки, сплетенные из листьев кокосовой пальмы, циновки из пандануса, веера. Тиаре подарила мне три маленькие жемчужины и три банки желе из гуавы, сваренного ее собственными пухлыми руками. Когда почтовый пароход, по пути из Веллингтона в Сан-Франциско на сутки заходивший на Таити, дал последний гудок, призывая пассажиров на борт, Тиаре прижала меня к своей могучей груди – я точно погрузился в зыблющиеся волны – и крепко поцеловала в губы. На глазах у нее блестели слезы. И когда мы медленно выбирались из лагуны, осторожно лавируя между рифами, и наконец вышли в открытое море, на душе у меня было печально. Бриз все еще доносил до нас чарующие ароматы острова. Таити – дальний край, и я знал, что больше никогда не увижу его. Еще одна глава моей жизни закончилась, и я почувствовал себя ближе к неизбежной смерти.
Через месяц я был уже в Лондоне; устроив свои наиболее неотложные дела, я написал миссис Стрикленд, полагая, что ей интересно будет послушать мой рассказ о последних годах ее мужа. В последний раз я виделся с нею задолго до войны, и теперь мне пришлось разыскивать ее адрес по телефонной книге. Она назначила мне день, и я пришел в ее новый нарядный домик на Кэмпден-Хилл. Ей, должно быть, было уже под шестьдесят, но она легко несла бремя своих лет, и больше пятидесяти никто бы ей не дал. Лицо ее, худое и не слишком морщинистое, принадлежало к тому типу лиц, что в старости становятся особенно благообразными. По теперешнему виду миссис Стрикленд можно было предположить, что в молодости она была очень хороша собой, чего на самом деле никогда не было. Волосы, не седые, но с проседью, она причесывала очень элегантно, и ее черное платье было сшито по последней моде. Кто-то мне говорил, и теперь я это вспомнил, что ее сестра, миссис Мак-Эндрю, пережившая мужа всего на два года, оставила ей свое состояние; судя по дому и нарядной горничной, которая открыла мне дверь, это была сумма, вполне достаточная для пристойного существования вдовы.
В гостиной я застал еще одного гостя и, узнав, кто он, понял, что меня не без умысла пригласили именно на этот час. Миссис Стрикленд представила меня мистеру ван Бюсе-Тэйлору с такой очаровательной улыбкой, что казалось, она извиняется за меня перед этим почтенным американцем.
– Мы, англичане, так ужасно невежественны. Вы уж простите меня за вынужденное объяснение. – С этими словами она обернулась ко мне. – Мистер ван Бюсе-Тэйлор – выдающийся американский критик. Если вы не читали его книги, это большой пробел в вашем образовании, и вам следует немедленно его восполнить. Сейчас мистер Тэйлор пишет о нашем дорогом Чарли и приехал ко мне с просьбой кое в чем помочь ему.
Мистер ван Бюсе-Тэйлор был весьма сухопарый мужчина с большим лысым черепом, отчего его желтое лицо, изборожденное глубокими морщинами, казалось совсем маленьким. Он говорил с американским акцентом и был необыкновенно учтив и сдержан. Глядя на его ледяное спокойствие, я невольно спрашивал себя, какого черта он заинтересовался Чарлзом Стриклендом. Меня позабавила нежность, с которой миссис Стрикленд упомянула о своем муже, и, покуда они оба разговаривали, я рассмотрел комнату. Миссис Стрикленд не отстала от времени. Обои Морриса и строгий кретон исчезли бесследно, равно как и гравюры Эренделя, некогда украшавшие ее гостиную на Эшли-Гарденз. Теперь здесь сверкали яркие краски, и я задавался вопросом, знает ли миссис Стрикленд, что эти фантастические тона, предписанные модой, обязаны своим возникновением мечтам бедного художника на далеком острове в Южных морях? Она сама ответила мне на этот вопрос.
– Какие у вас изумительные подушки, – сказал мистер ван Бюсе-Тэйлор.
– Вам они нравятся? – улыбаясь, спросила она. – Это Бакст.
А на стенах висели цветные репродукции с лучших картин Стрикленда, выпущенные в свет неким берлинским издателем.
– Вы смотрите на мои картины, – сказала миссис Стрикленд, проследив за моим взглядом. – Оригиналы, конечно, мне недоступны, но я рада и этим копиям. Мне прислал их издатель. Это большое утешение для меня.
– Должно быть, очень приятно жить среди этих картин, – заметил мистер ван Бюсе-Тэйлор.
– Да, они так декоративны.
– Мое глубочайшее убеждение, – сказал мистер ван Бюсе-Тэйлор, – что подлинное искусство всегда декоративно.
Глаза его и миссис Стрикленд остановились на обнаженной женщине, кормящей грудью ребенка. Рядом с ней молодая девушка, стоя на коленях, протягивала цветок не видящему ее младенцу. На них смотрела старая морщинистая ведьма. Это была Стриклендова версия святого семейства. Я подозревал, что моделями для этих фигур служили его таитянские домочадцы, а женщина и ребенок были Ата и ее первенец. «Но знает ли что-нибудь об этом миссис Стрикленд?» – спрашивал я себя.
Разговор продолжался, и мне оставалось только дивиться такту, с которым мистер ван Бюсе-Тэйлор обходил все, что могло бы смутить хозяйку, и ловкости миссис Стрикленд: не говоря ни слова лжи, она давала ему понять, что с мужем у нее всегда были наилучшие отношения. Наконец мистер ван Бюсе-Тэйлор поднялся и стал прощаться. Держа руку миссис Стрикленд, он рассыпался в изящнейших и изысканнейших благодарностях.
– Надеюсь, он не очень наскучил вам, – сказала она, едва только за ним закрылась дверь. – Конечно, это утомительное занятие, но я считаю себя обязанной рассказать людям о Чарли все, что могу рассказать. Быть женою гения – немалая ответственность.
Она посмотрела на меня открытым и ясным взглядом, таким же, как двадцать с лишним лет назад. «Уж не смеется ли она надо мною?» – подумал я.
– Вы, конечно, закрыли свое дело? – спросил я.
– О да, – небрежно отвечала миссис Стрикленд. – Я ведь тогда занялась этим больше от скуки, чем еще по каким-нибудь причинам, и дети уговорили меня продать контору. Они считали, что я переутомляюсь.
Миссис Стрикленд явно позабыла, что в свое время ей пришлось «унизиться» до того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Безошибочный инстинкт красивой женщины говорил ей, что жить прилично только на чужой счет.
– Мои дети сейчас здесь, – сказала она. – Я подумала, что им интересно будет послушать об отце. Вы помните Роберта? Могу похвалиться. Он представлен к «Военному кресту».
Она открыла дверь и позвала детей. В комнату вошел высокий мужчина в хаки, но с пасторским воротником, несколько тяжеловатый, красивый, все с теми же правдивыми глазами, которые были у него в детстве. Следом шла его сестра. Ей, верно, было столько же лет, сколько ее матери, когда я с ней познакомился, и она очень на нее походила. По ее виду тоже казалось, что в детстве она была очень хорошенькой, хотя на самом деле это было не так.
– Вы их, конечно, не узнаете, – горделиво улыбаясь, заметила миссис Стрикленд. – Моя дочь теперь миссис Роналдсон. Ее муж майор артиллерии.
– Он у меня настоящий солдат, – весело сказала миссис Роналдсон. – Потому он и не пошел дальше майора.
Мне вспомнилось, как я почему-то был уверен, что она выйдет замуж за военного. Это было неизбежно. У нее все повадки «военной» дамы. Очень любезная и скромная, миссис Роналдсон не могла скрыть своего убеждения, что она не такая, как все. У Роберта манеры были непринужденные.
– Как это удачно, что я оказался в Лондоне к вашему возвращению, – сказал он. – У меня отпуск всего на три дня.
– Он всей душой рвется назад, в свою часть, – заметила его мать.
– Не скрою, что я там отлично провожу время. У меня завелось много приятелей. Это настоящая жизнь. Война, конечно, ужасная штука и так далее и тому подобное, но она выявляет в человеке все лучшее, это несомненно.
Я рассказал им все, что слышал о жизни Чарлза Стрикленда на Таити. Говорить об Ате и ее сыне я счел излишним, но во всем остальном был по мере возможности точен. Кончил я рассказом о страшной его смерти. Минуту-другую в комнате царило молчание. Затем Роберт Стрикленд чиркнул спичкой и закурил.
– Жернова Господни мелют хоть и медленно, но верно, – внушительно сказал он.
Миссис Стрикленд и миссис Роналдсон благочестиво опустили глаза долу, они явно сочли эти слова цитатой из Священного Писания. Мне показалось, что и Роберт Стрикленд разделяет это заблуждение. Сам не знаю почему, я вдруг подумал о сыне Стрикленда и Аты. Мне говорили на Таити, что он веселый, приветливый юноша. Я словно воочию увидел его на шхуне, полуголым, только в коротких штанах. День у него проходит в труде, а вечером, когда шхуна легко скользит по волнам, подгоняемая попутным ветерком, матросы собираются на верхней палубе; покуда капитан с помощниками отдыхают в шезлонгах, попыхивая трубками, он неистово пляшет с другим юношей под визгливые звуки концертино. Над ним густая синева небес, звезды и, сколько глаз хватает, пустыня Тихого океана.
Цитата из Библии вертелась у меня на языке, но я попридержал его, зная, что духовные лица считают кощунством, если простые смертные забираются в их владения. Мой дядя Генри, двадцать семь лет бывший викарием в Уитстебле, в таких случаях говаривал, что дьявол всегда сумеет подыскать и обернуть в свою пользу цитату из Библии. Он еще помнил те времена, когда за шиллинг можно было купить даже не дюжину лучших устриц, а целых тринадцать штук.
Узорный покров
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2013.
Предисловие автора
На замысел этой книги меня натолкнули следующие строки из Данте:
- «Deh, quando tu sarai tomato al mondo,
- e riposato de la lunga via»,
- seguitò’l terzo spirito al secondo,
- «recorditi di me ehe son la Pia:
- Siena mi fe’; disfecimi Maremma;
- saisi colui che’nnanellata pria
- disposando m’avea con la sua gemma».
«Прошу тебя, когда ты возвратишься в мир и отдохнешь от долгих скитаний, – заговорила третья тень, сменяя вторую, – вспомни обо мне, я – Пия. Сиена породила меня, Маремма меня погубила – это знает тот, кто, обручившись со мной, подарил мне кольцо и назвал своею супругой»[39].
Я тогда учился в медицинской школе при больнице Св. Фомы и, оказавшись свободным на шесть недель пасхальных каникул, пустился в путь с небольшим чемоданом, в котором уместилась вся моя одежда, и с двадцатью фунтами стерлингов в кармане. Мне было двадцать лет. Через Геную и Пизу я приехал во Флоренцию. Там, на Виа Лаура, я снял комнату с видом на прелестный купол собора у вдовы с дочерью, которая, поторговавшись сколько следует, согласилась сдать мне эту комнату с пансионом за четыре лиры в день. Боюсь, для вдовы эти условия оказались не очень выгодными: аппетит у меня был зверский, я с легкостью поглощал целые горы макарон. В тосканских горах у вдовы был виноградник, и, сколько помнится, нигде в Италии я больше никогда не пил такого вкусного кьянти. Ее дочь ежедневно давала мне урок итальянского языка. Мне она казалась женщиной едва ли не пожилой, хотя было ей, как я теперь понимаю, лет двадцать шесть, не больше. Она пережила большое горе. Ее жених, офицер, был убит в Абиссинии, и она дала обет безбрачия. Было решено, что по смерти матери (женщины седовласой, но цветущей и жизнерадостной, не собиравшейся покинуть этот мир ни на день раньше, чем повелит Господь) Эрсилия пойдет в монастырь. Такая перспектива ничуть ее не удручала. Она любила пошутить, посмеяться. Обеды и завтраки проходили у нас весело, но к нашим занятиям она относилась серьезно и, когда я бывал непонятлив или невнимателен, стукала меня по рукам черной линейкой. Я бы вознегодовал, что со мной обращаются как с ребенком, однако это напомнило мне об учителях былых времен, о которых я читал, а тогда мне стало смешно.
Дни мои были заполнены до отказа. Каждое утро я для начала переводил несколько страниц из какой-нибудь пьесы Ибсена, чтобы овладеть техникой естественного диалога; затем с томиком Рескина в руках шел осматривать достопримечательности Флоренции. Согласно предписаниям, я восхищался башней Джотто и бронзовой дверью Гильберти. Как полагалось, приходил в восторг от Боттичелли в галерее Уффици и по крайней своей молодости пренебрежительно отворачивался от того, чего мой кумир и наставник не одобрял. После завтрака был урок итальянского, а потом я опять уходил из дому, посещал церкви и мечтал, бродя по берегам Арно. После обеда я пускался на поиски приключений, но был до того невинен или, во всяком случае, робок, что всегда возвращался домой, не потеряв и грана добродетели. Синьора, хоть и дала мне ключ от входной двери, вздыхала с облегчением, когда слышала, как я вхожу и задвигаю засов – она вечно боялась, что я забуду это сделать, – а я принимался за чтение истории гвельфов и гибеллинов с того места, где остановился накануне. Я с горечью сознавал, что не так проводили время в Италии поэты-романтики (хотя едва ли хоть один из них сумел прожить здесь шесть недель за двадцать фунтов стерлингов), и от души наслаждался моей трезвой и деятельной жизнью.
«Ад» Данте я уже прочел раньше (с помощью перевода на английский, но добросовестно отыскивая незнакомые слова в словаре), так что с Эрсилией мы начали с «Чистилища». Когда мы дошли до того места, которое я процитировал выше, она объяснила мне, что Пия была сиенской дворянкой, чей муж, заподозрив ее в неверности, но опасаясь мести ее знатной родни в том случае, если он велит ее убить, увез ее в свой замок в Маремме, в расчете, что тамошние ядовитые испарения с успехом заменят палача; однако она не умирала так долго, что он потерял терпение и приказал выбросить ее из окна. Откуда Эрсилия все это знала – понятия не имею, в моем издании примечание было не столь подробное, но история эта почему-то поразила мое воображение, я мысленно поворачивал ее так и этак в течение многих лет, снова и снова размышлял над ней по два-три дня кряду. Я все повторял про себя строку «Сиена породила меня, Маремма меня погубила». Но это был лишь один из многих сюжетов, теснившихся у меня в голове, и я подолгу вообще не вспоминал о нем. Я, разумеется, представлял себе какую-то современную повесть и никак не мог придумать, в какой современной обстановке такие события могли бы произойти, не утратив правдоподобия. Нашел я такую обстановку лишь после того, как совершил долгое путешествие в Китай.
Пожалуй, это единственный из моих романов, который я писал, исходя не столько из характеров, сколько из фабулы. Объяснить, как соотносятся характеры и фабула, нелегко. Нельзя создать персонаж в безвоздушном пространстве: как только начинаешь о нем думать, представляешь его себе в какой-то ситуации, он совершает какие-то поступки; и выходит, что характер и хотя бы основное действие зарождаются в воображении одновременно. Но в данном случае персонажи были подобраны в соответствии с сюжетом; и списаны они были с людей, которых я давно знал – правда, при других обстоятельствах.
С этой книгой у меня не обошлось без неприятностей из тех, что подстерегают каждого писателя. Сначала я дал своим героям фамилию Лейн, довольно распространенную, но оказалось, что какие-то люди с такой фамилией живут в Гонконге. Они предъявили иск издателю журнала, в котором печатался роман, и он был вынужден уплатить 250 фунтов, а я изменил фамилию героев на Фейн. Затем помощник гонконгского губернатора, усмотрев в романе клевету на себя, пригрозил подать в суд. Это меня удивило. Ведь в Англии мы можем показать на сцене премьер-министра, вывести в романе архиепископа Кентерберийского или лорд-канцлера, и эти высокопоставленные лица и бровью не поведут. Мне показалось странным, что человек, временно занимавший столь незначительный пост, мог счесть себя оскорбленным, но, чтобы избежать лишнего шума, я изменил Гонконг на вымышленную колонию Цинянь[40]. К тому времени книга была уже отпечатана, но тираж так и не поступил в продажу. Некоторые из рецензентов, успевших получить книгу от издателя, под тем или иным предлогом ее не вернули, и эти экземпляры стали библиографической редкостью. Насколько я знаю, их насчитывается штук шестьдесят, и коллекционеры платят за них большие деньги.
1
О, не приподнимай покров узорный,
Который люди жизнью называют.
Она испуганно вскрикнула.
– Что случилось? – спросил он.
Ставни были закрыты, но он и в темноте увидел, что лицо ее исказилось от ужаса.
– Кто-то пробовал отворить дверь.
– Наверно, ама[41] или кто-нибудь из слуг.
– Они в это время никогда не приходят. Им известно, что после второго завтрака я всегда отдыхаю.
– Так кто же это мог быть?
– Уолтер, – прошептали ее дрогнувшие губы.
Она указала на его ботинки. Он попытался их надеть, но ее тревога передалась и ему – руки не слушались, к тому же ботинки были тесноваты. С коротким раздраженным вздохом она протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и босиком прошла к туалетному столику. Волосы ее были коротко острижены, и она привела их в порядок еще до того, как он успел зашнуровать второй ботинок. Она сунула ему в руки пиджак.
– Как мне выйти?
– Лучше подожди немного. Я пойду взгляну, свободен ли путь. – Не мог это быть Уолтер. Он ведь никогда не уходит из лаборатории раньше пяти.
– А кто же?
Они говорили шепотом. Ее трясло. У него мелькнула мысль, что в критическую минуту она способна потерять голову, и неожиданно он обозлился. Если риск был, какого черта она уверяла, что риска нет? Она ахнула и схватила его за руку. Он проследил за ее взглядом. Они стояли лицом к стеклянным дверям, выходившим на веранду. Ставни были закрыты, засовы задвинуты. Белая фарфоровая ручка двери медленно повернулась. А они и не слышали, чтобы кто-нибудь прошел по веранде. Среди полного безмолвия это было очень страшно. Прошла минута – ни звука. Потом так же бесшумно, так же пугающе, словно повинуясь сверхъестественной силе, повернулась белая фарфоровая ручка второй двери. Это было так жутко, что Китти не выдержала, открыла рот, готовая закричать, но он, заметив это, быстро накрыл ей рот ладонью, и крик замер у него между пальцев.
Молчание. Она прислонилась к нему, колени у нее дрожали, он боялся, что она потеряет сознание. Хмурясь, сжав зубы, он подхватил ее и отнес на кровать. Она была белее простыни, и сам он побледнел под загаром. Он стоял, не в силах оторвать взгляд от фарфоровой ручки. Оба молчали. Потом он увидел, что она плачет.
– Ради Бога, перестань, – шепнул он сердито. – Попались так попались. Как-нибудь выкрутимся.
Она стала искать платок, и он подал ей ее сумочку.
– Где твой шлем?
– Оставил внизу.
– О Господи!
– Да ну же, возьми себя в руки. Ручаюсь, что это был не Уолтер. С какой стати ему было приходить домой в это время? Ведь он никогда не приходит среди дня?
– Никогда.
– Ну вот. Голову даю на отсечение, что это была ама.
Она чуть заметно улыбнулась. Его теплый, обволакивающий голос немного успокоил ее, она взяла его руку и ласково пожала. Он дал ей время собраться с силами, потом сказал:
– Ну знаешь, надо на что-то решаться. Может, выйдешь на веранду, оглядишься?
– Мне кажется, если я встану, то сразу упаду.
– Бренди у тебя здесь есть?
Она покачала головой. Он помрачнел, чувствуя, что теряет терпение, не зная, как быть. Вдруг она крепче стиснула его руку.
– А если он там дожидается?
Он заставил себя улыбнуться и отвечал тем же мягким, ласкающим голосом, силу которого так хорошо сознавал:
– Ну, это едва ли. Да не трусь ты, Китти. Не мог это быть твой муж. Если бы он пришел и увидел в прихожей чужой шлем, а поднявшись наверх, обнаружил, что твоя дверь заперта, уж он не стал бы молчать. Конечно же, это был кто-нибудь из слуг. Только китаец мог повернуть ручку так осторожно.
У нее немного отлегло от сердца.
– Не очень-то это приятно, даже если это была ама.
– С ней можно договориться, а в случае чего я ее припугну. Быть правительственным чиновником не так уж сладко, но кое-какие преимущества это дает.
Наверно, он прав. Она встала, повернулась к нему, протянула руки, он обнял ее и поцеловал в губы. Она задохнулась от счастья, как от боли. Она боготворила его. Он отпустил ее, и она пошла к двери. Отодвинула засов, приоткрыла ставень, выглянула. Ни души. Она скользнула на веранду, заглянула в туалетную комнату мужа, потом в свой будуар. Пусто и там и тут. Она вернулась в спальню и поманила его:
– Никого.
– Скорее всего это был обман зрения.
– Не смейся. Я до смерти перепугалась. Пройди в мой будуар и подожди там, я только обуюсь.
2
Он послушался, и через пять минут она тоже пришла в будуар. Он курил папиросу.
– Ну что, получу я теперь бренди с содовой?
– Да, сейчас позвоню.
– Тебе и самой не мешало бы выпить.
Они молча дождались, пока явился бой и, выслушав приказание, вышел из комнаты, а потом она сказала:
– Позвони в лабораторию, спроси, там ли Уолтер. Твоего голоса они не знают.
Он взял трубку, назвал номер. Попросил к телефону доктора Фейна. Положил трубку и сообщил:
– Ушел еще до завтрака. Спроси боя, приходил ли он домой.
– Боюсь. Странно получится, если он приходил, а я его не видела.
Бой принес поднос с напитками, и Таунсенд налил себе стакан. Предложил и ей, но она отказалась.
– Как же быть, если это был Уолтер? – спросила она.
– Может, он посмотрит на это сквозь пальцы?
– Кто, Уолтер?
В ее голосе прозвучало сомнение.
– Мне он всегда казался человеком застенчивым. Есть, знаешь ли, мужчины, которые не выносят сцен. У него хватит ума понять, что устраивать скандал – не в его интересах. Я ни на минуту не допускаю, что это был Уолтер, но, даже если это был он, сдается мне, что он ничего не предпримет. Просто оставит без внимания.
Она отозвалась не сразу.
– Он в меня сильно влюблен.
– Ну что ж, тем лучше. Ты усыпишь его подозрения.
Он подарил ее той чарующей улыбкой, которую она всегда находила неотразимой. Улыбка была медленная, она возникала в его ясных синих глазах и зримо спускалась к красиво очерченному рту, обнажая ровные мелкие белые зубы. Очень чувственная улыбка, от которой у нее все таяло внутри.
– А мне все равно, – сказала она почти весело. – Дело того стоило.
– Это я виноват.
– Да, зачем ты пришел? Я просто глазам не поверила.
– Не мог удержаться.
– Милый.
Она склонилась к нему, страстно глядя ему в глаза своими темными блестящими глазами, приоткрыв губы, и он обнял ее. С блаженным вздохом она отдалась под защиту этих сильных рук.
– Ты же знаешь, что можешь на меня положиться, – сказал он.
– Мне с тобой так хорошо. Если б знать, что тебе так же хорошо со мной.
– И страхи прошли?
– Я ненавижу Уолтера, – ответила она.
Что сказать на это, он не знал и только поцеловал ее, вдохнув прелесть ее нежной кожи.
А потом взял ее руку и посмотрел на золотые часики-браслет.
– Ты знаешь, что мне теперь пора делать?
– Бежать? – улыбнулась она.
Он кивнул. На мгновение она крепче прильнула к нему, но, почувствовав, что ему не терпится уйти, тут же отстранилась.
– Просто безобразие так запускать работу. Уходи сию же минуту.
Он никогда не мог устоять перед искушением пококетничать.
– Надо же, как ты спешишь от меня избавиться! – парировал он шутливо.
– Ты сам знаешь, я не хочу, чтобы ты уходил.
Это было сказано тихо, искренне, серьезно. Он усмехнулся, польщенный.
– Не ломай себе головку над нашим таинственным гостем. Я уверен, это была ама. А если возникнут затруднения, не сомневайся, я тебя выручу.
– У тебя в этом смысле богатый опыт?
Он улыбнулся весело и самодовольно.
– Нет, но смею думать, у меня есть голова на плечах.
3
Она вышла на веранду и видела, как он уходил. Он помахал ей. Она смотрела ему вслед, и сердце ее трепетало. Сорок один год, а фигура легкая и походка пружинистая, как у юноши.
Веранда была в тени, и она еще помедлила там, разнеженная, утомленная любовью. Дом их стоял в Счастливой долине, на склоне холма. Более фешенебельная, но и более дорогая Вершина была им не по средствам. Но ее рассеянный взор почти не воспринимал синеву моря и гавань, заполненную судами. Все ее мысли были о любовнике.
Сегодня они, конечно, допустили страшную глупость, но возможно ли осторожничать, если он ее хочет? Два-три раза он уже заходил к ней после второго завтрака, когда все спасаются по домам от жары, и даже бои не видели, как он входил в дом и выходил на улицу. В Гонконге с этим было очень трудно. Она ненавидела китайскую часть города, всегда нервничала, входя в грязный домишко близ Виктория-роуд, где обычно происходили их свидания. Дом принадлежал торговцу-антиквару, и китайцы, рассевшись в лавке, глазели на нее. Она ненавидела угодливую улыбку на лице старика хозяина, когда он провожал ее в глубину дома и вверх по темной лестнице. Комната, куда он вводил ее, была неопрятная, душная, от большой деревянной кровати, стоявшей у стены, ее бросало в дрожь.
– Неприглядно здесь, правда? – сказала она, когда встретилась там с Чарли в первый раз.
– Было неприглядно, пока ты не вошла, – ответил он.
И конечно же, стоило ему обнять ее, как она обо всем забыла.
О, как ужасно, что она не свободна, что они не свободны!
Его жена ей не нравилась. И сейчас она снова вспомнила Дороти Таунсенд. Даже имя ей досталось неудачное – Дороти. Такое имя старит женщину. Ей лет тридцать восемь, никак не меньше. Но Чарли о ней никогда не говорит. Он, разумеется, не любит ее, она ему до смерти надоела. Но он джентльмен. Китти улыбнулась ласково и насмешливо. Вот дурачок – изменять жене считает возможным, но не позволит себе ни единого осудительного слова по ее адресу. Она была высокого роста, выше Китти, не худая и не толстая, с густой русой шевелюрой. Красотой, вероятно, никогда не блистала, разве что красотой молодости. Черты лица недурны, но ничего особенного, голубые глаза холодные. Кожа неважная, щеки без румянца. И одевается, как… ну, как и следует одеваться жене помощника губернатора в Гонконге. Китти улыбнулась и слегка пожала плечами.
Никто, конечно, не стал бы отрицать, что голос у Дороти Таунсенд приятный. Она прекрасная мать, Чарли вечно об этом толкует, а мать Китти говорит о таких женщинах, что они «из благородного семейства». Но Китти ее не любила. Ей не нравилось, что Дороти держится так непринужденно, ее бесила вежливость, которую та проявляла, когда они бывали приглашены к Таунсендам на чаепитие или на обед, – сразу чувствовалось, что ты ей глубоко безразлична. Наверно, вся беда в том, думала Китти, что ее ничего не интересует, кроме собственных детей. Два ее сына учились в школе в Англии, и был еще младший, шести лет, того она собиралась отвезти в Англию на будущий год. А лицо у нее было как маска. Она улыбалась и приятным, воспитанным тоном говорила то, что от нее ожидали услышать, но при всей сердечности держала людей на расстоянии. Было у нее в городе несколько близких приятельниц, те все как одна восхищались ею. Китти подумалось, не считает ли ее миссис Таунсенд немного вульгарной. Она вспыхнула. А кто она такая, эта Дороти, чтобы задирать нос? Правда, отец ее был губернатором целой колонии, это, конечно, очень почетно – когда входишь в комнату, все встают, когда проезжаешь в автомобиле, мужчины на улице снимают шляпы, – но стоит колониальному губернатору уйти в отставку, и он – ничто, ноль без палочки. Отец Дороти Таунсенд живет теперь на пенсию в маленьком доме на Эрлс-Корт, в Лондоне. Мать Китти еще подумала бы, стоит ли идти к Дороти в гости, если бы та ее пригласила. Отец Китти, Бернард Гарстин, – королевский адвокат, не сегодня завтра будет назначен судьей. И живут они как-никак в Саут-Кенсингтоне.
4
Когда Китти после свадьбы приехала в Гонконг, ей было нелегко примириться с тем, что ее положение в обществе определяется специальностью ее мужа. Да, встретили ее очень радушно, и первые два-три месяца они чуть не каждый вечер бывали в гостях. Когда их пригласили на обед в губернаторский дом, губернатор сам повел ее к столу, как новобрачную; но она быстро смекнула, что как жена правительственного бактериолога котируется невысоко. Это ее рассердило.
– Какое идиотство, – заявила она мужу. – Да таких, как эти люди, мы в Англии в грош не ставили. Моей маме и в голову не пришло бы пригласить их к нам на обед.
– Пусть это тебя не волнует, – ответил он. – Ведь это не имеет значения.
– Конечно, не имеет значения, это только показывает, какие они идиоты, но, когда вспомнишь, какие люди бывали у нас в доме, как-то странно, что здесь на нас смотрят сверху вниз.
Он улыбнулся.
– С точки зрения света, ученый – величина несуществующая. Теперь-то она это знала – не знала тогда, когда выходила за него замуж.
– Не могу сказать, что меня очень радует, когда меня сажают за столом рядом с агентом пароходной компании, – сказала она и засмеялась, чтобы он не усмотрел в ее словах снобизма.
Может быть, за наигранной легкостью ее тона он почувствовал упрек, потому что робко пожал ее руку.
– Мне очень жаль, Китти, милая, но ты не огорчайся.
– А я и не думаю огорчаться.
5
Нет, не мог это быть Уолтер. Не иначе как кто-нибудь из слуг, а это, в конце концов, не важно. Слуги-китайцы все равно все знают. Но умеют держать язык за зубами.
Сердце ее чуть екнуло, когда она вспомнила, как поворачивалась белая фарфоровая дверная ручка. Нельзя больше так рисковать. Лучше встречаться в лавке у антиквара. Никто ничего не подумает, даже если увидит, как она туда входит, а уж там они в безопасности. Хозяин лавки знает, какой пост занимает Чарли, и не такой он дурак, чтобы вызвать недовольство помощника губернатора. И вообще все не важно, кроме того, что Чарли ее любит.
Она вернулась в свой будуар, бросилась на диван и потянулась за папиросой. Увидела какую-то записку, лежащую на книге, и развернула ее. Записка была наспех написана карандашом.
Милая Китти! Вот книга, которую Вы хотели прочесть. Я как раз собиралась послать ее Вам, но встретила д-ра Фейна, и он сказал, что сам ее Вам передаст, так как будет проходить мимо дома. Ваша В. X.
Она позвонила и, когда вошел бой, спросила, кто принес эту книгу и когда.
– Принес хозяин, мисси, после завтрак.
Значит, это был Уолтер. Она тут же позвонила по телефону в канцелярию губернатора и, попросив соединить ее с Чарли, сообщила ему эту новость. Ответ последовал не сразу.
– Что мне делать? – спросила она.
– У меня идет важное совещание. К сожалению, сейчас говорить с вами не могу. Мой совет – никакой паники.
Она положила трубку. Значит, он не один. Экая досада, вечно у него дела.
Она села к столу и, опустив лицо в ладони, попробовала спокойно все обдумать. Конечно, Уолтер мог просто решить, что она заснула, а что заперлась в спальне – что ж тут такого? Постаралась вспомнить, разговаривали ли они с Чарли. Если и разговаривали, то, во всяком случае, негромко. И еще этот шлем. Болван, как он мог оставить его внизу? Впрочем, какой смысл ругать Чарли, это было вполне естественно, да Уолтер, возможно, и не заметил его. Он, вероятно, торопился, забросил книгу и записку по дороге на какое-нибудь деловое свидание. Странно только, что он попробовал все двери – и внутреннюю, и обе с веранды. Если он решил, что она спит, едва ли стал бы ее тревожить. Как она могла так оплошать!
Она встрепенулась и, как всегда при мысли о Чарли, опять ощутила в сердце сладкую боль. Да, дело того стоило. Он сказал, что выручит ее, а в худшем случае – что ж… Пусть Уолтер устраивает скандал. У нее есть Чарли, не все ли ей равно? Может, и лучше, если он узнает. Она никогда не любила Уолтера, а с тех пор, как полюбила Чарли Таунсенда, ласки мужа стали ей в тягость. Не захочет больше с ней жить – и очень хорошо. Доказать-то он ничего не может. Если вздумает приставать к ней с расспросами, она все будет отрицать, а если отрицать станет невозможно – выложит ему все начистоту, и пусть делает что хочет.
6
Через три месяца после свадьбы она уже знала, что ошиблась, но виновата в этом не столько она сама, сколько ее мать.
Портрет матери висел тут же на стене, измученный взгляд Китти задержался на нем. Она сама не знала, зачем повесила его, – большой любви к матери у нее не было. Имелась в доме и фотография отца, та стояла внизу на рояле. Он тогда только что стал королевским адвокатом и по этому случаю был снят в парике и в мантии, но даже это не придало ему внушительности. Он был низенький, сухонький, с усталыми глазами и длинной верхней губой, прикрывающей нижнюю, такую же тонкую. Шутник-фотограф попросил его сделать веселое лицо, но лицо получилось не веселое, а строгое. Именно поэтому миссис Гарстин, просматривая пробные снимки, остановила свой выбор на нем: обычно опущенные уголки губ и грустные глаза придавали ему покорно-скорбное выражение, а в этом снимке она усмотрела нечто глубокомысленное. Сама она снялась в том туалете, в котором представлялась ко двору, когда ее муж был повышен в звании. Она выглядела очень величественно в бархатном платье с длинным шлейфом, ниспадающим эффектными складками, с перьями в волосах и цветами в руке. Держалась она очень прямо. В пятьдесят лет это была худая, плоскогрудая женщина с выдающимися скулами и крупным, благородной формы носом. Волосы у нее были густые, черные, гладко причесанные. Китти всегда подозревала, что она их если не красит, то слегка подцвечивает. Ее большие черные глаза никогда не оставались в покое – это, пожалуй, было в ней самое приметное: разговаривая с ней, люди сжимались при виде этих неуемных глаз на бесстрастном, без единой морщинки желтом лице. Они скользили по собеседнику вверх и вниз, перебегали на других гостей и возвращались обратно; чувствовалось, что она вас зондирует, оценивает, в то же время улавливая все, что происходит вокруг, и что слова, которые она произносит, не имеют ничего общего с ее мыслями.
7
Миссис Гарстин была женщина жестокая, властная, честолюбивая, скупая и недалекая. Она была одной из пяти дочерей ливерпульского юриста, и Бернард Гарстин познакомился с ней, когда приезжал в Ливерпуль на выездную сессию суда. Он производил тогда впечатление многообещающего молодого человека, ее отец уверял, что он далеко пойдет. Этого не случилось. Он был старательный, трудолюбивый, способный, но слишком слабовольный, чтобы выдвинуться. Миссис Гарстин презирала его. Однако она пришла к выводу, правда малоутешительному, что сама может добиться успеха только через мужа, и принялась подгонять его по выбранной ею дороге. Она немилосердно пилила его. Она убедилась, что при большом желании можно заставить его сделать и то, что претит его деликатности, – нужно только без отдыха бить в одну точку, и рано или поздно он смирится и уступит. Со своей стороны она поставила себе целью поддерживать знакомство только с нужными людьми. Она льстила адвокатам, которые могли передать ее мужу то или иное дело, и дружила с их женами. Лебезила перед судьями и их благоверными. Обхаживала подающих надежды политических деятелей.
За двадцать пять лет миссис Гарстин ни разу не пригласила в гости человека просто потому, что он ей нравился. Через определенные промежутки времени она давала званые обеды. Но честолюбие в ней вечно боролось со скупостью. Она терпеть не могла тратить деньги. Она уверяла себя, что не хуже других умеет пустить пыль в глаза, а обходится это ей вдвое дешевле. Обеды ее были долгие, обдуманы тщательно, но рассчитаны экономно, и до ее сознания просто не доходило, что люди, когда едят и беседуют, разбираются в том, что пьют. Обернув бутылку шипучего мозельвейна салфеткой, она воображала, что ее гости принимают его за шампанское.
Практика у Бернарда Гарстина была приличная, но не обширная. Многие юристы с меньшим, чем у него, стажем давно его обскакали. Миссис Гарстин заставила его выставить свою кандидатуру в парламент. Расходы по предвыборной кампании взяла на себя партия, но и тут на пути ее честолюбия встала скупость, и она не смогла заставить себя истратить достаточно денег, чтобы заручиться симпатиями избирателей. Бесчисленные пожертвования, которых ждали от Бернарда Гарстина, как от любого кандидата, всякий раз оказывались поменьше, чем следовало. На выборах он не прошел. Миссис Гарстин было бы очень приятно стать женой члена парламента, но неудача не сломила ее. Во время предвыборной кампании она свела знакомство с целым рядом видных общественных деятелей, чем сильно повысила собственный престиж. Она знала, что в палате общин ее муж все равно бы не отличился. Победа на выборах была ей нужна только для того, чтобы он мог рассчитывать на благодарность своей партии, а такая благодарность, конечно, ему обеспечена, если он соберет для нее хоть несколько лишних голосов.
Но он все еще был рядовым адвокатом, а многие, моложе его годами, уже получили шелковую мантию. Ему тоже необходимо было добиться этой чести не только потому, что иначе он не мог надеяться стать судьей, но и просто ради нее: очень уж обидно было, входя в банкетный зал, уступать дорогу женщинам на десять лет ее моложе. Однако тут ее муж оказал упорное сопротивление, от которого она давно успела отвыкнуть. Он боялся, что, став королевским адвокатом, лишится работы. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, сказал он ей, на что она возразила, что поговорки – это последнее прибежище людей умственно отсталых. Он дал ей понять, что доход его может сократиться вдвое, зная, что для нее это самый веский аргумент. Она ничего не желала слушать. Назвала его трусом. Не оставляла его в покое, и кончилось тем, что он, как всегда, уступил. Подал прошение, и оно было быстро уважено.
Опасения его оправдались. Карьеры он не сделал, дела вел редко. Но он не жаловался и если упрекал жену, так только в душе. Стал, пожалуй, еще молчаливее, но дома он всегда был неразговорчив, и домашние его не заметили в нем перемены. Дочери всегда видели в нем только источник дохода; им казалось вполне естественным, что он с ног сбивается, чтобы обеспечить им еду и кров, туалеты, курорты и деньги на булавки. И теперь, когда они уразумели, что по его милости денег стало меньше, их безразличное отношение к нему окрасилось раздраженным презрением. Им и в голову не приходило спросить себя, каково приходится этому незаметному человечку, который рано утром уезжает из дому, а возвращается вечером, когда уже пора переодеваться к обеду. Он был им чужой, но оттого, что это был их отец, они считали само собой разумеющимся, что он должен их любить и лелеять.
8
Но мужество миссис Гарстин поистине достойно было восхищения. В том кругу, в котором она вращалась и который для нее представлял весь мир, она от всех сумела скрыть, как тяжело ей далось крушение ее заветных планов. Старательно рассчитывая каждый шиллинг, она продолжала устраивать званые обеды и по-прежнему, принимая гостей, бывала весела и радушна. Она в совершенстве владела искусством пустой болтовни, которая у них именовалась светской беседой. Она была незаменимой гостьей там, где другим такая болтовня не давалась, у нее всегда находилось о чем поговорить, неловкое молчание она умела сразу прервать каким-нибудь подходящим к случаю замечанием.
Увидеть мужа членом Верховного суда она уже почти не надеялась, но он еще мог рассчитывать на должность судьи в каком-нибудь графстве, а на худой конец – на пост в колониях. Пока же она утешалась тем, что его назначили выездным мировым судьей в каком-то городке в Уэльсе. Но все свои надежды она теперь возложила на дочерей. Удачно выдать их замуж – вот возмещение, которого она ждала за долгие годы бесплодных усилий. Дочерей было две: Китти и Дорис. Дорис всегда была дурнушкой – слишком длинный нос, нескладная фигура; для нее миссис Гарстин не метила высоко – в женихи мог сгодиться любой молодой человек со средствами и приемлемой профессией. Зато Китти росла красавицей. Это стало ясно, еще когда она была маленькой девочкой, – большие темные глаза, живые и лучистые, вьющиеся каштановые волосы с рыжеватым отливом, прелестные зубы и изумительная кожа. Черты лица оставляли желать лучшего: подбородок был слишком широк и нос, хоть и не такой длинный, как у Дорис, все же великоват. Главный секрет ее красоты – молодость, думала миссис Гарстин и чувствовала, что Китти следует выдать замуж, пока не облетело это раннее цветение. Когда она стала выезжать в свет, она была ослепительна – кожа и румянец как у ребенка, к тому же влажные глаза между длинных ресниц сияют как звезды, взглянешь на них – сердце замирает. А до чего весела, до чего кокетлива! Миссис Гарстин сосредоточила на ней всю любовь, на какую была способна, – любовь жесткую, практичную, расчетливую. Она опять лелеяла честолюбивые мечты – эта ее дочь должна сделать не просто хорошую, а блестящую партию, на меньшее она не согласна.
Китти, которой с детства внушили, что она будет красавицей, догадывалась о честолюбивых замыслах матери. Они совпадали с ее желаниями. Она стала выезжать, и миссис Гарстин всеми правдами и неправдами добывала приглашения на балы, где ее дочь могла познакомиться с подходящими мужчинами. Китти произвела фурор. Красивая, к тому же не скучная, она очень быстро пленила десятка полтора мужчин. Но подходящих среди них не было, и Китти, хоть и была со всеми одинаково мила и приветлива, ни одному не оказывала предпочтения. По воскресеньям в гостиную в Саут-Кенсингтоне валом валили влюбленные молодые люди, но миссис Гарстин с одобрительной улыбочкой отметила, что Китти и без ее помощи умеет держать их на расстоянии. Китти с ними флиртовала, для забавы сталкивала их лбами, но, когда они делали предложение – а без этого не обходилось, – отказывала им тактично, но решительно.
Так прошел и ее первый, и второй сезон, а идеальный поклонник все не появлялся на горизонте; но Китти была молода, и миссис Гарстин рассудила, что время терпит. Своим знакомым она разъясняла, что, по ее мнению, девушки, которые выходят замуж до двадцати одного года, достойны жалости. Однако миновал и третий год, и четвертый. Некоторые из прежних вздыхателей сделали предложение по второму разу, но они все еще были бедны; предложили руку и сердце два-три совсем зеленых юнца, моложе Китти, а затем – некий отставной чиновник гражданской службы в Индии, награжденный орденом Индийской империи, тому было пятьдесят три года. Китти по-прежнему много танцевала, ездила на теннисные турниры и на крикетные матчи, на скачки в Аскот и на регаты в Хенли; она от души наслаждалась жизнью, но ни один мужчина с удовлетворительным доходом и положением в обществе так и не предложил ей стать его женой. Миссис Гарстин начала нервничать. Она заметила, что Китти стали оказывать внимание мужчины лет сорока и старше, и уже не раз напоминала дочери, что красота ее через год-другой поблекнет и что к каждому сезону подрастают новые дебютантки. В семейном кругу миссис Гарстин не стеснялась в выражениях и однажды без обиняков заявила дочери, что так недолго и остаться на бобах.
Китти только плечами пожала. Она-то считала, что все так же хороша собой, возможно даже еще похорошела, поскольку за четыре года научилась одеваться, а времени впереди достаточно. Если б ей хотелось выйти замуж только для того, чтобы быть замужем, нашлось бы сколько угодно желающих хоть завтра вести ее под венец. А рано или поздно подходящий претендент не может не появиться. Однако миссис Гарстин оценивала обстановку более трезво: негодуя в душе на красивую дочку, упустившую время, она немного снизила свои требования и, вспомнив о существовании мужчин, зарабатывающих на жизнь той или иной профессией (раньше, в гордыне своей, она эту категорию вообще отметала), стала присматривать для Китти какого-нибудь молодого юриста или бизнесмена, способного, на ее взгляд, добиться успеха.
Китти минуло двадцать пять лет, и она все еще не была замужем. Миссис Гарстин совсем извелась, и нередко ее разговоры с дочерью принимали очень неприятный оборот. Она спрашивала, долго ли еще Китти намерена сидеть на шее у отца. Он, мол, и так живет не по средствам, чтобы предоставить ей больше возможностей, а она ими не пользуется. Миссис Гарстин ни разу не подумала, что, может быть, это она сама своей излишней предупредительностью отпугнула не одного сына богатых родителей или наследника титула, которых так беспардонно поощряла. Неудачу Китти она приписывала ее глупости. А тут подошло время вывозить в свет Дорис. У Дорис по-прежнему был длинный нос и нескладная фигура, и танцевала она плохо. И в первый же сезон обручилась с Джеффри Деннисоном. Он был единственным сыном процветающего хирурга, во время войны получившего титул баронета. Джеффри предстояло унаследовать этот титул (конечно, медицинский баронет – это не бог весть что, но титул как-никак есть титул), а также весьма солидное состояние.
Китти с перепугу вышла замуж за Уолтера Фейна.
9
Познакомилась она с ним совсем недавно, особенного внимания ему не уделяла. Она даже не помнила, когда впервые с ним встретилась, он сам уже после их помолвки сказал ей, что это произошло на одном балу, куда его привели какие-то знакомые. В тот вечер она его, можно сказать, вообще не заметила и если танцевала с ним, так только потому, что по доброте сердечной танцевала со всеми, кто ее приглашал. Она и не узнала его, когда дня через два, на другом балу, он подошел и заговорил с ней. А потом заметила, что он бывает во всех домах, куда она ездит, и однажды смеясь сказала ему:
– Вы знаете, я с вами танцевала не меньше десяти раз, не мешало бы мне знать, кто вы есть.
Он был явно поражен.
– Как, вы не знаете? Ведь нас знакомили.
– Ой, люди всегда говорят так невнятно. Я бы не удивилась, если б и вы не знали мою фамилию.
Он улыбнулся. Лицо у него было серьезное, даже немного суровое, но улыбка очень славная.
– Конечно, я ее знаю. – Он сделал паузу, потом спросил: – А вы не любопытны?
– Не больше, чем всякая другая женщина.
– И вам даже не пришло в голову кого-нибудь спросить, кто я такой?
Забавно, подумала она, неужели он воображает, что это может ее интересовать? Но она не любила обижать людей и подарила его своей ослепительной улыбкой, а ее глаза, два озерка в чаще деревьев, так и лучились добротой.
– Так как же вас зовут?
– Уолтер Фейн.
Ей было непонятно, зачем он ездит на балы. Танцевал он неважно и, видимо, мало с кем был знаком. Мелькнула мысль, что он влюблен в нее, но она только пожала плечами: некоторым девушкам кажется, что в них все влюблены, она всегда считала, что это глупо. Но Уолтер Фейн стал изредка занимать ее мысли. Он вел себя совсем не так, как все те молодые люди, которые за ней ухаживали. Те сразу признавались в любви и выражали желание поцеловать ее, многие и целовали. А Уолтер Фейн никогда не говорил о ней и очень мало о себе. Он вообще был неразговорчив, но это ее не смущало: она всегда находила о чем поболтать, и было приятно, что он смеется ее шуткам; но если он говорил, то говорил неглупо. Наверно, был из робких. Выяснилось, что он живет на Востоке, а в Англию приехал в отпуск.
Однажды в воскресенье он появился у них в гостиной. Собралось человек пятнадцать гостей, он посидел немного, явно стесняясь, потом ушел. Позже мать спросила ее, кто он такой.
– Понятия не имею. Это ты его пригласила?
– Да, я с ним познакомилась у Бэддели. Он сказал, что встречался с тобой на балах. Я сказала, что по воскресеньям всегда рады гостям.
– Фамилия его Фейн. Он служит где-то на Востоке.
– Да, он доктор. Он в тебя влюблен?
– Честное слово, не знаю.
– Пора бы знать, как бывает, когда молодой человек в тебя влюблен.
– Если б и был влюблен, замуж за него я не пошла бы, – небрежно бросила Китти.
Миссис Гарстин промолчала. Молчание было неодобрительное. Китти вспыхнула: она уже знала, что матери дела нет, за кого она выйдет замуж, лишь бы сбыть ее с рук.
10
В течение следующей недели она встретила его на трех балах, и теперь он, поборов, вероятно, свою робость, кое-что рассказал о себе. Да, у него медицинское образование, но он не практикующий врач, а бактериолог (Китти очень смутно представляла себе, что это такое) и служит в Гонконге. Осенью он туда возвращается. О Китае он говорил охотно. Китти давно взяла за правило делать вид, будто ей интересно все, что ей рассказывают, но жизнь в Гонконге и правда показалась ей привлекательной: там, оказывается, были и клубы, и теннис, и скачки, и поло, и гольф.
– А танцуют там много?
– По-моему, да.
И зачем он все это ей рассказывает? Он как будто ищет ее общества, но ни разу ни пожатием руки, ни словом, ни взглядом не дал понять, что она для него нечто большее, чем знакомая девушка, с которой можно потанцевать. В следующее воскресенье он опять к ним пришел. Случайно дома оказался ее отец – шел дождь, играть в гольф было нельзя, – и они с Уолтером Фейном долго беседовали вдвоем. Позже она спросила отца, о чем они разговаривали.
– Он, оказывается, служит в Гонконге. С тамошним главным судьей мы давнишние приятели, вместе учились. Этот молодой человек показался мне на редкость серьезным и умным.
Она знала, что, как правило, отцу бывало до смерти скучно с молодыми людьми, которых он ради нее, а теперь и ради ее сестры столько лет был вынужден занимать разговорами.
– Мои молодые люди не часто тебе нравятся, папа.
Его добрые усталые глаза обратились на нее.
– Ты уж не собираешься ли за него замуж?
– Ни в коем случае.
– Он в тебя влюблен?
– Что-то незаметно.
– Он тебе нравится?
– Да не особенно. Он меня почему-то раздражает.
Он был совсем не в ее вкусе. Небольшого роста, но не коренастый, скорее худощавый; смуглый, безусый, с очень правильными, четкими чертами лица. Глаза почти черные, но небольшие, не слишком живые, взгляд упорный, в общем, странные глаза, не очень приятные. При том, что нос у него прямой, аккуратный, лоб высокий, рот хорошо очерчен, он должен бы быть красив. А его, как ни странно, красивым не назовешь. Когда Китти стала о нем задумываться, ее поразило, какие хорошие у него черты лица, если брать их по отдельности. Выражение у него было чуть язвительное. Узнав его поближе, Китти почувствовала, что ей с ним как-то неловко. В нем не было легкости.
Сезон подходил к концу, они часто виделись, но он оставался все таким же отчужденным и непроницаемым. Он не то чтобы робел перед ней, но держался несвободно и в разговоре по-прежнему избегал личных тем. Китти пришла к выводу, что он нисколечко в нее не влюблен. Сейчас он не прочь беседовать с ней, но в ноябре, когда он вернется в Гонконг, он и думать о ней забудет. Не исключено, что в Гонконге у него есть невеста – какая-нибудь сестра милосердия в больнице, дочка священника, работящая, скучная, некрасивая, с большими ногами. Вот такая жена ему и нужна.
А потом состоялась помолвка Дорис с Джеффри Деннисоном. У Дорис в восемнадцать лет вполне приличный жених, а ей уже двадцать пять, и у нее никого, даже на примете. А вдруг она вообще не выйдет замуж? За весь этот год ей сделал предложение только двадцатилетний юнец, еще учится в Оксфорде. Не брать же в мужья мальчика на пять лет моложе себя! В прошлом году она отказала кавалеру ордена Бани, вдовцу с тремя детьми. Пожалуй, зря отказала. Мать теперь поедом ее будет есть, а Дорис… Дорис, которую всегда приносили в жертву, потому что блестящее замужество прочили не ей, а Китти, – Дорис, можно не сомневаться, будет торжествовать победу. У Китти больно сжималось сердце.
11
Но как-то днем, по дороге домой из магазина «Хэрродз», она встретила на Бромптон-роуд Уолтера Фейна. Он остановился, заговорил с ней, спросил как бы мимоходом, не хочет ли она пройтись по Гайд-парку. Домой ее не тянуло – в эти дни ее ждало там мало приятного. Они пошли рядом, как всегда переговариваясь о том о сем, и он, между прочим, спросил, где она думает провести лето.
– О, мы всегда забираемся в какую-нибудь глушь. Понимаете, папа страшно устает за зиму, и мы стараемся выбрать самое тихое местечко.
Китти хитрила – она отлично знала, что работы у ее отца не так много, чтобы ему валиться с ног от усталости, да к тому же при выборе летнего пристанища никто не стал бы считаться с его удобствами. Но тихое местечко означало недорогое.
– Не находите ли вы, что эти кресла выглядят соблазнительно? – спросил он вдруг.
Проследив за его взглядом, она увидела два зеленых кресла, стоявших особняком на траве, под деревом.
– Так давайте на них посидим, – сказала она.
Но когда они сели, он словно впал в непонятную задумчивость. Чудак-человек! Впрочем, она продолжала весело болтать и только дивилась мысленно, зачем он пригласил ее пройтись по парку. Может, вздумал посвятить ее в тайну своей любви к большеногой медсестре в Гонконге? Внезапно он повернулся к ней, перебив ее на полуслове, так что ей стало ясно, что он не слушал. Лицо его побелело как мел.
– Мне нужно вам сказать одну вещь.
Она бросила на него быстрый взгляд и прочла в его глазах тяжкую тревогу. Голос его прозвучал глухо, не совсем твердо. Но она еще даже не успела подумать о причине его волнения, как он снова заговорил:
– Я хотел просить вас стать моей женой.
– Вот уж не ожидала, – сказала она и от удивления уставилась на него во все глаза.
– Неужели вы не знали, что я вас люблю безумно?
– Вы этого никак не проявили.
– Я очень нелепо устроен. Мне всегда труднее высказать то, что есть, чем то, чего нет.
Сердце у нее забилось чуть сильнее. Ей так часто признавались в любви, но либо весело, либо сентиментально, и она отвечала в тон. Никто еще не делал ей предложения так неожиданно и на таких трагических нотах.
– Вы очень добры… – протянула она с сомнением.
– Я полюбил вас с первого взгляда. Давно хотел признаться, но все не мог себя заставить.
Она усмехнулась:
– Дипломат из вас, прямо сказать, неважный.
Она была рада случаю посмеяться – в этот ясный солнечный день в воздухе вдруг повеяло предчувствием беды. Он угрюмо нахмурился.
– Неужели не ясно? Я не хотел терять надежду. Но теперь вы вот-вот уедете, а осенью я должен вернуться в Китай.
– Я никогда и не думала о вас в этом смысле, – сказала она жалобно.
Он молчал, упорно не поднимая глаз. Очень, очень странный человек. Но сейчас, когда он высказался, она ощутила непонятную уверенность в том, что такой любви она еще не встречала. Ощущение это вселяло и легкий страх, и радость. И даже его невозмутимость чем-то ей импонировала.
– Дайте мне время подумать.
Он и тут ничего не сказал. Не шелохнулся. Что же, он намерен держать ее здесь, пока она не надумает? Но это глупо. Она ведь должна все обсудить с матерью. Нужно было встать, как только он заговорил, а она пропустила минуту, думала, он еще что-нибудь скажет, и вот теперь неизвестно почему не решается даже пальцем пошевелить. Она не смотрела на него, но четко представляла себе его внешность. Никогда бы она не поверила, что может выйти за мужчину лишь совсем немного выше ее ростом. Когда сидишь рядом с ним, особенно заметно, какие у него правильные черты лица и какие холодные глаза. Странно это, если вспомнишь, что он изнемогает от любви.
– Я вас не знаю, совсем вас не знаю, – произнесла она нерешительно.
Он посмотрел на нее так, словно и ее вынуждал заглянуть в его глаза. В них была нежность, которой она раньше никогда в них не читала, но была и мольба, как у побитой собаки, и это вызывало легкую досаду.
– При ближайшем знакомстве я, мне кажется, не так плох.
– Вы, наверно, очень робкий, правда?
Да, такого диковинного предложения ей еще никто не делал. Ей и сейчас казалось, что они говорят друг другу все самое неподходящее к случаю. Она нисколько в него не влюблена. И все же что-то мешает ей сразу отказать ему.
– Я такой бестолковый, – отвечал он. – Хочу сказать вам, что люблю вас больше всего на свете, но сказать это так трудно.
И – тоже странно – почему-то эти слова ее растрогали. Нет, он, конечно, не холодный, просто у него такая невыигрышная манера. Сейчас она, как никогда, сочувствовала ему. Дорис в ноябре выходит замуж. Он в это время будет уже на пути в Китай, и она, если они поженятся, будет с ним. Не очень-то приятно стоять с букетом на свадьбе у Дорис! Без этого она предпочла бы обойтись. А потом… Дорис замужем, а она девица! Все знают, что Дорис намного моложе ее, а тут она покажется еще старше, чуть ли не старой девой. Брак для нее не очень блестящий, но все-таки брак, и к тому же она уедет в Китай, и то хлеб. А чего только не наговорит мать, если она ему откажет? Да что там, все девушки, которые стали выезжать в свет одновременно с ней, давно замужем, у многих уже есть дети. Ей до смерти наскучило ходить к ним в гости и умиляться на их младенцев. Уолтер Фейн предлагает ей совсем новую жизнь. Она поглядела на него с безошибочно рассчитанной улыбкой.
– А если б я решила броситься головой в омут, когда бы вы хотели на мне жениться?
У него вырвался короткий счастливый вздох, бледные щеки залила краска.
– Сейчас. Теперь же. Как можно скорее. В свадебное путешествие уедем в Италию. На август и сентябрь.
Значит, не придется проводить лето с родителями в каком-нибудь пасторском домике, снятом за пять гиней в неделю. Перед глазами сверкнуло объявление о помолвке на странице «Морнинг пост» – ввиду того что жених должен вернуться на Восток по месту работы, свадьба состоится теперь же. Свою мать она знает – можно не сомневаться, она и по этому случаю сумеет наделать шума; на какое-то время Дорис, во всяком случае, окажется в тени, а когда будут праздновать свадьбу Дорис, куда более пышную, она, Китти, уже будет далеко.
Она протянула Уолтеру Фейну руку.
– Мне кажется, вы мне очень нравитесь. Только дайте мне время к вам привыкнуть.
– Значит, согласны? – перебил он.
– Похоже, что так.
12
В то время она его почти не знала, да и теперь, хоть они были женаты уже около двух лет, знала немногим лучше. Поначалу она ценила его доброту, ей льстила его страстность, явившаяся для нее полной неожиданностью. Он был до крайности внимателен и заботлив, спешил исполнить каждое ее желание. Вечно дарил ей какие-то мелочи. Если ей случалось прихворнуть, никакая сиделка не могла бы лучше за ней ухаживать. Самое скучное ее поручение он воспринимал как милость. И был безукоризненно вежлив. Вставал, когда она входила в комнату, подавал ей руку, чтобы выйти из машины; встретив ее на улице, снимал шляпу, никогда не входил без стука к ней в спальню или в будуар. Обращался с ней не так, как у нее на глазах большинство мужчин обращались со своими женами, а так, будто оба они были гостями в имении у общих друзей. Все это было приятно, но немножко смешно. Ей было бы с ним легче, будь он попроще. И супружеские их отношения не способствовали душевной близости. Его страстность граничила с яростью, истеричность сменялась слезливой чувствительностью.
Ее сбивало с толку, до чего это оказалась эмоциональная натура. Сдержанность его происходила то ли от робости, то ли от многолетнего самообуздания. И недостойным казалось, что, когда она лежала в его объятиях, он, так всегда боявшийся сболтнуть глупость, показаться смешным, утолив свою страсть, способен был нелепо сюсюкать. Однажды она жестоко его оскорбила – рассмеялась и сказала, что он болтает несусветную чушь. Она почувствовала, как разом ослабели обнимавшие ее руки, он умолк, а через минуту отодвинулся от нее и ушел к себе в спальню. Ей не хотелось обижать его, и дня через два она сказала:
– Дурачок ты, да говори все, что хочешь, я не против.
Он ответил виноватым смешком. Очень скоро она поняла, что он, несчастный, не умеет отвлечься от себя и это его связывает. Когда на каком-нибудь сборище начинали петь хором, он не мог заставить себя раскрыть рот. Сидел, улыбался, чтобы показать, что ему весело, но улыбка была наигранная, смахивала на язвительную усмешку, и чувствовалось, что, на его взгляд, вся эта веселящаяся публика – дурачье. Он не мог заставить себя участвовать в играх и развлечениях, которые общительная Китти так любила. На пароходе, когда они плыли в Китай, устроили маскарад, но он наотрез отказался наряжаться. И ее расхолаживало, что он так явно считал все это пустой тратой времени.
Сама она готова была болтать без умолку, смеяться по любому поводу. Его молчаливость сбивала с толку. Выводила из себя его манера оставлять ее беглые замечания без ответа. Правда, ответа они не требовали, но все же какого-то отклика она ждала. Если шел дождь и она говорила: «Льет как из ведра», ей хотелось услышать: «Да, прямо ужас!» А он молчал. Иногда ее подмывало встряхнуть его хорошенько.
– Я сказала: льет как из ведра, – повторила она.
– Я слышал, – отозвался он с ласковой улыбкой.
Значит, он не хотел ее обидеть. Промолчал, потому что нечего было сказать. Но если бы люди говорили, только когда им есть что сказать, улыбнулась про себя Китти, они очень скоро совсем разучились бы общаться.
13
Все горе в том, решила она, что у него нет обаяния. Потому он не пользуется успехом, а что это так – она поняла скоро по приезде в Гонконг. Его работу она представляла себе очень смутно. Зато быстро усвоила, что правительственный бактериолог – не бог весть какая персона. В эту сторону своей жизни он, видимо, не склонен был ее посвящать. Всегда готовая заинтересоваться чем-нибудь новым, она сперва пыталась его расспрашивать. Он отделался шуткой, а в другой раз сказал:
– Скучная это материя, долго объяснять. И оплачивается безобразно низко.
Замкнутый человек. Все, что Китти было известно о его прошлом, о его детстве, учении, вообще о его жизни до того, как он познакомился с ней, она узнала только потому, что сама его расспрашивала. А его, как ни странно, если что и раздражало, так именно расспросы. И когда она, движимая естественным любопытством, принималась выпаливать один вопрос за другим, его ответы становились все лаконичнее. У нее хватило ума понять, что вызвано это вовсе не желанием что-то утаить от нее, а врожденной скрытностью. Ему тяжело было говорить о себе. Он стеснялся, конфузился, просто не умел откровенничать. Он любил читать, но книги, которые он читал, казались Китти ужасно скучными. Какие-то научные трактаты, а не то книги о Китае или исторические труды. Он не давал себе отдыха – наверно, тоже не умел. А из игр признавал только теннис и бридж.
И как он мог в нее влюбиться? Казалось бы, кто-кто, а она уж никак не должна была пленить этого скрытного, холодного, застегнутого на все пуговицы человека. Однако же он, несомненно, любил ее, любил больше жизни. Готов был сделать все на свете, лишь бы угодить ей. Она могла из него веревки вить. При мысли о той стороне его натуры, которая открывалась только ей, она испытывала легкое презрение. Возможно, его язвительность, его снисходительное высокомерие по отношению к людям, которыми она восхищалась, – это всего лишь ширма, скрывающая глубоко упрятанную слабость? Наверно, он ужасно умный, думала она, все его, видимо, таким считают; но ей он не казался интересным, разве что очень редко, в обществе считанных людей, которые ему действительно нравились, да и то если бывал в настроении. Он не то чтобы нагонял на нее тоску, она просто была к нему равнодушна.
14
С женой Чарлза Таунсенда Китти встречалась уже несколько раз, его же увидела впервые, лишь когда прожила в Гонконге месяца три. Она познакомилась с ним на званом обеде у Таунсендов, куда приехала с мужем. Китти заранее приготовилась постоять за себя. Чарлз Таунсенд был помощник губернатора, и она твердо решила не допустить с его стороны того небрежно-покровительственного отношения, которое при всей своей воспитанности проявляла к ней миссис Таунсенд. Принимали гостей в большой, просторной комнате, обставленной – как и все гостиные в Гонконге, где ей уже пришлось побывать, – комфортабельно и уютно. Гостей съехалось много. Фейны прибыли последними, когда ливрейные слуги-китайцы уже обносили собравшихся коктейлями и маслинами. Миссис Таунсенд, поздоровавшись с ними, заглянула в список приглашенных и сказала Уолтеру, с кем ему предстоит сидеть за столом.
Китти увидела, что к ним направляется высокий, очень красивый мужчина.
– Знакомьтесь, мой муж.
– Мне выпало счастье сидеть рядом с вами, – сказал он.
Она сразу почувствовала себя легко и свободно, настороженность как рукой сняло.
Глаза его улыбались, но она успела заметить в них вспышку удивления. Она прекрасно поняла этот взгляд и еле удержалась от смеха.
– Я ни куска не смогу проглотить, – сказал он. – А жаль, обед будет отличный. Дороти в этом знает толк.
– Так за чем же дело стало?
– Просто грех, что мне не сказали. Кто-нибудь должен был меня предупредить.
– О чем?
– Никто ни словом не обмолвился. Откуда мне было знать, что я увижу писаную красавицу?
– Что я должна на это ответить?
– Ничего. Говорить буду я. И буду повторять это снова и снова.
Китти стало интересно, как же все-таки отозвалась о ней его жена. Он наверняка ее спрашивал. А он, глядя на Китти смеющимися глазами, вдруг вспомнил. «И какая же она?» – спросил он, когда Дороти рассказала ему, что познакомилась с молодой женой доктора Фейна. «Очень миленькая. Разыгрывает светскую даму». – «Она была актрисой?» – «Нет, едва ли. Ее отец врач или юрист, не помню точно. Надо будет, очевидно, пригласить их на обед». – «Успеется».
Сейчас, когда они сидели рядом, он сообщил ей, что знает Уолтера Фейна с тех пор, как приехал в колонию.
– Мы с ним играем в бридж. Он, без всякого сомнения, чемпион здешнего клуба.
По дороге домой она передала его слова Уолтеру.
– Ну, это еще не большая похвала.
– А он сам как играет?
– Неплохо. Даже очень хорошо, когда ему идет карта, а вот если не везет, тут он теряется.
– Он играет так же хорошо, как ты?
– Насчет себя я не строю иллюзий. Я бы сказал так: я очень хороший игрок второй категории. Таунсенд воображает, что принадлежит к первой. Но ошибается.
– Он тебе не нравится?
– Ни да ни нет. Работник он, говорят, толковый и слывет превосходным спортсменом. Он меня не особенно интересует.
Уже не в первый раз половинчатые суждения Уолтера выводили ее из себя. К чему такая осторожность? Либо человек тебе нравится, либо нет. Ей Чарлз Таунсенд очень понравился. При том, что она этого не ожидала. Наверно, он самая популярная фигура в колонии. Губернатор скоро должен уйти в отставку, и все надеются, что Таунсенд займет его место. Он играет в теннис, в поло, в гольф. Держит скаковых лошадей. Всегда готов всем помочь. Презирает волокиту. Нисколько не важничает. Китти понять не могла, почему до сих пор все эти похвальные отзывы вызывали у нее протест, почему она решила, что он задается. Глупости, вот уж в чем его не обвинишь.
Тот вечер прошел чудесно. Они болтали о лондонских театрах, о скачках и регате, все было так знакомо, точно встреча их произошла в доме у каких-нибудь друзей на Леннокс-Гарденз; а позже, когда мужчины тоже перешли в гостиную, он не спеша пересек комнату и опять подсел к ней. Ничего такого уж очень остроумного он не говорил, но несколько раз рассмешил ее. Наверно, все дело в том, как люди говорят. В его низком, бархатном голосе таилась ласка, в добрых синих глазах была неизъяснимая прелесть, от этого с ним было так легко. Да, ему не откажешь в обаянии, а ведь это самое главное.
Росту в нем шесть футов два дюйма, не меньше, вспоминала она, и сложен прекрасно; видимо, он в отменной форме: одни мускулы, ни капли жира. А как одевается, лучше всех, и все сидит на нем так ловко, все ему к лицу. Хорошо, когда мужчина следит за собой. Она перевела взгляд на Уолтера – вот кому не мешало бы немножко подумать о своей внешности. Она отметила и запонки Таунсенда, и пуговицы на жилете – такие она видела в витрине у Картье. Ясно, что у Таунсендов есть доходы и помимо его жалованья. Загорел он страшно, но и сквозь загар проступает здоровый румянец. И симпатичные аккуратные усики не закрывают полных красных губ. Черные волосы коротко острижены, гладко прилизаны. Но лучше всего в нем, конечно, эти глаза под густыми косматыми бровями – такие синие, такие веселые и ласковые, сразу видно, какой он хороший человек.
Она, конечно, сознавала, что произвела на него впечатление. Даже если бы он не наговорил ей комплиментов, его выдали бы эти потеплевшие от восхищения взгляды. И пленяла его полная раскованность, никаких тормозов, никакой оглядки. Китти хорошо разбиралась в таких вещах и оценила, как ловко он умел ввернуть в самый, казалось бы, банальный разговор что-нибудь личное, лестное для нее. На прощание он пожал ей руку крепко, со значением, которого она не могла не понять.
– Надеюсь, мы прощаемся ненадолго, – сказал он светским тоном, а остальное досказали его глаза.
– В Гонконге трудно не встретиться, – сказала она.
15
Кто бы мог тогда предсказать, чем это кончится? Позже он говорил ей, что она уже в тот первый вечер свела его с ума. Что такой очаровательной женщины он в жизни не видел. Он помнил, как она была одета: на ней было ее подвенечное платье, и он сказал, что вся она была похожа на ландыш. Она поняла, что он влюблен, до того, как он в этом признался, и, оробев, попробовала держать его на расстоянии. При его пылкости это было нелегко. Она боялась его поцелуев – от одной мысли, что он может ее обнять, у нее колотилось сердце. Впервые в жизни она любила. Это было упоительно. И теперь, узнав, что такое любовь, она вдруг поняла, как ее любит Уолтер. Она стала ласково его поддразнивать и чувствовала, что ему это приятно. До сих пор она его, возможно, побаивалась, теперь же держалась увереннее. Она подтрунивала над ним, и забавно было видеть, как он улыбается в ответ, столько было в этой улыбке удивления и счастья. Смотри-ка, думалось ей, этак он скоро станет совсем нормальным. Теперь, когда она узнала, что такое настоящая страсть, ей нравилось играть на его чувствах – так арфистка легко пробегает пальцами по струнам арфы. Она смеялась, видя, в какое блаженное смущение это его повергает.
И когда Чарли стал ее любовником, она особенно остро ощутила свои отношения с Уолтером как абсурд. Ей трудно было без смеха смотреть на него, такого серьезного, степенного. Сердиться на него она не могла, слишком была счастлива. Ведь как-никак, не будь его, она не встретила бы Чарли. Какое-то время она колебалась, прежде чем преступить последнюю черту, – не потому, что не хотела ответить на страсть Чарли, она и сама сгорала от страсти, а потому, что этому противилось ее воспитание, все условности ее прежней жизни. Впоследствии (а в конце концов все вышло случайно, ни он, ни она этой возможности не предусмотрели) ее изумило открытие, что она нисколько не изменилась. Она-то думала, что с ней произойдет какая-то сказочная метаморфоза, что она станет на себя не похожа; и, взглянув наконец в зеркало, даже растерялась, увидев ту самую женщину, что гляделась в него накануне.
– Ты на меня сердишься? – спросил он, и она ответила:
– Я тебя люблю.
– А не кажется ли тебе, что тянуть так долго не стоило?
– Это было просто глупо.
16
От счастья, порой казавшегося нестерпимым, вновь расцвела ее красота. В последний год перед замужеством, когда стала блекнуть первая свежесть, вид у нее бывал усталый, издерганный. Злые языки поговаривали, что она линяет. Но есть огромная разница между двадцатипятилетней девушкой и замужней женщиной того же возраста. Как бутон белой розы, у которого лепестки стали было желтеть по краям, она вдруг распустилась пышным цветом. Глаза-звезды приобрели новую глубину; ослепительной стала кожа (всегда бывшая ее гордостью и предметом неустанных забот): ее нельзя было сравнить ни с персиком, ни с цветком – скорее и персик, и цветок напрашивались на сравнение с этой кожей. Снова она выглядела на восемнадцать лет. Она была обворожительна. Не заметить этого было нельзя, и знакомые дамы, тактично понизив голос, спрашивали ее, не ждет ли она ребенка. Те равнодушные, что раньше утверждали, будто она всего лишь миловидная девушка с длинным носом, теперь признали, что недооценивали ее. Писаная красавица – правильно назвал ее Чарли в тот день, когда впервые ее увидел.
Свою близость они ловко скрывали от посторонних глаз. У него-то плечи широкие, сказал он однажды (и она шутливо его одернула: «Стыдно так кичиться своей фигурой!»), за себя он не боится, но ради нее они не могут позволить себе ни малейшего риска. Часто встречаться наедине им нельзя, об этом он может только мечтать, но для него главное – не подвергать ее опасности: только время от времени в доме антиквара, еще реже – у нее среди дня, когда в доме пусто, – но видались они много, встречались то тут, то там. И ее забавляло, что в этих случаях он разговаривал с ней как добрый знакомый, непринужденно и весело, как со всеми, не изменяя своей обычной светской манере. Услышав их веселую пикировку, никто не подумал бы, что совсем недавно он сжимал ее в объятиях.
Она его боготворила. До чего же он хорош, когда в сапогах и в белых бриджах играет в поло! На теннисном корте его можно принять за юношу. Немудрено, что он гордится своей фигурой, такой фигуры поискать. И правильно, что не хочет располнеть. Он не ест ни хлеба, ни масла, ни картошки, очень много двигается. За руками следит, это тоже хорошо, – каждую неделю делает маникюр. Спортсмен он первоклассный – в прошлом году завоевал первенство по теннису. И уж конечно, танцует лучше всех, с кем ей приходилось танцевать, не танцор, а мечта. Никто не даст ему сорока лет. Она как-то сказала, что просто ему не верит.
– По-моему, ты это выдумал, на самом деле тебе двадцать пять.
Он рассмеялся, очень довольный.
– Дорогая моя, у меня пятнадцатилетний сын. Я типичный мужчина средних лет. Годика через три буду толстый и старый.
– Ты и в сто лет будешь неотразим.
Она любовалась его густыми черными бровями. Не они ли придают его глазам такое тревожащее выражение?
Талантов его не счесть. Он вполне порядочно играет на рояле – ну конечно, только регтаймы – и комические песенки исполняет выразительно и с юмором. Он все, все умеет. И на службе на отличном счету, какая это для нее радость, когда он рассказывает, как губернатор хвалил его, если ему удавалось ловко провернуть какое-нибудь трудное дело.
– Не хочу хвастаться, – говорил он, глядя на нее своими дивными глазами, в которых так и светилась любовь, – но во всей колонии нет человека, который с этим справился бы так здорово.
О, как ей хотелось, чтобы он, а не Уолтер был ее мужем!
17
Еще неизвестно, конечно, знает ли Уолтер правду, и если нет, спокойнее, может быть, оставить все как есть; но если знает, для них для всех это будет лучший выход. Сначала ей было достаточно встречаться с Чарли только украдкой – во всяком случае, она с этим мирилась; но страсть ее росла, и чем дальше, тем сильнее она роптала на преграды, мешавшие им всегда быть вместе. Сколько раз он говорил ей, что проклинает свое служебное положение, и те узы, что его связывают, и те, что связывают ее, и как было бы замечательно, если б они оба были свободны! Она понимала его точку зрения: публичный скандал никому не улыбается, и надо очень и очень подумать, прежде чем ломать свою жизнь; но если свобода придет сама собой, насколько это упростило бы дело!
И никому это не грозит особенными мучениями. О его отношениях с женой ей все известно. Она – холодная женщина, между ними уже давно нет любви. Связывает их привычка, удобство, ну и, конечно, дети. Ей-то труднее, чем ему: Уолтер ее любит. Но, в конце концов, он поглощен своей работой; и у мужчины всегда есть такое прибежище, как клуб; сначала ему будет тяжело, но это пройдет, и ничто не мешает ему жениться вторично. Чарли говорил ей, что просто отказывается понять, как она так мало ценила себя, что вышла за Уолтера.
Даже смешно – почему всего несколько часов назад она пришла в такой ужас от мысли, что Уолтер поймал их на месте преступления. Было, правда, жутко, когда ручка двери медленно повернулась. Но ведь они знают, на что способен Уолтер даже в худшем случае, и готовы к этому. Чарли, как и она, вздохнет с облегчением, когда их вынудят к тому, чего оба они хотят больше всего на свете.
Уолтер порядочный человек, этого нельзя не признать, и он ее любит; он сделает все, что нужно, чтобы она могла подать на развод. Они совершили ошибку, и очень хорошо, что они это поняли, пока не поздно. Она уже придумала все, что скажет ему и как будет с ним держаться – ласково, с улыбкой, но твердо. Им вовсе незачем ссориться. Она всегда будет рада его видеть. И ей очень хочется, чтобы об их недолгой совместной жизни он сохранил самое лучезарное воспоминание.
«Дороти Таунсенд, надо полагать, будет не прочь развестись с Чарли, – думала она. – Сейчас, когда и младший ее сын уедет в Англию, ей и самой там будет гораздо лучше. В Гонконге ей совершенно нечего делать. Все каникулы мальчики будут проводить с ней. И родители ее живут в Англии».
Все очень просто. Все можно уладить без скандала и без взаимных обид. А потом они с Чарли поженятся. Китти глубоко вздохнула. Они будут очень счастливы. Ради этого стоит претерпеть кое-какие неприятности. В голове у нее, сменяя одна другую, роились мысли о том, как интересно они будут жить, куда съездят, какой у них будет дом, до какого поста дослужится Чарли и как она будет ему помогать. Он будет гордиться ею, а она – она его обожает.
Но за всеми этими радужными мечтами словно таилось предчувствие беды. Как будто в оркестре духовые и струнные выводят пасторальные мелодии, а в басах тихо, но зловеще отбивают такт барабаны. Вот-вот вернется домой Уолтер – при мысли об этом начинает стучать сердце. Странно, почему он только заглянул домой, а потом опять ушел, не сказав ей ни слова. Она, конечно, не боится его, твердила себе Китти, ну что он может ей сделать? Но тревога не отпускала. Она еще раз вспомнила все, что решила ему сказать. К чему устраивать сцену? Ей очень жаль, видит Бог, она не хотела делать ему больно, но не ее вина, что она его не любит. Нечего притворяться, всегда лучше говорить правду. Она надеется, что он не будет несчастлив, но они совершили ошибку и единственный разумный выход – признать это. Она всегда будет вспоминать его с теплым чувством.
Но не успела она так подумать, как от внезапно налетевшего страха у нее вспотели ладони. А оттого, что ей стало страшно, она рассердилась на него. Если ему угодно устраивать сцену – пожалуйста; но пусть не удивляется, услышав кое-какие горькие истины. Она ему скажет, что никогда ни капельки его не любила и не проходило дня после их свадьбы, когда бы она не пожалела, что вышла за него замуж. Он ей надоел. С ним скучно, скучно, скучно! Он считает себя лучше всех, это же курам на смех; у него нет чувства юмора, ей ненавистно его высокомерие, его холодная сдержанность. Нетрудно быть сдержанным, когда тебя никто и ничто не интересует, кроме тебя самого. Он ей противен. Его поцелуи вызывают гадливость. И с чего он о себе возомнил? Танцует отвратительно, в компании только портит всем настроение, не умеет ни петь, ни играть и в поло не играет, а теннисист самый посредственный. Бридж? Подумаешь, кому это интересно?
Китти взвинтила себя до полного исступления. Пусть только попробует попрекать. Он сам виноват во всем, что случилось. Очень хорошо, что он наконец узнал правду. Она его ненавидит, глаза бы ее на него не глядели. Да, она рада, что между ними все кончено. И пусть оставит ее в покое. Он столько времени изводил ее, пока уговорил стать его женой. Теперь с нее хватит.
– Хватит, – твердила она вслух, дрожа от ярости. – Хватит! Хватит!
У ворот их сада остановился автомобиль. А вот и шаги Уолтера на лестнице.
18
Когда он вошел в комнату, сердце ее бешено колотилось и руки тряслись, хорошо, что она лежала на диване. Она держала открытую книгу, делая вид, будто он застал ее за чтением. Он секунду постоял на пороге, и взгляды их встретились. Сердце у нее упало, холод пробежал по всему телу, она передернулась. Появилось то чувство, о котором говорят – точно кто-то прошел по твоей могиле. Он был бледен как мел, таким она видела его лицо только раз, когда они сидели в Гайд-парке и он просил ее стать его женой. Темные глаза, неподвижные и непроницаемые, казались неестественно большими. Он все знает.
– Ты сегодня рано, – сказала она.
Губы у нее дрожали, едва выговаривая слова. Она боялась, что от страха потеряет сознание.
– Да нет, как обычно.
И голос показался незнакомым. Как будто он нарочно хотел придать своим словам небрежно-вопросительную интонацию. Заметил он, что она дрожит всем телом? Она еще удержалась, чтобы не вскрикнуть. Он опустил глаза.
– Сейчас оденусь.
Он вышел из комнаты. Она была совсем разбита. Несколько минут оставалась неподвижной, наконец с трудом приподнялась, словно еще не оправилась от долгой болезни, и встала с дивана. Боялась, что не удержится на ногах. Хватаясь за столы и стулья, выбралась на веранду и кое-как по стенке дошла до двери в свою спальню. Надела вечернее платье, а когда вернулась в будуар (гостиной они пользовались только для званых вечеров), он стоял у столика и разглядывал иллюстрации в журнале. Она замерла на пороге.
– Пойдем вниз? Обед готов.
– Я заставила тебя ждать?
Ужас как дрожат губы. Когда же он заговорит?
Они сели за стол, и на минуту воцарилось молчание. Потом он что-то сказал, и самая обыденность его слов придала им какой-то зловещий смысл.
– «Эмпресс» сегодня не прибыл, – сказал он, – очевидно, задержался из-за шторма.
– А должен был прибыть сегодня?
– Да.
Она взглянула на него и увидела, что он смотрит вниз, в тарелку. Он сказал еще что-то, такое же незначащее, насчет предстоящего теннисного турнира. Обычно голос у него был приятный, богатый интонациями, но сейчас он говорил на одной ноте, до странности неестественно. Казалось, его голос доносится откуда-то издалека. И взгляд был обращен то в тарелку, то на стол, то на стену, где висела картина. Но от Китти он упорно отводил глаза. Она поняла, что смотреть на нее он не в силах.
– Пойдем наверх? – спросил он, когда обед кончился.
– Как хочешь.
Она встала, он отворил дверь, пропуская ее вперед, не поднимая глаз. В будуаре он опять взял в руки журнал.
– Этот «Скетч» новый? Я, кажется, его не видел.
– Не знаю. Не заметила.
Журнал лежал там уже недели две, она знала, что Уолтер просмотрел его от корки до корки. Он взял его со стола и сел. Она опять прилегла на диван с книгой. Вечерами они, если бывали одни, обычно играли в кункен или раскладывали пасьянс. Он удобно откинулся в кресле и, казалось, внимательно разглядывал какую-то иллюстрацию. А страницы не переворачивал. Китти попыталась читать, но строки плыли и сливались перед глазами. Разболелась голова.
Когда же он заговорит?
Они просидели в молчании целый час. Она уже не притворялась, что читает, и, отложив книгу, смотрела в пустоту. Боялась вздохнуть, пошевелиться. Он сидел тихо-тихо, все в той же удобной позе, устремив неподвижные, широко открытые глаза на страницу журнала. В его неподвижности таилась угроза. Как хищный зверь перед прыжком, подумалось Китти.
Вдруг он встал с места. Она вздрогнула, стиснула руки и почувствовала, что бледнеет. Вот оно!
– Мне еще нужно поработать, – проговорил он все тем же негромким мертвым голосом, не глядя на нее. – Пойду в кабинет. К тому времени, когда я кончу, ты, вероятно, уже ляжешь спать.
– Да, я сегодня что-то устала.
– Ну так спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
И он ушел.
19
Наутро она в первую же удобную минуту позвонила Таунсенду на службу.
– Да, что случилось?
– Нам нужно повидаться.
– Дорогая моя, я страшно занят. Я, знаешь ли, рабочий человек.
– Дело очень важное. А можно, я сейчас заеду?
– О нет, ни в коем случае.
– Тогда приезжай сюда.
– Не могу я сейчас отлучиться. Разве что во второй половине дня. И стоит ли мне вообще приходить к вам домой?
– Мне надо сейчас же с тобой повидаться.
Последовала пауза, точно их разъединили.
– Ты здесь? – спросила она испуганно.
– Да, я соображаю. Что-нибудь стряслось?
– По телефону сказать не могу.
Снова пауза, потом его голос:
– Так вот, послушай. Если это тебя устроит, могу встретиться с тобой на десять минут в час дня. Приходи в Гу-джоу, я зайду туда, как только смогу вырваться.
– В лавку? – переспросила она растерянно.
– А ты что, предлагаешь вестибюль отеля «Гонконг»?
Она уловила в его голосе нотку раздражения.
– Хорошо, я буду у Гу-джоу.
20
Она отпустила рикшу на Виктория-роуд и по узкой крутой улочке поднялась к лавке. Задержалась на минуту у витрины, словно разглядывая выставленный товар. Но мальчик, стоявший в дверях в ожидании покупателей, сразу узнал ее и приветствовал широкой заговорщицкой улыбкой. Оглянувшись через плечо, он сказал что-то по-китайски, и из лавки с поклоном вышел хозяин, низенький, круглолицый, в черном халате. Она поспешно вошла в лавку.
– Мистер Таунсенд еще нет. Вы идти наверх, да?
Она прошла через лавку, поднялась по шаткой темной лестнице. Китаец поднялся следом за ней и отпер дверь в спальню. Там было душно, стоял приторный запах опиума. Она села на ларь сандалового дерева.
Очень скоро ступеньки заскрипели под тяжелыми шагами. Вошел Таунсенд и закрыл за собою дверь. При виде ее его хмурое лицо разгладилось. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой, обнял ее и поцеловал в губы.
– Так в чем же дело?
– Как увидела тебя, сразу легче стало, – улыбнулась она в ответ.
Он сел на постель и закурил.
– Что-то ты неважно выглядишь.
– Еще бы, я, кажется, всю ночь глаз не сомкнула.
Он посмотрел на нее. Он все еще улыбался, но улыбка стала чуть натянутой, неестественной. И в глазах как будто мелькнула тревога.
– Он знает, – сказала Китти.
Он чуть запнулся, прежде чем спросить:
– Что он сказал?
– Ничего не сказал.
– Да? – Он бросил на нее беспокойный взгляд. – Почему же ты решила, что он знает?
– По всему. Как он смотрел. Как говорил за обедом.
– Был резок?
– Напротив. Был изысканно вежлив. В первый раз с тех пор, как мы женаты, он не поцеловал меня, когда прощался на ночь.
Она потупилась, неуверенная, понял ли Чарли. Обычно Уолтер обнимал ее и целовал в губы долгим поцелуем, словно не мог оторваться. Все его тело становилось страстным и нежным.
– Как тебе кажется, почему он ничего не сказал?
– Не знаю.
Пауза. Китти сидела не шевелясь на ларе сандалового дерева и смотрела на Таунсенда тревожно и пристально. Лицо его опять стало хмурым, между бровями пролегли морщинки. Уголки рта опустились. Но вдруг он поднял голову и в глазах загорелись лукавые огоньки.
– Очень может быть, что он ничего и не скажет.
Она не ответила, не поняла значения этих слов.
– Между прочим, не он первый предпочтет закрыть глаза на такую ситуацию. Если бы он поднял шум, что бы это ему дало? А если б хотел поднять шум, так заставил бы нас отпереть дверь. – Глаза его заблестели, на губах заиграла веселая улыбка. – И хороши бы мы с тобой тогда были!
– Не видел ты, какое у него было лицо вчера вечером.
– Ну да, он расстроился. Это естественно. Любой мужчина в таком положении сочтет себя опозоренным. И над ним же будут смеяться. Уолтер, мне кажется, не из тех, кто склонен предавать гласности свои личные неурядицы.
– Да, пожалуй, – проговорила она задумчиво. – Он очень щепетилен. Я в этом убедилась.
– А нам это на руку. Знаешь, иногда бывает очень полезно влезть в чужую шкуру и подумать, как бы ты сам поступил на месте этого человека. У того, кто попал в такой переплет, есть только один способ не уронить свое достоинство – притвориться, что ничего не знаешь. Ручаюсь, Уолтер именно так и поступит.
Чем больше Таунсенд говорил, тем жизнерадостнее звучал его голос. Его синие глаза сверкали. Он снова стал самим собой – веселым, благодушным. Он излучал уверенность и бодрость.
– Видит Бог, я не хочу говорить о нем плохо, но, в сущности, бактериолог – не ахти какая персона. Не исключено, что, когда Симмонс уйдет в отставку, я стану губернатором, и не в интересах Уолтера со мной ссориться. Ему, как и всем нам, нужно думать о хлебе насущном: едва ли в министерстве по делам колоний хорошо посмотрят на человека, который стал виновником скандала. Поверь мне, для него самое безопасное – помалкивать и самое опасное – поднимать шум.
Китти беспокойно повела плечами. Она знала, как Уолтер застенчив, готова была поверить, что на него может повлиять страх перед оглаской, перспектива оказаться в центре внимания; но чтобы им руководили материальные соображения – нет, в это не верилось. Возможно, она знает его не так уж хорошо, но Чарли-то его совсем не знает.
– А что он меня безумно любит, об этом ты забыл?
Он не ответил, но в глазах засветилась озорная улыбка, которую она так хорошо знала и любила.
– Что ж ты молчишь? Сейчас скажешь какую-нибудь гадость.
– Да знаешь ли, женщина нередко обольщается мыслью, что мужчина любит ее безумнее, нежели оно есть на самом деле.
Тут она рассмеялась. Его самоуверенность заражала.
– Надо же такое сболтнуть!
– Сдается мне, что в последнее время ты не слишком много думала о своем муже. Может, он тебя любит поменьше, чем прежде.
– Насчет тебя-то я, во всяком случае, не строю себе иллюзий, – отпарировала она.
– А вот это уже зря.
Какой музыкой прозвучали для нее эти слова! Она в это верила, его страсть согревала ей сердце. Он встал с кровати, подошел, сел рядом с ней на ларь, обнял за плечи.
– Сию же минуту перестань терзаться. Говорю тебе, бояться нечего. Руку даю на отсечение, он сделает вид, что ничего не знает. Ведь доказать такие вещи почти невозможно. Ты говоришь, он тебя любит; возможно, он не хочет тебя потерять окончательно. Будь ты моей женой, я и сам, честное слово, согласился бы ради этого на любые условия.
Она прильнула к нему. Безвольно откинулась на его руку, изнывая от любви, как от боли. Последние его слова поразили ее: может быть, Уолтер любит ее до того, что готов принять любое унижение, лишь бы иногда она ему позволяла любить ее. Это она может понять: ведь так она сама любит Чарли. В ней волной поднялась гордость и в то же время – смутное презрение к человеку, способному унизиться в любви до такого рабства.
Она обвила рукой его шею.
– Ты просто чародей. Я, когда шла сюда, дрожала как осиновый лист, а теперь совсем спокойна.
Он взял ее лицо в ладони, поцеловал в губы.
– Родная.
– Ты так умеешь утешить.
– Вот и хорошо, и хватит нервничать. Ты же знаешь, я всегда тебя выручу. Я тебя не подведу.
Страхи улеглись, но на какое-то безрассудное мгновение ей стало обидно, что ее планы на будущее пошли прахом. Теперь, когда опасность миновала, она готова была пожалеть, что Уолтер не будет требовать развода.
– Я знала, что могу на тебя положиться, – сказала она.
– А как же иначе?
– Тебе, наверно, надо пойти позавтракать?
– К черту завтрак. – Он притянул ее ближе, крепко сжал в объятиях.
– Ох, Чарли, отпусти меня.
– Никогда в жизни.
Она тихонько засмеялась, в этом смехе было и счастье любви, и торжество. Его взгляд отяжелел от желания. Он поднял ее на ноги и, не отпуская, крепко прижав к груди, запер дверь.
21
Весь день она думала о том, что Чарли сказал про Уолтера. В тот вечер им предстояло обедать в гостях, и, когда Уолтер вернулся домой, она уже одевалась. Он постучал в дверь.
– Да, войди.
Он не стал входить.
– Сейчас переоденусь. Ты скоро будешь готова?
– Через десять минут.
Он больше ничего не сказал и прошел к себе. Голос его прозвучал так же напряженно, как накануне вечером. Но она теперь чувствовала себя уверенно. Она оделась первая и, когда он спустился вниз, уже сидела в машине.
– Извини, что заставил тебя ждать, – сказал он.
– Ничего, переживу, – отозвалась она и даже сумела улыбнуться.
Пока машина катилась вниз с холма, она раза два заговорила о каких-то пустяках, но он отвечал односложно. Она пожала плечами. Что ж, если хочет дуться, пусть дуется, ей все равно. Оставшийся путь они проехали в молчании. Обед был многолюдный. Слишком много гостей и слишком много блюд. Весело болтая с соседями по столу, Китти наблюдала за Уолтером. Он был очень бледен, лицо осунулось.
– Ваш муж плохо выглядит. Я думал, он хорошо переносит жару. Он что, завален работой?
– Он всегда завален работой.
– Вы, наверно, скоро уедете?
– О да, – отвечала она. – Вероятно, съезжу в Японию, как в прошлом году. Доктор говорит, что здешняя жара мне вредна, того и гляди совсем расклеюсь.
Обычно, когда они обедали в гостях, Уолтер время от времени с улыбкой поглядывал на нее, сегодня же он ни разу на нее не взглянул. Она заметила, что он отвел глаза еще тогда, когда садился в машину, и потом, когда подал ей руку, помогая выйти. Сейчас, разговаривая со своими соседками справа и слева, он не улыбался, смотрел на них в упор, не мигая, и глаза его на бледном лице казались огромными, черными как уголь. А лицо точно каменное.
«Веселенький, должно быть, собеседник», – насмешливо подумала Китти, и ей стало забавно от мысли, как трудно несчастным женщинам поддерживать светскую беседу с этим мрачным истуканом.
Разумеется, он знает. В этом-то можно не сомневаться. И зол на нее как черт. Но почему он ничего не сказал? Неужели и правда, несмотря на боль и гнев, боится, что она его бросит? Однако презрение ее было вполне благодушно: как-никак он ее муж, он ее содержит; и, если только он не будет ей мешать, ставить ей палки в колеса, она не собирается его обижать. А с другой стороны, возможно, что его молчание объясняется болезненной стеснительностью. Чарли правильно говорит, для Уолтера скандал – нож острый. Он по возможности избегает всяких публичных выступлений. Он рассказывал ей, что, когда его однажды вызвали в суд как свидетеля и эксперта, он на целую неделю лишился сна. Робость просто ненормальная.
И еще: ведь мужчины очень тщеславны. Пока не начались пересуды, Уолтер тоже, может быть, будет делать вид, что ничего не случилось. А потом подумалось – может, Чарли и в этом прав, и Уолтер действительно блюдет свою выгоду. Чарли – самый популярный человек в английской колонии и скоро станет губернатором. Он может быть очень полезен Уолтеру, но, если Уолтер вздумает ерепениться, может и очень ему повредить. У нее даже сердце забилось от радости при мысли о том, как энергичен и решителен ее любовник; сама-то она совершенно беззащитна перед его властностью. Мужчины – странный народ: ей бы и в голову не пришло, что Уолтер способен на такую подлость, но как знать? Вдруг за его серьезностью скрывается гадкая, расчетливая натура? Чем больше она думала, тем вероятнее ей казалось, что Чарли прав; и она снова взглянула на мужа. Теперь в ее взгляде не было снисхождения.
Случилось так, что как раз в эту минуту Уолтеровы дамы беседовали каждая со своим другим соседом и он остался в одиночестве. Он смотрел прямо перед собой, забыв об окружающем, и в глазах его была смертельная тоска. Китти стало жутко.
22
На следующий день, когда она прилегла после второго завтрака, в дверь постучали.
– Кто там? – крикнула она сердито. В это время дня ее не полагалось тревожить.
– Это я.
Она узнала голос Уолтера и быстро села в постели.
– Войди.
– Я тебя разбудил? – спросил он, входя.
– Представь себе, да, – отвечала она тем невозмутимо веселым тоном, каким говорила с ним последние два дня.
– Выйди, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить.
Сердце ее точно подпрыгнуло в груди.
– Сейчас надену халат.
Он ушел. Она сунула босые ноги в ночные туфельки и накинула кимоно. Посмотрелась в зеркало, обнаружила, что очень бледна, и слегка подрумянилась. Постояла в дверях, собираясь с духом, потом с решительным видом вошла в будуар.
– Как это ты вырвался из лаборатории в такой час? Я в это время редко тебя вижу.
– Может быть, сядешь?
Он не смотрел на нее. Говорил очень серьезно. Китти с облегчением опустилась на стул: колени дрожали, и она молчала, не в силах продолжать в том же шутливом тоне. Он тоже сел и закурил. Взгляд его беспокойно блуждал по комнате. Казалось, ему трудно начать.
Вдруг он в упор посмотрел на нее, и, оттого что он так долго отводил от нее глаза, этот взгляд ужасно испугал ее, она чуть не вскрикнула.
– Ты знаешь, что такое Мэй-дань-фу? – спросил он. – Последнее время о нем много писали в газетах.
Она в изумлении уставилась на него. Не сразу решилась спросить.
– Это тот город, где холера? Мистер Арбетнот только вчера о нем говорил.
– Да, там эпидемия. Самая сильная вспышка за много лет. Там работал врач-миссионер. Три дня назад он умер от холеры. Там есть французский монастырь и, конечно, таможенный чиновник. Все остальные европейцы уехали.
Он смотрел на нее не отрываясь, и она, как завороженная, не опускала глаз. Пыталась прочесть выражение его лица, но от волнения не смогла ничего в нем уловить, кроме какой-то странной настороженности. И как он может смотреть так пристально? Даже не моргая.
– Монахини-француженки делают, что могут. Свой детский приют отдали под больницу. Но люди мрут как мухи. Я предложил поехать туда и возглавить медицинскую службу.
– Ты?!
Она вздрогнула. Первой ее мыслью было, что, если он уедет, она будет свободна, сможет без помехи видаться с Чарли. Но она тут же устыдилась этой мысли и густо покраснела. Почему он так смотрит на нее? Она смущенно потупилась и пролепетала:
– Это необходимо?
– Там нет ни одного врача-европейца.
– Но ты же не врач, ты бактериолог.
– У меня, как тебе известно, законченное медицинское образование, и до того, как специализироваться, я успел поработать в больнице. А то, что я в первую очередь бактериолог, это очень кстати. Будет широкое поле для научной работы.
Он говорил небрежно, даже развязно, и она с удивлением увидела в его глазах насмешку. Что-то тут было непонятно.
– Но это ведь очень опасно?
– Очень.
Он улыбнулся. Не улыбка, а издевательская гримаса. Она подперла голову рукой. Самоубийство. Вот это что такое. Ужас. Не думала она, что он так к этому отнесется. Не может она это допустить. Это жестоко. Не виновата она, что не любит его. Но чтобы он из-за нее покончил с собой… По щекам ее потекли слезы.
– О чем ты плачешь? – Голос прозвучал холодно.
– Тебе не обязательно ехать?
– Нет, я еду добровольно.
– Не надо, Уолтер, пожалуйста. А вдруг что-нибудь случится? Вдруг ты умрешь?
Лицо его оставалось бесстрастным, только в глазах опять мелькнула насмешка. Он не ответил.
– А где этот город? – спросила она, помолчав.
– Мэй-дань-фу? На одном из притоков Западной реки. Поедем мы по Западной реке, а дальше в паланкинах.
– Кто это мы?
– Ты и я.
Она бросила на него быстрый взгляд. Может, ослышалась? Но теперь улыбались уже и глаза, и губы. А взгляд был устремлен на нее.
– Ты что же, воображаешь, что и я поеду?
– Я думал, тебе захочется.
Она задышала часто-часто. Всю ее пронизала дрожь.
– Но там не место женщинам. Тот миссионер еще когда отправил свою жену и детей к морю. И чиновник казначейства с женой тоже здесь. Мы с ней недавно познакомились. Я только что вспомнила – она сказала, что уехала откуда-то из-за холеры.
– Там живут пять монахинь-француженок.
Ее охватил безумный страх.
– Ничего не понимаю. Мне туда ехать никак нельзя. Ты же знаешь, какое у меня слабое здоровье. Доктор Хэйуорд сказал, что в жару мне нужно уезжать из Гонконга. А тамошнюю жару я просто не вынесу. Да еще холера. Я от одного страха сойду с ума. Что мне, нарочно себя губить? Незачем мне туда ехать. Я там умру.
Он не ответил. В отчаянии она взглянула на него и чуть не вскрикнула, до того страшным ей вдруг показалось его посеревшее лицо. В нем читалась ненависть. Неужели он хочет, чтобы она умерла? Она сама ответила на эту чудовищную догадку.
– Это глупо. Если ты считаешь, что должен ехать, – дело твое. Но от меня ты не можешь этого требовать. Я ненавижу болезни. А тут эпидемия холеры. Пусть я не бог весть какая храбрая, а скажу – на такую авантюру я не решусь. Я останусь здесь, а потом поеду в Японию.
– А я-то думал, что ты захочешь сопровождать меня в эту опасную экспедицию.
Теперь он откровенно издевался над ней. Она смешалась. Не разобрать было, серьезно он говорит или только хочет ее запугать.
– Никто, по-моему, меня не осудит, если я откажусь ехать в опасное место, где мне нечего делать и где от меня не будет никакой пользы.
– От тебя могла бы быть большая польза. Ты могла бы утешать и подбадривать меня.
Она побледнела.
– Не понимаю, о чем ты говоришь.
– А казалось бы, большого ума для этого не требуется.
– Я не поеду, Уолтер. И не проси, это просто дико.
– Тогда и я не поеду. И сейчас же подам в суд.
23
Она смотрела на него, не понимая. Так неожиданны были его слова, что она не сразу уловила их смысл.
– Ты о чем? – еле выговорила она.
Даже для нее самой это прозвучало фальшиво, а суровое лицо Уолтера выразило презрение.
– Ты, видно, считала меня совсем уж круглым дураком.
Что на это сказать? Она колебалась – то ли изобразить оскорбленную невинность, то ли возмутиться, осыпать его гневными упреками. Он словно прочел ее мысли.
– Все необходимые доказательства у меня есть.
Она заплакала. Слезы лились по щекам, это были легкие слезы, и она не отирала их, выгадывала время, собиралась с мыслями. Но мыслей не было. Он смотрел на нее совершенно спокойно. Это ее пугало. Он стал терять терпение.
– Слезами, знаешь ли, горю не поможешь.
Его голос, сухой, холодный, пробудил в ней дух протеста. К ней возвращалось самообладание.
– Мне все равно. Ты, надеюсь, не будешь возражать, если я с тобой разведусь. Для мужчины это ничего не значит.
– Разреши спросить, с какой стати мне ради тебя подвергать себя каким-либо неудобствам?
– Тебе это должно быть безразлично. Я, кажется, немногого прошу – только чтобы ты поступил как порядочный человек.
– Твое будущее не может меня не беспокоить.
Тут она выпрямилась в кресле и вытерла слезы.
– Ты что, собственно, имеешь в виду?
– Таунсенд на тебе женится, только если будет соответчиком на суде и дело примет такой скандальный оборот, что его жена будет вынуждена с ним развестись.
– Ты сам не знаешь, что говоришь! – воскликнула она.
– Дура ты дура.
Столько презрения было в его тоне, что она вспыхнула от гнева. И гнев ее, возможно, разгорелся потому, что до сих пор она слышала от мужа только ласковые, лестные, приятные слова. Она так привыкла, что он готов выполнить любую ее прихоть.
– Хочешь знать правду – пожалуйста. Он только о том и мечтает, чтобы на мне жениться. Дороти Таунсенд готова хоть сейчас дать ему развод, а как только он будет свободен, мы поженимся.
– Он говорил это тебе в точности такими словами или у тебя просто сложилось такое впечатление?
В глазах Уолтера была злая насмешка. Китти стало не по себе. Она была не вполне уверена, что Чарли когда-либо произнес в точности такие слова.
– Говорил, сто раз говорил.
– Это ложь, и ты это знаешь.
– Он меня любит всем сердцем. Любит так же страстно, как я его. Ты все узнал. Я не намерена отпираться. К чему? Мы уже год как любовники, и я этим горжусь. Он для меня – все на свете, и очень хорошо, что ты это наконец узнал. Нам осточертело скрываться, врать, идти на всякие уловки. Мое замужество было ошибкой, я сглупила. Я никогда тебя не любила. У нас никогда не было ничего общего. Таких людей, какие тебе нравятся, я не люблю, то, что тебе интересно, мне скучно. Слава Богу, теперь с этим покончено.
Он слушал ее застыв. Слушал внимательно, хотя ни взглядом, ни жестом не показывал, что ее слова как-то на него действуют.
– Ты знаешь, почему я за тебя вышла?
– Знаю. Потому что не хотела, чтобы твоя сестра Дорис вышла замуж раньше тебя.
Так оно и было, но ее немного смутило, что он это знал. Странно, даже в эту минуту страха и гнева ей стало жаль его. Он чуть заметно улыбнулся.
– Я насчет тебя не обольщался, – сказал он. – Я знал, что ты глупенькая, легкомысленная, пустая. Но я тебя любил. Я знал, что твои мечты и помыслы низменны, пошлы. Но я тебя любил. Я знал, что ты – посредственность. Но я тебя любил. Смешно, как подумаешь, как я старался найти вкус в том, что тебя забавляло, как старался скрыть от тебя, что сам-то я не пошляк и невежда, не сплетник, не идиот. Я знал, как тебя отпугивает ум, и всячески пытался внушить тебе, что я такой же болван, как и другие мужчины, с которыми ты была знакома. Я знал, что ты пошла за меня только ради удобства. Я так любил тебя, что решил – пусть так. Насколько я могу судить, те, кто любит без взаимности, обычно считают себя обиженными. Им ничего не стоит озлобиться, очерстветь. Я не из их числа. Я никогда не надеялся, что ты меня полюбишь. С чего бы? Я никогда не считал, что достоин любви. Я благодарил судьбу за то, что мне разрешено любить тебя, замирал от восторга, когда мне казалось, что ты мною довольна, или когда читал в твоих глазах проблеск добродушной симпатии. Я старался не докучать тебе моей любовью, знал, что это обошлось бы мне слишком дорого, подстерегал малейшие признаки раздражения с твоей стороны. То, что большинство мужей считают своим по праву, я готов был принимать как милость.
Китти, с детства привыкшей к лести, еще не доводилось слышать таких слов. Слепая ярость поднялась в ней, вытеснив страх, и душила ее, в висках стучало. Оскорбленное тщеславие способно привести женщину в бешенство, уподобить ее львице, у которой отняли детенышей. Китти по-обезьяньи выпятила вперед нижнюю челюсть, и всегда-то слишком тяжелую, а ее красивые глаза почернели от злости. Но она еще сдерживалась.
– Если мужчина не способен внушить женщине любовь, виноват в этом он, а не она.
– Надо полагать, что так.
Этот издевательский тон пуще разжег ее ярость. Она почувствовала, что может больнее его ранить, если сохранит спокойствие.
– Я не очень образованная и не очень умная. Я самая нормальная молодая женщина. Мне нравится то, что нравится людям, среди которых я выросла. Я люблю танцы, теннис, театр, люблю хороших спортсменов. Ты прав, с тобой мне всегда было скучно. То, что тебе нравится, для меня пустой звук, и я об этом не жалею. В Венеции ты таскал меня по бесконечным музеям, когда мне гораздо интереснее было бы играть в гольф в Сандвиче[42].
– Знаю.
– Мне очень жаль, что я не оправдала твоих ожиданий. К сожалению, как мужчина ты всегда был мне противен. За это ты вряд ли можешь меня осуждать.
– Я и не осуждаю.
Китти легче было бы справиться с такой ситуацией, если бы он злобствовал, бушевал. За это она могла бы отплатить той же монетой. В его сдержанности было что-то сверхчеловеческое, и никогда еще он не вызывал у нее такой ненависти.
– По-моему, ты вообще не мужчина. Почему ты не вломился в спальню, когда знал, что я там с Чарли? Мог хотя бы попробовать исколотить его. Побоялся, да?
Но не успела она это выговорить, как залилась краской – ей стало стыдно. Он не ответил, но в его глазах она прочла ледяное презрение. На губах его промелькнула тень улыбки.
– Возможно, мне, как некоему историческому персонажу, гордость не позволяет лезть в драку[43].
Китти, не придумав ответа, только пожала плечами. Еще минуту он не спускал с нее неподвижного взгляда.
– Кажется, я сказал все, что хотел сказать. Раз ты отказываешься ехать со мной в Мэй-дань-фу, я подаю на развод.
– Почему ты не согласен, чтобы истицей была я?
Наконец-то он отвел глаза. Он откинулся в кресле, закурил.
Молча докурил сигарету до конца. Потом бросил окурок, улыбнулся и опять посмотрел на Китти.
– Если миссис Таунсенд заверит меня, что разведется с мужем, и если он даст мне письменное обещание жениться на тебе не позже чем через неделю после того, как оба судебных решения вступят в силу, тогда я выполню твою просьбу.
Что-то было в его тоне обескураживающее. Но чтобы не уронить себя, она приняла его слова милостиво и с достоинством:
– Ты очень великодушен, Уолтер.
К ее удивлению, он громко расхохотался. Она вспыхнула от гнева.
– Чему ты смеешься? Не вижу ничего смешного.
– Прошу прощенья. Видно, чувство юмора у меня несколько своеобразное.
Она нахмурилась. Хотелось сказать ему что-нибудь злое, обидное, но ничего подходящего не пришло в голову. Он взглянул на часы.
– Ты смотри не опоздай, если хочешь застать Таунсенда на работе. Если ты решишь ехать со мной в Мэй-дань-фу, выезжать нужно послезавтра.
– Ты хочешь, чтобы я ему сказала сегодня?
– Да, чем скорее, тем лучше.
Сердце у нее забилось. Беспокойства она не ощущала, но что-то… что-то тут было не так. Жаль, что у нее нет времени, Чарли следовало бы подготовить. Правда, в нем она вполне уверена, он любит ее не меньше, чем она его, стыдно было даже усомниться в том, что он ухватится за эту возможность обрести свободу. Она горделиво повернулась к Уолтеру.
– Ты, видимо, не знаешь, что такое любовь. Ты даже отдаленно не представляешь себе, какое чувство связывает меня с Чарли. Только это и имеет значение, и нам ничего не стоит пойти на любую жертву, какой наша любовь может потребовать.
Он молча отвесил ей легкий поклон, а потом провожал ее глазами, пока она неспешной поступью не вышла из комнаты.
24
Она послала Чарли записку: «Нужно повидаться. Дело срочное». Китаец-рассыльный просил ее обождать и вернулся с ответом, что мистер Таунсенд примет ее через пять минут. Она почему-то взволновалась. Когда ее наконец пригласили в кабинет Чарли, он поднялся ей навстречу, пожал руку, но стоило бою выйти и закрыть за собой дверь, как вся официальная любезность с него слетела.
– Слушай, дорогая, не приходи ты сюда в рабочее время. У меня нет ни минуты свободной, да и не стоит давать людям повод для пересудов.
Она посмотрела на него долгим взглядом и попыталась улыбнуться, но губы словно одеревенели и не слушались.
– Если б можно было не прийти, я не пришла бы.
Он с улыбкой взял ее под руку.
– Ну, раз пришла, так садись.
Комната была голая, узкая, с высоким потолком. Стены выкрашены в терракотовые тона, светлый и темный. Всю обстановку составляли большой письменный стол, кресло-вертушка для Таунсенда и кожаное кресло для посетителей. Китти с опаской в него опустилась. Таунсенд сел за стол. Она еще никогда не видела его в очках, даже не знала, что он их носит. Поймав ее взгляд, он снял очки.
– Я их надеваю только для работы.
У Китти слезы всегда были наготове, и сейчас она ни с того ни с сего расплакалась. В этом не было умышленного обмана, скорее инстинктивное желание вызвать сочувствие. Он вопросительно посмотрел на нее.
– Что-нибудь случилось? Да ну же, дорогая, не надо плакать.
Она достала платок и попыталась сдержать рыдания. Он позвонил и сам подошел к двери встретить рассыльного.
– Если меня будут спрашивать, говорить, что меня нет.
– Понятно, сэр.
Бой закрыл дверь. Чарли присел на ручку кожаного кресла и обнял Китти за плечи.
– Теперь рассказывай, девочка.
– Уолтер требует развода, – сказала она.
Она почувствовала, что его рука уже не так крепко ее обнимает. Все его тело застыло. Последовало короткое молчание, потом Таунсенд встал и пересел на свое кресло-вертушку.
– Как это надо понимать? – спросил он.
Она кинула на него быстрый взгляд, потому что голос его прозвучал хрипло, и увидела, что все лицо его побагровело.
– У нас был разговор. Я сейчас прямо из дому. Он говорит, у него доказательств больше чем нужно.
– Ты, надеюсь, не проболталась? Ничего не признала?
У нее упало сердце.
– Нет.
– Ты хорошо это помнишь?
– Да, – солгала она снова.
Он откинулся в кресле и устремил взгляд на карту Китая, висевшую перед ним на стене. Китти с тревогой следила за ним. То, как он принял ее новость, озадачило ее. Она-то думала, что он заключит ее в объятия, скажет, как он счастлив, что отныне они всегда будут вместе; но мужчины – странный народ. Она тихо заплакала – теперь уже не из желания вызвать его сочувствие, а просто потому, что это казалось так естественно.
– В хорошенькую мы влипли историю, черт возьми, – заговорил он наконец. – Но нельзя терять голову. Слезами, знаешь ли, горю не поможешь.
Она уловила в его голосе досаду и вытерла глаза.
– Я не виновата, Чарли. Я не могла иначе.
– Конечно, не могла. Нам просто не повезло. Тут столько же моей вины, сколько и твоей. Теперь вопрос в том, как нам выпутаться. Тебе, надо полагать, тоже не улыбается роль ответчицы.
Она чуть не ахнула от изумления и постаралась что-нибудь прочесть в его лице. О ней он не думает.
– Интересно, какие у него доказательства. Мне не ясно, как он может доказать, что мы тогда были вместе. Вообще-то мы вели себя достаточно осторожно. И старик Гу-джоу, я уверен, не мог нас выдать. Даже если Уолтер видел, как мы входили в лавку, – ну и что? Почему бы нам вместе не поинтересоваться антикварными вещицами?
Он словно рассуждал сам с собой.
– Предъявить обвинение легко, а вот доказать – чертовски трудно; это тебе всякий юрист подтвердит. Наше дело – все отрицать, а если он пригрозит подать в суд – черт с ним, будем бороться.
– Я не могу судиться, Чарли.
– Это еще почему? Очень может быть, что и придется. Видит Бог, скандала я не жажду, но не можем же мы сдаться без боя.
– А зачем нам защищаться?
– Ну и вопрос! Во-первых, дело это касается не только тебя, но и меня. Тебе-то, мне кажется, бояться нечего. С твоим мужем мы уж как-нибудь договоримся. Важно только решить, как половчее за это взяться.
Ему словно пришла в голову какая-то забавная мысль – он повернулся к Китти со своей неотразимой улыбкой и сменил резкий, деловой тон на заискивающий.
– Бедняжка моя, нелегко тебе пришлось, я понимаю. – Он потянулся через стол и сжал ее руку. – Попались мы с тобой, но как-нибудь выкрутимся, мне это… – Он осекся, и Китти показалось, что он чуть не сказал, что ему не впервой выкручиваться из таких передряг. – Главное – не терять голову. Ты же знаешь, я тебя не подведу.
– Я не боюсь. Пусть делает что хочет.
Он еще улыбался, но теперь уже чуть наигранно.
– В крайнем случае придется мне покаяться губернатору. Он меня отчитает по первое число, но он добрый малый, и к тому же человек светский. Он это как-нибудь уладит. Ему публичный скандал тоже не пошел бы на пользу.
– А что он может сделать? – спросила Китти.
– Оказать нажим на Уолтера. Попробует сыграть на его самолюбии, а если не выйдет, тогда на его чувстве долга – это уж дело верное.
Китти приуныла. Ну как Чарли не понимает, до чего это все серьезно! Его легкомысленный тон совсем неуместен. Напрасно она пришла к нему на службу. Здешняя обстановка подавляет ее. Куда легче было бы все ему объяснить, если б они сидели обнявшись.
– Не знаешь ты Уолтера, – сказала она.
– Зато знаю, что купить можно каждого.
Она любила Чарли всем сердцем, но его ответ обескуражил ее: как мог такой умный человек сболтнуть такую глупость?
– Ты, наверно, не понимаешь, до чего Уолтер рассержен. Ты не видел, какое у него было лицо, какие глаза.
Он ответил не сразу, только поглядел на нее с легкой усмешкой. Она поняла, о чем он думает. Уолтер – бактериолог, положение его подчиненное; едва ли у него хватит наглости пойти наперекор высокому начальству.
– Не обольщайся, Чарли, – сказала она очень серьезно. – Если Уолтер решил подать в суд, слова на него не подействуют, ни твои, ни чьи бы то ни было.
Лицо его снова помрачнело.
– Он уж не хочет ли сделать меня соответчиком?
– Сначала хотел, но я его отговорила, он согласился, чтобы я сама подала на развод.
– Ну, тогда это не так страшно. – В его глазах она снова прочла облегчение. – Это, по-моему, превосходный выход. Что же и остается мужчине, если он порядочный человек.
– Но он ставит условие.
Он посмотрел на нее вопросительно, как бы что-то соображая.
– Я, конечно, не богач, но все, что могу, сделаю.
Китти промолчала. Чарли сегодня говорит совсем непохоже на себя. И от этого ей особенно трудно. Она-то думала, что выложит ему все сразу, спрятав пылающее лицо у него на груди!
– Он согласен, чтобы я развелась с ним, если твоя жена разведется с тобой.
– Это все?
Китти выговорила, запинаясь:
– Ужасно трудно это сказать, Чарли, это звучит так страшно… и если ты пообещаешь жениться на мне не позже чем через неделю после того, как судебные решения войдут в силу.
25
Он ответил не сразу. Снова ласково сжал ее руку.
– Вот что, девочка. Как бы ни обернулось дело, Дороти мы не должны в это впутывать.
Она изумилась:
– Но я не понимаю. Как же так?
– Ну, знаешь ли, в этой жизни нельзя думать только о себе. При прочих равных условиях я бы завтра же на тебе женился. Но это исключено. Я знаю Дороти: ничто не заставит ее развестись со мной.
Китти почувствовала, что ее охватывает ужас. Она опять заплакала. Он встал, подсел к ней, обнял.
– Мужайся, девочка. Нельзя терять голову.
– Я думала, ты меня любишь…
– Конечно, люблю, – произнес он нежно. – Неужели ты в этом сомневаешься?
– Если она с тобой не разведется, Уолтер сделает тебя соответчиком.
Он выдержал заметную паузу, прежде чем ответить. Голос его звучал холодно.
– Это, конечно, означало бы конец моей карьеры, но боюсь, что и тебе бы не помогло. Если дойдет до крайности, я во всем признаюсь Дороти. Для нее это будет страшный удар, большое горе, но она простит меня. – Новая мысль пришла ему в голову. – Пожалуй, самое лучшее – рассказать ей все теперь же. Если она встретится с твоим мужем, то, возможно, сумеет уговорить его держать язык за зубами.
– Проще говоря, ты не хочешь, чтобы она с тобой развелась?
– Я и о сыновьях должен подумать, разве не так? И конечно, мне не хочется доставлять ей страдания. Мы всегда с нею ладили. Она, знаешь ли, жена каких мало.
– Зачем же ты говорил мне, что она для тебя ничто?
– Я этого не говорил. Я говорил, что не влюблен в нее. Мы уже давно не спим вместе, разве что в исключительных случаях, на Рождество, например, или накануне ее отъезда в Англию, или в день возвращения. Для нее это вообще не так уж важно. Но мы всегда оставались друзьями. Могу тебе прямо сказать – никто даже представления не имеет о том, как всецело я на нее полагаюсь.
– В таком случае не лучше ли было оставить меня в покое?
Странно, что она может говорить так спокойно, когда сердце сжимается от ужаса.
– Такой прелестной женщины, как ты, я не встречал уже много лет. Я безумно тобой увлекся. За это ты едва ли можешь меня осуждать.
– И между прочим, ты говорил, что не подведешь меня.
– О Господи, да я и не собираюсь тебя подводить. Мы влипли в пренеприятную историю, и я сделаю все, что в моих силах, чтоб тебя вызволить.
– Все, кроме того, что только и было бы логично и естественно.
Он встал и пересел в свое кресло.
– Дорогая моя, будь же благоразумна. Лучше отнестись к этой ситуации трезво. Мне не хочется огорчать тебя, но я должен сказать тебе правду. Я очень дорожу моей карьерой; не сегодня завтра я могу оказаться в губернаторском кресле, а пост губернатора колонии – это, черт возьми, не шутка. Если мы не сумеем замять это дело, все мои планы вылетят в трубу. Со службы меня, возможно, и не выгонят, но и продвинуться не дадут – репутация-то подмочена. А если все же придется расстаться со службой, тогда надо будет вступить в какое-нибудь дело здесь, в Китае, где у меня есть связи и много знакомых. И в том, и в другом случае я смогу добиться успеха, только если Дороти меня не бросит.
– Так нужно ли было говорить мне, что тебе ничего на свете не нужно, кроме меня?
Его губы капризно скривились.
– Ох, моя милая, нельзя же понимать буквально каждое слово влюбленного мужчины.
– Значит, ты мне лгал?
– В ту минуту – нет.
– А что будет со мной, если Уолтер со мной разведется?
– Если мы убедимся, что дело безнадежное, тогда, конечно, защищаться не будем. Особенной огласки я не предвижу, в наше время к таким вещам относятся снисходительно.
В первый раз Китти подумала о своей матери. Она поежилась. Опять поглядела на Таунсенда. К ее боли теперь примешивалась обида.
– Ты-то, конечно, с легкостью перенесешь все неудобства, какие выпадут мне на долю.
– Не вижу, какой нам смысл обмениваться колкостями.
У нее вырвался крик отчаяния. Какая мука – так страстно его любить и так в нем разочароваться. Нет, это немыслимо, не может он не понимать ее состояния.
– Чарли! Неужели ты не знаешь, как я люблю тебя?
– Но, дорогая моя, я тоже тебя люблю. Только мы живем не на необитаемом острове, и надо мириться с обстоятельствами, когда они сильнее нас. Будь же благоразумна.
– Как я могу быть благоразумной? Для меня наша любовь была всем на свете, в тебе была вся моя жизнь. Не очень-то приятно узнать, что в твоей жизни я была всего лишь эпизодом.
– Неправда, какой там эпизод. Но знаешь ли, когда ты требуешь, чтобы со мною развелась жена, к которой я очень привязан, и чтобы я погубил свою карьеру, женившись на тебе, ты требуешь очень многого.
– Не больше того, на что я готова пойти ради тебя.
– Обстоятельства-то у нас не одинаковые.
– Вся разница в том, что ты меня не любишь.
– Можно любить женщину очень сильно и все же не мечтать о том, чтобы прожить с нею всю жизнь.
Отчаяние овладело ею. Тяжелые слезы поползли по щекам.
– О, как это жестоко! Как ты можешь быть таким бессердечным!
Она истерически зарыдала. Он бросил тревожный взгляд на дверь.
– Постарайся взять себя в руки, милая.
– Ты не знаешь, как я тебя люблю, – всхлипнула она. – Я не могу без тебя жить. Неужели тебе не жаль меня?
Не в силах продолжать, она опять дала волю слезам.
– Я не хочу быть жестоким и, видит Бог, не хочу оскорблять твои чувства, но сказать тебе правду я должен.
– Вся моя жизнь пошла прахом. Почему ты не мог оставить меня в покое? Что я тебе сделала плохого?
– Конечно, если для тебя легче взвалить всю вину на меня, сделай одолжение.
Китти вскипела от ярости.
– Я, значит, вешалась тебе на шею? Не успокоилась, пока ты не внял моим мольбам?
– Этого я не говорю. Но мне, безусловно, и в голову не пришло бы за тобой ухаживать, если бы ты не дала понять, совершенно недвусмысленно, что готова принять мои ухаживания.
О, какой стыд! И ведь она знает, что это правда. Лицо у него стало угрюмое, озабоченное, руки беспокойно двигались. Он поглядывал на нее, уже не скрывая раздражения.
– Ты думаешь, муж тебя не простит? – спросил он, помолчав.
– Я не просила у него прощения.
Он невольно стиснул кулаки. Она увидела, что он с трудом удержался от крепкого словца.
– А ты пойди к нему, изобрази кающуюся грешницу. Если он любит тебя так, как ты уверяешь, он не может не простить.
– Плохо же ты его знаешь.
26
Она утерла слезы, постаралась успокоиться.
– Чарли, если ты меня бросишь, я умру.
Ей оставалось одно – взывать к его состраданию. Надо было сразу сказать ему. Когда он узнает, перед каким выбором она поставлена, его великодушие, чувство справедливости, мужское достоинство, наконец, так возмутятся, что он забудет обо всем, кроме грозящей ей опасности. О, как хотелось ей сейчас ощутить себя под надежной защитой любимых рук!
– Уолтер хочет, чтобы я поехала в Мэй-дань-фу.
– Что? Но ведь там холера. Самая сильная вспышка за пятьдесят лет. Там женщинам не место. Не можешь ты туда ехать.
– Если ты от меня отступишься – придется.
– То есть как? Я не понимаю.
– Уолтер решил сменить того врача-миссионера, который умер. И хочет, чтобы я поехала с ним.
– Когда?
– Теперь же. Сразу.
Таунсенд отодвинулся назад вместе с креслом и воззрился на нее.
– Наверно, я совсем поглупел, я просто не могу взять в толк, что ты такое говоришь. Если он хочет, чтобы ты ехала с ним, при чем же тогда развод?
– Он предложил мне выбор: либо я еду с ним, либо он подает на развод.
– Ах вот как. – Тон его чуть заметно изменился. – По-моему, это очень благородно с его стороны, ты не находишь?
– Благородно?!
– Ну как же, сам вызвался ехать в такое место. Я бы, прямо скажу, не рискнул. Конечно, по возвращении ему обеспечен орден Михаила и Георгия.
– А я-то, Чарли! – воскликнула она с болью в голосе.
– Что ж, если он хочет взять тебя с собой, в данных обстоятельствах отказываться как-то некрасиво.
– Но это смерть, верная смерть.
– Это уж ты, черт возьми, преувеличиваешь. Не повез бы он тебя туда, если б так думал. И для тебя там меньше риска, чем для него. Риска вообще, можно сказать, никакого – надо только соблюдать осторожность. При мне здесь была одна вспышка, ну и ничего. Главное – не есть ничего в сыром виде: ни фруктов, ни салатов из овощей – и воду пить только кипяченую.
Он говорил все более уверенно и свободно, и лицо оживилось, вся угрюмость пропала, он был почти весел.
– Как-никак это его специальность. Он интересуется микробами. В сущности, для него это редкая удача.
– Но я-то, Чарли! – повторила она уже не с болью, а с ужасом.
– Чтобы понять человека, нужно поставить себя на его место. С его точки зрения, ты вела себя далеко не примерно, и он хочет оградить тебя от соблазнов. Мне с самого начала казалось, что разводиться с тобой он не хочет, не в его это характере, и он предложил тебе выход, по его мнению великодушный, а ты отказалась, вот он и взбеленился. Я не хочу тебя обвинять, но мне кажется, что ради нас всех тебе следовало бы отнестись к этому не так опрометчиво.
– Но как ты не понимаешь, что это меня убьет? И разве не ясно, что он потому и тащит меня туда, что знает это?
– Да перестань ты, девочка. Положение наше хуже некуда, и, право же, сейчас не время разыгрывать мелодраму.
– А ты нарочно не желаешь ничего понять.
О, какая это мука, и как страшно. Впору закричать в голос.
– Не можешь ты послать меня на верную смерть. Пусть у тебя нет ко мне ни любви, ни жалости, но должно же быть какое-то человеческое отношение.
– Ты, пожалуй, ко мне несправедлива. Сколько я могу понять, твой муж поступил очень великодушно. Он готов тебя простить, а ты отказываешься. Он хочет тебя увезти, и вот представилась возможность увезти тебя в такое место, где ты на несколько месяцев будешь ограждена от соблазнов. Я не утверждаю, что Мэй-дань-фу – курорт. Этого ни про один китайский город не скажешь. Но это еще не причина для паники. Поддаться панике – самое опасное дело. Я уверен, что во время эпидемий столько же людей умирает от страха, сколько и от самой болезни.
– А мне уже сейчас страшно. Когда Уолтер об этом заговорил, я чуть в обморок не упала.
– Ну понятно, в первую минуту ты струхнула, но потом посмотришь на это трезво, и все обойдется. Такое захватывающее приключение мало кому доводится пережить.
– Я думала, я думала…
Она корчилась, как от физической боли. Он молчал, и опять на лице его появилось угрюмое выражение, которого она до последнего времени на нем никогда не видела. Теперь Китти не плакала. Она сидела спокойно, с сухими глазами, и голос ее прозвучал тихо, но твердо.
– Значит, ты хочешь, чтобы я уехала?
– Выбора-то у нас нет.
– Разве?
– Скажу честно: если бы твой муж подал в суд на развод и выиграл дело, я все равно не мог бы на тебе жениться.
Минуты, пробежавшие до ее ответа, вероятно, показались ему вечностью. Она медленно встала с места.
– Я думаю, мой муж и не собирался подавать в суд.
– Так какого же черта ты меня напугала до полусмерти?
Она смерила его спокойным взглядом.
– Он знал, что ты от меня отступишься.
И умолкла. Постепенно, как бывает, когда изучаешь иностранный язык и целая страница сперва кажется совсем непонятной, а потом ухватишься за какую-нибудь одну фразу или слово, и внезапно твой усталый мозг хотя бы приблизительно осмысливает всю страницу, – так же постепенно и приблизительно ей открывался ход мыслей Уолтера. Словно темный, мрачный пейзаж озаряла молния и тут же снова поглощала тьма. И она содрогалась от того, что успевала увидеть.
– Он пустил в ход эту угрозу только потому, что знал, что ты перед ней спасуешь, Чарли. Поразительно, как безошибочно он тебя расценил. А подвергнуть меня такому жестокому разочарованию – это на него похоже.
Чарли опустил глаза на лежавший перед ним лист промокашки. Он надул губы и слегка хмурился, но не отвечал.
– Он знал, что ты трус, тщеславный, корыстный. И хотел, чтобы я сама в этом убедилась. Он знал, что стоит возникнуть опасности, и ты пустишься наутек, как заяц. Он знал, как страшно я ошибалась, воображая, что ты меня любишь, потому что знал, что ты способен любить только себя. Он знал, что ты с легкостью мною пожертвуешь, лишь бы спасти свою шкуру.
– Если тебе доставляет удовольствие поливать меня грязью, что ж, я, наверно, не вправе возражать. Женщины вообще несправедливы, и обычно им удается свалить всю вину на мужчину. Но и у другой стороны могут найтись веские доводы.
Она будто и не слышала.
– Теперь я знаю все, что он знал давно. Знаю, что ты черствый, бессердечный. Что ты эгоист до мозга костей, что храбрости у тебя как у кролика, что ты лжец и притворщик, презренный человек. И самое ужасное, – лицо ее исказилось от боли, – самое ужасное то, что все-таки я люблю тебя без памяти.
– Китти!
Она горько усмехнулась. Он произнес ее имя тем вкрадчивым, проникновенным тоном, который давался ему так легко и значил так мало.
– Болван! – сказала она.
Он отшатнулся, ошеломленный, разобиженный до глубины души. В ее глазах светилась насмешка.
– Я тебе, кажется, стала меньше нравиться? Ну ничего, пусть так и будет. Мне теперь все равно. – И стала натягивать перчатки.
– Как же ты поступишь? – спросил он.
– А ты не бойся, тебе ничего не грозит. Ты не пострадаешь.
– Ради Бога, Китти, не надо так говорить. – В его звучном голосе слышалась тревога. – Ты же знаешь, все, что касается тебя, касается меня. Я не успокоюсь, пока не буду знать, что будет дальше. Что ты скажешь мужу?
– Скажу, что согласна ехать с ним в Мэй-дань-фу.
– Если ты согласишься, он, может быть, не будет настаивать.
Почему она так странно посмотрела на него в ответ на эти слова?
– И ты не боишься?
– Нет, – ответила она, – ты вселил в меня мужество. Пожить в холерном городе – это интереснейшее приключение, а если я умру, значит, так тому и быть.
– Я старался обойтись с тобой как можно мягче.
Она опять на него взглянула. Слезы выступили на глазах, сердце разрывалось. Неудержимо тянуло броситься ему на шею, впиться губами в его губы. Ни к чему это.
– Если хочешь знать, – сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, – в сердце у меня ужас и смерть. Я не знаю, что там у Уолтера в его темной, путаной душе, но сама трясусь от страха. Может быть, смерть даже будет для меня избавлением.
Чувствуя, что самообладание ее иссякло, она быстро пошла к двери и выскользнула из комнаты, не дав ему даже времени встать с места. У Таунсенда вырвался долгий вздох облегчения. Больше всего ему сейчас хотелось выпить бренди с содовой.
27
Уолтера она застала дома. Она хотела пройти прямо к себе, но он был внизу, в прихожей, – давал распоряжения одному из боев. Она была так измучена, что с готовностью пошла на неминуемое унижение. Задержавшись около мужа, она сказала:
– Я еду с тобой.
– Вот и отлично.
– Когда мы уезжаем?
– Завтра вечером.
Его равнодушие подействовало на нее как укол копья. Она даже сама удивилась, когда сказала с вызовом:
– Наверно, достаточно будет взять с собой несколько летних платьев и саван?
По его лицу она поняла, что ее легкомысленный тон рассердил его.
– Я уже сказал твоей горничной, что отобрать.
Она кивнула и поднялась к себе в спальню. В лице ее не было ни кровинки.
28
Наконец-то они приближались к месту своего назначения. Уже сколько времени, день за днем, их несли в паланкинах по узкой грунтовой дороге между нескончаемых рисовых полей. Они выступали с рассветом и двигались до тех пор, пока дневная жара не загоняла их в какую-нибудь придорожную харчевню, а потом снова в путь – до того города, где намечено было остановиться на ночлег. Возглавлял шествие паланкин Китти, за ней следовал Уолтер; последними шли кули, сгибаясь под тяжестью постелей, съестных припасов и прочей клади. Китти ничего не видела вокруг. В долгие часы, когда молчание лишь изредка нарушал возглас носильщика или обрывок несуразной песни, она мучительно перебирала в памяти все подробности душераздирающей сцены в служебном кабинете у Чарли. Вспоминая, что он сказал ей и что она сказала ему, она ужасалась, до чего же прозаический и деловой получился их разговор. Она не сказала того, что хотела сказать, говорила не тем тоном, каким собиралась. Если бы она сумела объяснить ему, как безгранично, как страстно она его любит, он не показал бы себя таким бесчеловечным, не бросил бы ее на произвол судьбы. Она просто не успела опомниться. Не поверила своим ушам, когда он дал ей понять – без слов, но до ужаса ясно, – что она для него ничто. Потому она и плакала тогда так мало – слишком была ошарашена. Потом-то наплакалась.
По ночам в харчевнях, где им с мужем отводили лучшую комнату, лежа без сна и зная, что Уолтер на своей походной койке в нескольких футах от нее тоже не спит, она кусала подушку, чтобы он не услышал ни звука. Но днем, за шторками паланкина, давала себе волю. Боль ее была так сильна, что впору кричать на крик; она и не знала, что бывает такое жгучее страдание, и в отчаянии спрашивала себя, чем она его заслужила. Почему, почему Чарли ее не любит? Наверно, она сама виновата, но ведь она сделала все, чтобы удержать его любовь. Им всегда так хорошо бывало вместе, они все время смеялись, были не только любовниками, но и добрыми друзьями. Нет, она отказывалась понять и чувствовала, что сломлена. Она твердила себе, что ненавидит его, презирает, но как жить дальше, если она никогда больше его не увидит? Если Уолтер везет ее в Мэй-дань-фу в наказание, это глупо с его стороны: не все ли ей теперь едино, что с ней станется? Жить больше незачем. Тяжело это – покончить счеты с жизнью в двадцать семь лет.
29
На пароходе, увозившем их вверх по Западной реке, Уолтер не отрываясь читал, но за столом пытался как-то поддерживать разговор. Говорил он с ней, как со случайной попутчицей, о всяких пустяках – из вежливости, думала Китти, или чтобы еще подчеркнуть разделявшую их пропасть.
В минуту прозрения она сказала Чарли, что Уолтер пригрозил разводом в случае, если она с ним не поедет в зараженный город, чтобы она сама могла убедиться, какой он, Чарли, бездушный эгоист и трус. Да, так оно и было, такой маневр отлично вязался с его издевательским юмором. Он в точности знал, что случится, еще до того, как она вернулась домой, и дал ее горничной нужные распоряжения. В его глазах она прочла презрение, словно относившееся и к ней, и к ее любовнику. Возможно, он говорил себе, что, будь он на месте Таунсенда, ничто не помешало бы ему пойти ради нее на любые жертвы. И это тоже была правда. Но после того, как она прозрела, как мог он заставить ее подвергнуть себя такой опасности, да еще зная, как это ее страшит? Сначала она думала, что он шутит, – до самого отъезда, нет, дольше, до того, как они сошли на берег и двинулись дальше в паланкинах, все ждала, что он скажет, со своим сдержанным смешком, что она, если хочет, может вернуться. Что у него на уме – ей не понять. Не может же он в самом деле желать ее смерти, ведь он так любил ее. Она теперь знает, что такое любовь, тысячу раз он доказывал, как сильно ее любит. Каждое ее слово было для него закон. Не может быть, чтобы он ее разлюбил. Неужели можно разлюбить, если с тобой обошлись жестоко? Она не ранила его так больно, как Чарли ранил ее, а ведь она, несмотря ни на что, по первому знаку Чарли, хоть теперь она его знает, махнула бы рукой на все блага мира и кинулась ему на грудь. Пусть он принес ее в жертву, пусть он бездушный эгоист, но она его любит.
Сперва она думала, что нужно только подождать, рано или поздно Уолтер простит ее. Она была слишком уверена в своей власти над ним, не могла допустить и мысли, что этой власти пришел конец. «Большие воды не могут потушить любви…»[44] Раз он любил ее, значит, был слабый, а потому и разлюбить ее не должен. Но теперь ее уверенность поколебалась. Вечерами, когда он читал, сидя на жестком стуле, и свет лампы «молния» падал на его лицо, она могла без помехи его разглядывать. Она лежала в тени, на тюфяке, где ей должны были постелить постель. Лицо его с правильными прямыми чертами казалось очень строгим. Кто бы поверил, что порой его озаряет такая ласковая улыбка. Он читал спокойно, точно был от нее за тысячу миль; она видела, как он переворачивает страницы, как переводит глаза со строчки на строчку. О ней он не думал. А когда стол накрывали и появлялся обед, он откладывал книгу и коротко взглядывал на нее (забыв, что лицо его на свету, он не старался смягчить его выражение), и она с испугом читала в его глазах физическую гадливость. Это пугало ее. Неужели от его любви ничего не осталось? Неужели он действительно задумал ее погубить? Да нет же, это был бы поступок сумасшедшего. И легкая дрожь пробирала ее при мысли, что Уолтер, может быть, не вполне нормален.
30
Ее носильщики, долго шагавшие молча, вдруг заговорили, и один из них попытался жестом и непонятными словами привлечь ее внимание. Она посмотрела в ту сторону, куда он указывал, и там, на вершине холма, увидела ворота. Она уже знала, что ворота воздвигнуты в память какого-нибудь знаменитого ученого или добродетельной вдовы, – с тех пор как они сошли на берег, она уже видела много таких сооружений; но эти ворота, черные на фоне заходящего солнца, показались ей особенно причудливыми и прекрасными. А между тем зрелище это почему-то ее встревожило: в нем таился какой-то смысл – она смутно чувствовала это, но не могла бы выразить словами. Что это, угроза, насмешка? Они вступили в бамбуковую рощу, и стволы склонялись над дорогой, словно хотели задержать паланкин; и, хотя в этот вечер не было ни ветерка, узкие зеленые листья чуть подрагивали. Создавалось впечатление, будто меж стволов кто-то прячется и следит за ней. Они подошли к подошве холма, рисовые поля кончились. Носильщики бодрым шагом стали подниматься в гору. Весь склон покрывали зеленые холмики, теснившиеся близко-близко друг к другу, так что поверхность получалась рубчатая, как песчаный пляж во время отлива. И это тоже было знакомо: в точности такое место встречалось им на подходе к каждому густонаселенному городу. Кладбище! Теперь стало ясно, почему носильщик обратил ее внимание на ворота, венчающие холм: конец пути был уже близок.
Они прошли под воротами, и носильщики остановились, чтобы переложить палки от паланкина с плеча на плечо. Один из них вытер потное лицо грязной тряпкой. Дорога пошла под гору. По обеим сторонам лепились грязные домишки. Уже темнело. И вдруг носильщики взволнованно залопотали и одним прыжком, резко встряхнув паланкин, прижались к стене. Китти тут же поняла, чего они испугались: пока они стояли, громко переговариваясь, навстречу быстро и молча прошло четверо крестьян, несущих гроб, новый, некрашеный, в сумерках он казался совсем белым. Сердце у Китти заколотилось от страха, гроб проплыл мимо, а носильщики все стояли как вкопанные, словно не могли заставить себя сдвинуться с места. Но вот сзади раздался окрик, и они тронулись. Теперь они шли молча.
Еще через несколько минут они круто свернули в ограду. Паланкин опустили на землю. Долгая дорога осталась позади.
31
Дом был одноэтажный, с верандами. Сразу с порога Китти оказалась в гостиной. Она села и стала смотреть, как кули один за другим вносят в дом тяжелую кладь. Уолтер во дворе распоряжался, что куда нести. Она очень устала и даже вздрогнула, услышав незнакомый голос:
– Можно войти?
Ее познабливало. В таком нервном состоянии ей вовсе не улыбалось с кем-то знакомиться. Какой-то человек выступил из темноты – длинная узкая комната была освещена всего одной лампой – и протянул ей руку.
– Уоддингтон. Я помощник полицейского комиссара.
– A-а, знаю, таможня. Мне говорили, что вы здесь.
В полумраке она разглядела только, что он худой и маленький, не выше ее ростом, с лысой головой и бритым лицом.
– Я живу внизу, в начале подъема, но вы мимо моего дома не ехали. Я подумал, вы, наверно, совсем выдохлись, пойти ко мне обедать не захотите, потому и заказал для вас обед здесь и сам назвался к вам в гости.
– Очень приятно слышать.
– Повар неплох, вот увидите. Я всех слуг Уотсона для вас тут оставил.
– Уотсон – это тот миссионер, который здесь жил?
– Да. Отличный был малый. Завтра я, если хотите, покажу вам его могилу.
– Вы очень любезны, – улыбнулась Китти.
Тут вошел Уолтер. Уоддингтон представился ему еще во дворе, а теперь сказал:
– Я тут предупредил вашу супругу, что буду у вас обедать. С тех пор как умер Уотсон, мне и поговорить-то не с кем, разве что с монахинями, но я во французском не силен, к тому же и говорить с ними можно далеко не обо всем.
– Сейчас бой принесет напитки, – сказал Уолтер.
Слуга принес виски и содовой, и Китти заметила, что Уоддингтон налил себе изрядную порцию. Еще когда он только вошел, она по его манере говорить и частым смешкам заподозрила, что он не совсем трезв.
– Ваше здоровье, – сказал он, а потом обратился к Уолтеру: – Работы вам здесь хватит. Люди мрут как мухи. Городской голова уже ничего не соображает, а полковник Ю, он командует гарнизоном, все силы тратит на то, чтобы не дать своим солдатам пуститься в мародерство. Если в самом скором времени что-нибудь не изменится, нас всех убьют в постели. Я пытался уговорить монахинь, чтоб уезжали отсюда, но они, конечно, ни в какую. Все как одна желают заработать мученический венец, чтоб им пусто было.
Говорил он легким, поверхностным тоном, и в голосе слышался призрак смеха, так что, слушая его, трудно было удержаться от улыбки.
– А вы почему не уехали? – спросил Уолтер.
– Да как вам сказать, половину моих подчиненных я потерял, и остальные вот-вот лягут и умрут. Кто-то должен же остаться и поддерживать хотя бы видимость порядка.
– Прививку сделали?
– Да. Еще Уотсон заставил. Он и себе сделал прививку, но ему, бедняге, это не очень-то помогло. – Он повернулся к Китти, его забавная рожица весело сморщилась. – Большого риска, по-моему, нет, надо только соблюдать осторожность. Молоко и воду обязательно кипятить, не есть сырых фруктов и овощей. Вы граммофонных пластинок не привезли?
– Кажется, нет, – сказала Китти.
– Вот это жаль. Я-то надеялся. Давненько я не покупал пластинок, а свои старые слушать больше не могу.
Вошел бой узнать, можно ли подавать обед.
– Вы ведь нынче не будете переодеваться? – спросил Уоддингтон. – У меня бой на прошлой неделе умер, а новый – олух, так что я перестал переодеваться к обеду.
– Пойду сниму шляпу, – сказала Китти.
Ее комната была рядом с той, где они сидели. На полу, поставив рядом с собой лампу, сидела служанка и распаковывала ее пожитки.
32
Столовая была маленькая, почти всю ее занимал огромный стол. На стенах висели гравюры на библейские темы и иллюминованные тексты.
– У миссионеров всегда большие столы, – объяснил Уоддингтон. – Им на каждого ребенка полагается прибавка к жалованью, а столы они покупают, когда женятся, чтобы было где усадить весь выводок.
С потолка свисала большая керосиновая лампа, так что Китти могла теперь получше рассмотреть Уоддингтона. Оттого, что он был лысый, она было подумала, что он уже немолод, но теперь увидела, что ему, конечно, нет и сорока. Лицо под высоким выпуклым лбом было свежее и без морщин, безобразное, как у обезьянки, но не отталкивающее; очень занятное лицо. Нос и рот маленькие, как у ребенка, и небольшие ярко-голубые глаза. Похож на смешного старенького мальчика. Он не скупясь подливал себе вина – и к концу обеда был порядком пьян. Но пьянел он безобидно, весело, точно сатир, стащивший бурдюк у вздремнувшего пастуха.
Он болтал о Гонконге, где у него было много знакомых, расспрашивал о них. В прошлом году он побывал там на скачках и теперь вспоминал лошадей и их владельцев.
– Кстати, а как там Таунсенд? – спросил он вдруг. – Займет он пост губернатора?
Китти почувствовала, что краснеет, но муж не смотрел на нее. Он ответил:
– Очень возможно.
– Да, он из таких.
– Вы с ним знакомы? – спросил Уолтер.
– А как же. Один раз вместе плыли из Англии.
Из-за реки послышались удары гонга и треск хлопушек. Там, совсем близко от них, корчился в страхе город, и смерть, внезапная и безжалостная, металась по извилистым улицам. А Уоддингтон заговорил о Лондоне, о театрах. Он был в курсе всего, что шло на лондонских сценах, рассказал, какие спектакли видел сам, когда в последний раз приезжал в Англию в отпуск. Он смеялся, вспоминая шутки низкопробного комика, вздыхал, восторгаясь красотой опереточной дивы. С явным удовольствием похвастался, что на одной из самых среди них знаменитых женился его родственник, он однажды завтракал у них, и она подарила ему свою фотографию – непременно покажет, когда они будут обедать у него в управлении.
Уолтер поглядывал на гостя с холодной насмешкой, но гость, очевидно, забавлял его, и он старался проявить интерес к вещам, в которых, как знала Китти, ничего не смыслил. А Китти, сама не зная почему, снова поддалась страху. В доме умершего миссионера, так близко от зараженного города, они словно были отрезаны от всего мира. Три одиноких человека, чужие друг другу.
Обед кончился, она встала.
– Вы не обидитесь, если я пожелаю вам спокойной ночи? Я иду спать.
– А я откланяюсь, – ответил Уоддингтон. – Доктор, наверно, тоже валится с ног. Завтра нам надо выйти пораньше.
Он пожал Китти руку. На ногах он держался твердо, а глаза блестели ярче прежнего.
– Я за вами зайду, – сказал он Уолтеру. – Поведу вас знакомиться с городским головой и с полковником Ю, а потом в монастырь. Да, работы вам здесь хватит.
зз
В ту ночь ее мучили странные сны. Словно ее несут в паланкине, и чувствуется, как его покачивает, потому что носильщики идут размашистым, неровным шагом. Они входили в города, большие и сумрачные, и к ним сбегались толпы любопытных. Улицы были узкие, кривые, а в открытых лавках, полных экзотических товаров, с их появлением прекращалась торговля – и продавцы, и покупатели замирали на месте. Потом они приблизились к мемориальным воротам, и причудливые их очертания внезапно ожили, стали похожи на машущие руки индусского бога, а сверху раздавались отзвуки язвительного смеха. Но тут появился Чарли Таунсенд, обнял ее, поднял с сиденья и сказал, что все это было ошибкой, он совсем не хотел обойтись с ней так дурно, ведь он ее любит и не может без нее жить. Она чувствовала на губах его поцелуи и, плача от счастья, спрашивала, почему же он поступил так жестоко, но, спрашивая, уже знала, что это не имеет значения. А потом раздался хриплый возглас, их разлучили, и между ними торопливо и молча прошли кули в синих лохмотьях – они несли гроб.
Она проснулась от страха.
Их дом стоял на склоне крутого холма, из окна ей была видна узкая река глубоко внизу, а за рекой – город. Только что рассвело, от реки поднимался белый туман, окутавший джонки, причаленные тесно одна к другой, как горошины в стручке. Сотни джонок, беззвучных и загадочных в призрачном свете, словно обитатели их во власти колдовских чар, словно не просто сон, а некто странный и грозный обрек их на эту неподвижность и безмолвие.
Утро разгоралось, и солнце коснулось тумана, так что он засветился белым, как призрак снега на угасающей звезде. На реке уже было светло, стали видны несчетные джонки и густой лес их мачт, но выше, впереди, поднималась непроницаемая светящаяся стена. И вдруг из этого белого облака выступила высокая, массивная, мрачная крепость. Казалось, ее не просто открыло взору всепроникающее солнце – скорее, она возникла из пустоты, по мановению волшебной палочки. Она повисла над рекой, как твердыня жестокого владыки варварского племени. Но волшебник, строивший ее, работал быстро, и вот уже с одной стороны ее увенчала зубчатая стена; а еще через минуту из тумана проглянуло, все в пятнах солнечных бликов, скопище зеленых и желтых крыш. Они казались громадными, не складывались в общий рисунок. Если и образовали узор, то неуловимый для глаза, капризный и замысловатый, но невообразимо прекрасный. То была уже не крепость и не храм, но волшебные чертоги некоего владыки богов, недоступные для смертных. Таким воздушным, сказочным, невещественным не могло быть творение рук человеческих; его породила мечта, сновиденье.
По лицу Китти бежали слезы, а она все смотрела не отрываясь, прижав к груди руки, приоткрыв рот, едва дыша. Никогда еще она не испытывала такой душевной легкости, ей казалось, что тело ее, как сброшенная оболочка, лежит у ее ног, а сама она обратилась в чистейший дух. Перед ней была Красота, и Китти впивала ее, как верующий вкушает облатку, которая есть тело Христово.
34
Уолтер уходил рано утром, позавтракать забегал только на полчаса, а потом возвращался уже вечером, к обеду, так что Китти много бывала одна. Несколько дней она вообще не выходила из дому. Было очень жарко, и большую часть дня она проводила в шезлонге у открытого окна, пытаясь читать. Резкий дневной свет лишил волшебный дворец всякой таинственности, теперь это был просто храм, построенный на городской стене, кричаще яркий и облупленный, но оттого, что однажды она увидела его в таком неземном сиянии, он уже никогда не казался ей совсем обыденным; и нередко на заре или в сумерках, а порой и ночью ей удавалось снова уловить отблеск той красоты. То, что она приняла за неприступную крепость, было всего лишь городской стеной, и эта стена, массивная и темная, снова и снова притягивала ее взгляд. Там, за ее зубцами, лежал город, сжавшись от страха перед смертоносной эпидемией.
Кое-что об ужасах, творившихся там, она знала – не от Уолтера, тот отвечал на ее расспросы (сам он редко с ней заговаривал) с небрежной усмешкой, от которой ее бросало в дрожь, а от Уоддингтона и от своей служанки. Каждый день умирало около ста человек, почти никто из заболевших не выздоравливал; изображения богов вынесли из покинутых храмов и поставили на улицах; им приносили жертвы, но болезнь не внимала молитвам. Люди умирали так быстро, что их едва успевали хоронить. В некоторых домах вымирали целые семьи, и некому было совершать погребальные обряды. Начальник гарнизона был человек решительный и властный, и только благодаря ему город уберегся от грабежей и пожаров. Он заставлял солдат хоронить тех, у кого не осталось родственников, и своими руками застрелил офицера, не решавшегося войти в зараженный дом.
Китти бывало так страшно, что сердце заходилось и ее трясло как в лихорадке. Пусть кто угодно уверяет, что риск невелик, если соблюдать осторожность, – она была в панике. В голове у нее рождались безумные планы бегства. Чтобы вырваться отсюда, она была готова бросить все и одна, в чем была, добираться до какого-нибудь безопасного места. Подумывала о том, чтобы отдаться на милость Уоддингтону, все ему рассказать и умолять помочь ей вернуться в Гонконг. Или броситься в ноги мужу, сказать, как ей страшно, – хоть он теперь ненавидит ее, он же все-таки человек, он должен над ней сжалиться.
