О смерти и умирании
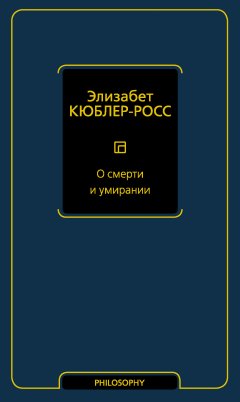
ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда меня спросили, не хочется ли мне написать книгу о смерти и умирающих, я восприняла идею с большим энтузиазмом. Но стоило мне присесть и поразмыслить над тем, во что я ввязалась, как все предстало в совершенно ином свете. С чего начать? Какие материалы включить в книгу? Что я смогу рассказать незнакомым людям, читателям, как мне поделиться с ними опытом общения с умирающими? Это общение происходит большей частью без слов — его нужно ощущать, переживать, видеть. Как передать это словами?
Я работала с умирающими больными последние два с половиной года. Моя книга расскажет о начале этого эксперимента, который в итоге стал для всех его участников важным и поучительным опытом. Это не учебник, посвященный уходу за умирающими, и не исчерпывающий справочник по их психологии. Моя книга — просто документальный отчет о новой и многообещающей возможности увидеть в больном человека, вовлечь его в беседу, узнать от него сильные и слабые стороны обращения с пациентами в наших больницах. Мы попросили больного стать нашим наставником, помочь нам больше узнать о завершающих стадиях жизни со всеми их тревогами, страхами и надеждами. Я просто пересказываю истории своих пациентов, которые делились с нами своими муками, ожиданиями и отчаянием. Я надеюсь, что эта книга поможет нам не отводить глаза от безнадежных больных, а сблизиться с ними, ведь все мы в состоянии оказать им огромную помощь в последние часы жизни. Те редкие люди, кому уже доводилось делать это, понимают, что подобные переживания приносят пользу обоим: они узнали много нового о деятельности разума и об уникальных гранях человеческого существования. Они обогатились этим жизненным опытом и, скорее всего, с меньшим беспокойством относятся к собственной бренности.
ГЛАВА I.
О СТРАХЕ СМЕРТИ
Я не молю Тебя дать мне убежище от бед; дай лишь бесстрашие, чтобы лицом к лицу их встретить.
Я не прошу избавить меня от страданий; дай мужество, чтобы их превозмочь.
Я не ищу союзников в жестокой битве жизни; я собираю собственные силы.
Не дай мне изнывать от страха и тревоги, спасения безвольно ожидая; дай мне надежду и терпение — и я добьюсь свободы.
Не дай мне трусом жить и уповать лишь на Твою спасительную милость; но дай мне ощутить поддержку Твоей руки, когда я буду падать.
Рабиндранат Тагор, «Сбор плодов»
В прошлом эпидемии наносили огромный урон целым поколениям. Смерть в раннем детстве и младенчестве была обычным явлением. Редкая семья не теряла хотя бы одного ребенка. За последние десятилетия уровень медицины резко изменился. Всеобщая вакцинация практически уничтожила множество болезней — во всяком случае в США и Западной Европе. Применение химиотерапии и, в частности, антибиотиков внесло большой вклад в уменьшение смертности от инфекционных болезней. Улучшение образования и медицинской заботы о детях существенно снизили заболеваемость и смертность в раннем возрасте. Покорены многочисленные недуги, которые прежде уносили жизнь миллионов подростков и представителей среднего возраста. Число пожилых людей неуклонно растет, но одновременно возрастает и количество тех, кто страдает злокачественными опухолями и прочими хроническими заболеваниями, связанными, главным образом, с преклонным возрастом. Педиатрам все реже приходится сталкиваться со случаями острых, несущих угрозу жизни осложнений, но в то же время у них увеличивается число пациентов с психосоматическими нарушениями, проблемами поведения и адаптации. В приемных появляется все больше больных с эмоциональными расстройствами; постоянно растет и количество пожилых пациентов, которым приходится не только мириться с возрастными ограничениями и упадком физических возможностей, — они сталкиваются также с тревогами и муками одиночества и изоляции. Большинство этих больных не обращаются к психиатру, поэтому их нужды должны понять и удовлетворить другие специалисты, например социальные работники или священники. Именно им я попытаюсь объяснить, какие перемены произошли за последние десятилетия — перемены, вследствие которых усилился страх смерти, возросла частота эмоциональных расстройств, увеличилась потребность в сопереживании и помощи перед лицом умирания и смерти.
Оглядываясь в прошлое, изучая древние культуры и народы, мы обнаруживаем, что смерть всегда была для человека отвратительной — и, похоже, останется такой в будущем. С точки зрения психиатра это вполне понятно и, вероятно, лучше всего объясняется основополагающим представлением о том, что наше подсознание считает собственную смерть совершенно невозможной. Оно, подсознание, просто не в силах представить себе прекращение своего существования на земле. Если нашей жизни и суждено оборваться, то такая гибель неизменно приписывается какому-то злонамеренному вмешательству со стороны. Говоря проще, наше подсознание в лучшем случае способно допустить, что нас убьют, но смерть от естественных причин или от старости остается непостижимой. Таким образом, смерть ассоциируется у людей со злодеянием, пугающей неожиданностью, чем-то таким, что само по себе призывает к возмездию и наказанию.
Помните об этих фундаментальных фактах, поскольку они чрезвычайно существенны для понимания самых важных — и в противном случае остающихся неясными — подробностей общения с нашими пациентами.
Следующий факт, который мы должны усвоить, заключается в том, что на подсознательном уровне мы не способны отличить желание от поступка. Каждый помнит примеры тех нелогичных сновидений, где бок о бок сосуществуют два совершенно противоположных утверждения. В сновидении это не кажется чем-то особенным, но в состоянии бодрствования становится немыслимым и алогичным. Подсознание не в силах различить желание убить кого-то в приступе ярости и само действие, настоящее убийство. Ребенок тоже не способен провести такое различие. Рассерженный малыш, втайне желающий матери смерти за то, что она не исполнила его капризы, перенесет тяжелейшую травму, если мать действительно умрет — пусть даже это событие не совпадет по времени с разрушительным пожеланием. Он навсегда возложит ответственность за смерть матери на себя. Он будет постоянно твердить себе (а изредка и другим): «Это я сделал, я виноват. Я вел себя плохо, и мама ушла». Следует помнить, что ребенок реагирует точно так же, когда расстается с кем-то из родителей в результате развода или отчуждения. Смерть часто кажется ему состоянием временным, то есть ребенок почти не отличает ее от развода, даже если время от времени имеет возможность встречаться с «ушедшим» отцом или матерью.
Многие родители могут вспомнить примечательные высказывания своих детей, например: «Сегодня мы похороним нашу собачку, а весной, когда появятся цветы, она снова оживет». Возможно, такими же надеждами руководствовались древние египтяне, снабжавшие своих усопших едой и вещами, и индейцы, которые хоронили родственников со всеми пожитками.
Когда мы взрослеем и начинаем понимать, что не так уж всемогущи, что даже самого сильного желания не достаточно, чтобы сделать возможным невозможное, страх того, что мы каким-то образом причастны к смерти любимого человека, постепенно слабеет, а вместе с ним угасает и чувство вины. Однако этот страх продолжает тлеть и не проявляется лишь до тех пор, пока мы вновь не столкнемся с горькими переживаниями. Следы этого ужаса можно ежедневно видеть в больничных коридорах, на лицах тех, кто потерял своих близких.
Муж с женой могут скандалить годы напролет, но, когда один из супругов умирает, оставшийся в живых рвет на себе волосы, заламывает руки, стонет и рыдает от горя, страха и скорби. С этого мгновения он начинает еще сильнее бояться собственной смерти, так как верит в закон воздаяния: око за око, зуб за зуб. «Я виновен в ее гибели, и в наказание мне суждено умереть страшной смертью».
Возможно, эти факты помогут нам понять множество давних обычаев и обрядов, которые сохранялись на протяжении веков. Их смысл — уменьшить гнев богов или людей, общества, смягчить предстоящее наказание. Я имею в виду посыпание головы пеплом, разорванные одежды, траурные вуали и стенания скорбящего — все это означает просьбу пожалеть их, выражает горе, мучение и стыд. Когда оставшийся в живых заламывает руки, рвет на себе волосы или отказывается от еды, его поведение отражает попытку наказать самого себя и тем самым избежать предполагаемой кары за смерть близкого человека.
Скорбь, стыд и чувство вины не так уж далеки от ощущений гнева и обиды. Печаль всегда подразумевает определенные признаки рассерженности. Поскольку никто из нас не желает признаваться в том, что сердится на покойного, эти чувства обычно тщательно скрывают и подавляют, увеличивая срок траура или проявляя их иными способами. Не нам осуждать подобные чувства, расценивать их как дурные или постыдные. Наша задача заключается в том, чтобы понять подлинные причины и смысл этих очень человеческих реакций. Чтобы пояснить это, я вернусь к примеру ребенка — ребенка, который кроется в душе любого человека. Пятилетний малыш, потерявший мать, обвиняет в ее уходе себя, но в то же время сердится на нее за то, что она исчезла и уже не исполняет его желания. Таким образом, покойный человек одновременно вызывает у ребенка равные по силе любовь и ненависть за такое жестокое наказание.
Древние евреи считали тело усопшего чем-то нечистым, к нему нельзя было прикасаться. Американские индейцы стреляли в небо из луков, чтобы отогнать прочь злых духов. Во многих культурах существовали обряды, призванные ублажить «злонамеренных» покойников. Источником всех таких ритуалов был гнев, который до сих пор кроется в каждом из нас, хотя мы и не любим это признавать. Традиция установки надгробий вполне могла основываться на желании удержать злых духов под землей. Камни, которые в наши дни скорбящие укладывают на могилу покойного, представляют собой пережитки того же стремления, его символическое отражение. Хотя мы привыкли называть стрельбу из ружей на военных похоронах прощальным салютом, это такой же символический обряд, какой отправляли индейцы, когда пускали в небо стрелы и копья.
Я привожу эти примеры, чтобы подчеркнуть одну мысль: по сути своей человек ничуть не изменился. Смерть до сих пор остается для него пугающим, отталкивающим событием, а страх смерти — всеобщим явлением, даже если нам кажется, что мы почти избавились от него.
Изменилось кое-что другое: то, как мы ведем себя перед лицом смерти и умирания, перед лицом наших умирающих пациентов.
Я выросла в европейской провинции, где наука была еще мало развита, современные технологии только начали прокладывать себе путь в медицину, а люди жили так же, как полстолетия назад. Возможно, благодаря этому мне выдалась возможность быстрее других изучить определенную грань развития человечества. Мне вспоминается смерть одного крестьянина, свидетелем которой я стала в раннем детстве. Он упал с дерева и смертельно поранился. Он был обречен. Крестьянин попросил, чтобы ему дали возможность умереть в собственном доме, и это желание исполнили безоговорочно. Когда его уложили в спальне, он вызвал к себе дочерей и переговорил с каждой из них наедине. Затем он, несмотря на сильные боли, спокойно уладил текущие дела, распределил имущество и землю, наказав при этом не проводить раздела земель, пока будет жива его жена. Кроме того, крестьянин попросил всех своих детей разделить между собой заботы, обязанности и дела, которыми до несчастного случая занимался он сам. Наконец, он попросил друзей посетить его еще раз, чтобы попрощаться с каждым. Хотя я была тогда совсем маленькой, он не требовал, чтобы меня и моих сверстников увели из дома. Нам позволили принять участие в подготовке к неминуемому и вместе со всеми горевать о случившемся, пока крестьянин не скончался. Его тело оставили в доме, который он построил собственными руками. Друзья и соседи приходили, чтобы в последний раз взглянуть на покойного, а он, усыпанный цветами, ждал их в том месте, где жил и которое так любил. В тех местах и сегодня нет надуманных залов для последнего прощания, там не пользуются бальзамированием и фальшивым гримом, призванным создавать иллюзию сна. Если болезнь оставила на теле неприглядные отметины, его просто прикрывают повязками. Тело выносят из дома до погребения только при угрозе инфекционного заражения.
Зачем я описываю такие «старомодные» обычаи? Думаю, они указывают на способность смириться с неизбежным концом, помогают и умирающему, и его семье свыкнуться с потерей близкого человека. Если больному разрешают расстаться с жизнью в знакомой, приятной обстановке, это причиняет ему меньше душевных мук. Домашние прекрасно знают его привычки, они понимают, что успокоительное иногда можно заменить стаканом любимого вина, а аппетитный аромат супа может вызвать у него желание проглотить несколько ложек жидкости — что, на мой взгляд, намного приятнее, чем внутривенное вливание. Я не пытаюсь приуменьшить значение успокаивающих препаратов и капельниц. Благодаря личному опыту работы сельским врачом я прекрасно понимаю, что эти средства нередко спасают жизнь и временами совершенно незаменимы. Но я знаю и другое: заботливые, знакомые люди и домашняя пища могут заменить десяток капельниц, которые ставят больному только потому, что внутривенное питание удовлетворяет все его физиологические потребности и не отнимает много времени у медсестры.
Когда детям позволяют оставаться в доме обреченного, участвовать в разговорах и обсуждениях, ощущать тревоги взрослых, у ребенка возникает чувство, что он не одинок в своем горе. Это чувство приносит утешение разделенной ответственности и общей скорби, постепенно готовит ребенка к неминуемому, помогает воспринимать смерть как часть жизни, а такой опыт обычно способствует взрослению и развитию.
Полной противоположностью становится общество, где смерть считается темой запретной, разговоры о ней воспринимаются болезненно, а детей полностью изолируют от подобных вопросов под тем предлогом, что для них это «слишком серьезно». Детей чаще всего отправляют к родственникам, нередко сопровождая такое решение неубедительной ложью («Мама уехала далеко и вернется не скоро»). Ребенок чувствует подвох, и его недоверие к взрослым лишь усиливается, когда другие родственники дополняют неправдоподобные выдумки новыми подробностями, избегают подозрительных вопросов либо осыпают малыша подарками — скудными заменителями потери, которую ему не позволяют осмыслить. Рано или поздно ребенок осознает перемены в жизни семьи и, в зависимости от возраста и характера, либо предается безутешной скорби, либо воспринимает случившееся как пугающий и загадочный (но в любом случае травмирующий) произвол не заслуживающих доверия взрослых, с которыми он не в силах тягаться.
В равной степени неблагоразумно убеждать потерявшую брата девочку в том, что Господь очень любит маленьких мальчиков и потому забрал Джонни на Небеса. Малышка выросла, стала женщиной, но ей так и не удалось избавиться от гнева на Бога. Три десятилетия спустя, когда она потеряла собственного сына, это привело к психотической депрессии.
Можно было бы предполагать, что широкая эмансипация, достижения науки и познания о человеке должны предоставить нам больше возможностей для подготовки себя и своей семьи к неизбежным трагедиям; однако давно миновали те дни, когда человеку позволяли спокойно, с достоинством умереть в собственном доме.
Похоже, чем больших успехов добивается наука, тем сильнее мы боимся, тем яростнее отвергаем достоверность явления смерти. Почему так получилось?
Мы пользуемся иносказаниями, мы придаем покойным внешний вид спящих, мы отсылаем детей к родственникам, чтобы оградить их от тревог и страданий, которые царят в доме, если больному посчастливится умирать именно там. Мы не позволяем детям навещать умирающих родителей в больницах, мы ведем многословные и противоречивые дискуссии о том, следует ли говорить обреченным пациентам правду — но такой вопрос редко возникает, если об умирающем заботится семейный врач, который наблюдает больного с рождения до самой смерти и к тому же прекрасно знает сильные и слабые стороны характера всех членов его семьи.
Думаю, есть много причин, почему мы избегаем открыто и хладнокровно смотреть в лицо смерти. Один из важнейших фактов заключается в том, что сегодня процесс смерти стал намного ужаснее, он связан с одиночеством, механичностью и бесчеловечностью. Временами мы даже не можем точно определить, когда именно наступил момент смерти.
Смерть тесно связана с одиночеством и обезличенностью, так как больного нередко извлекают из привычного окружения и спешно переносят в реанимацию. Любой, кому довелось пережить тяжелую болезнь и кто нуждался в те минуты в покое и удобствах, может вспомнить, что он чувствовал, когда его укладывали на носилки и торопливо везли под вой сирены к воротам больницы. Только те, кто испытал это, могут в полной мере оценить неудобства и бездушную поспешность подобной перевозки, которая становится лишь предвестием последующих мучений. Это трудно выдержать даже здоровому человеку, что же касается больного, то он просто не в силах выразить словами, как трудно ему перенести шум, тряску, мелькание огней и громкие голоса. Быть может, нам пора разглядеть под грудой одеял и простыней самого человека, прекратить погоню за эффективностью и вместо этого просто подержать больного за руку, улыбнуться ему или ответить на простой вопрос. Часто бывает, что поездка в «скорой помощи» становится первым этапом процесса смерти. Я умышленно преувеличиваю рассказ о ней, противопоставляя его истории больного, которого оставили дома. Это совсем не значит, что не нужно бороться за жизнь человека, если его можно спасти только в больнице, — просто нам всегда следует удерживать в центре внимания переживания пациента, его потребности и реакции.
Когда человек тяжело болен, к нему часто относятся так, будто он лишен права на личное мнение. Кто-то другой принимает решения о том, стоит ли отправлять его в больницу, как и когда это сделать. Неужели так трудно помнить о том, что у больного человека тоже есть чувства, желания, мнения и, самое главное, право на то, чтобы его выслушали.
Итак, наш предполагаемый больной уже попал в реанимационную палату. Там его окружают озабоченные медсестры, санитары, интерны и ординаторы. Один лаборант берет анализы крови, другой снимает электрокардиограмму. Пока больного просвечивают рентгеновскими лучами, он слышит над головой мнения о собственном состоянии, оживленные споры и вопросы, адресованные членам семьи. С ним постепенно начинают обращаться как с неодушевленной вещью. Он уже не личность, решения принимаются без его участия. Если же он попытается возмущаться, ему просто дадут успокоительное. После долгих часов ожидания, когда он уже лишается последних сил, пациента перевозят на каталке в операционную или палату интенсивной терапии, где он становится предметом пристального внимания и выгодного капиталовложения.
Он может молить о покое, отдыхе и сохранении собственного достоинства, но, если необходимо, ему все равно сделают вливания, переливания, искусственное кровообращение или трахеотомию. Тщетно он будет просить, чтобы один-единственный человек отвлекся на одну-единственную минуту и ответил на один-единственный вопрос, — добрый десяток суетящихся вокруг специалистов будет деловито следить исключительно за частотой пульса, электрокардиограммой или лёгочными функциями, показателями секреции и экскреции, то есть заботиться о жизнедеятельности, а не о живом, человеке. У больного может возникнуть желание остановить их, но сопротивляться бессмысленно, ведь все делается ради спасения его жизни. Когда сохранишь пациенту жизнь, можно подумать и о его личности, но, если думать прежде о личности, упустишь драгоценное время и не сможешь спасти жизнь! Во всяком случае, такими рациональными доводами оправдывают подобное поведение, но в том ли подлинные причины? Не объясняется ли этот механический, обезличенный подход нашим стремлением оградить себя от смерти? Быть может, таким способом мы пытаемся подавить тревогу, которую пробуждает в нас вид обреченного человека или больного в критическом состоянии? Сосредоточенность на приборах и давлении крови может означать отчаянные попытки отвернуться от надвигающейся смерти, мысль о которой так пугает, так беспокоит, что мы переносим все свое внимание на машины, ведь они не вызывают бурных чувств — в отличие от искаженного страданиями лица другого человека, в очередной раз напоминающего нам о том, что мы не всемогущи, что у наших возможностей есть границы, а последней и самой главной из них остается, судя по всему, наша собственная смерть!
Вероятно, пора задаться вопросом: какими мы становимся, более человечными или более бездушными? Эта книга не призвана давать нравственные оценки, но, каким бы ни был ответ на поставленный вопрос, вполне очевидно, что в наши дни больной страдает больше — если не физически, то эмоционально. За последние столетия его желания ничуть не изменились, изменилось лишь наше умение их исполнять.
ГЛАВА II.
ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ И УМИРАЮЩИМ
Люди жестоки, но человек добр.
Тагор, «Отбившиеся птицы»
Влияние общества на отношение к смерти
Прежде мы говорили о личном отношении человека к смерти и умирающим. При взгляде на общество в целом возникает целый ряд вопросов. Что происходит с человеком в том обществе, где принято избегать темы смерти? Какие факторы усиливают тревожное восприятие смерти? Что творится в постоянно меняющейся области медицины? Что, наконец, представляет собой сама медицина — гуманное почетное занятие или современную, но обезличенную науку, которая ставит перед собой задачу продления жизни, а не избавления человека от мучений? Студенты-медики имеют возможность выбора среди десятков лекций о ДНК и РНК, но практически не получают знаний об основах взаимоотношений между врачом и больным, которые когда-то были азбучными истинами для любого уважающего себя семейного врача. Что происходит в обществе, где коэффициент умственного развития и общественное положение важнее, чем тактичность, чуткость, восприимчивость и хороший вкус, которые облегчают чужие страдания?
В профессиональной сфере начинающий студент-медик завоевывает признание коллег своими исследованиями и лабораторными работами, проводимыми на протяжении первых лет после окончания института, но он не может найти нужные слова, когда больной задает ему простейшие вопросы. Если бы удалось сочетать последние достижения науки и технологии с таким же вниманием к человеческим взаимоотношениям, мы действительно могли бы сделать огромный шаг вперед, но пока что новые знания передаются студентам за счет деградации личного общения. Во что превратится общество, которое уделяет основное внимание не личности, а статистическим показателям и общей массе? В наши дни мединституты стремятся расширять количество учащихся и неуклонно уменьшают часы личного общения преподавателей со студентами: живых наставников заменяет замкнутая цепь телевизионных занятий, магнитофонных лент и видеофильмов, которые позволяют обучать большее число студентов почти обезличенным способом.
В других сферах человеческого общения перенос центра внимания с личности на общую массу оказался еще радикальнее. Оценивая происшедшие за последние десятилетия перемены, мы заметим проявления этого повсюду. В старину человек имел возможность встретиться со своим врагом лицом к лицу. У него было немало шансов на личное столкновение с видимым противником. Теперь и солдатам, и гражданским приходится принимать во внимание оружие массового уничтожения, лишающее возможности не только увидеть угрозу, но и ощутить ее приближение. Смерть может обрушиться как гром среди ясного неба и, подобно сброшенной на Хиросиму атомной бомбе, мгновенно унести тысячи жизней. Гибель может явиться в облике отравляющего газа или другой формы химического оружия — незримой, калечащей, убивающей. Уже нет личности, которая борется за свои права, убеждения, честь или безопасность семьи, — есть только прямо или косвенно втянутый в войну и лишенный шансов на выживание народ, в том числе женщины и дети. Вот тот вклад, который наука и технология внесли в неуклонно возрастающий страх уничтожения, смерти.
Удивительно ли, что человеку приходится укреплять свою защиту? Если у него остается все меньше возможностей уберечь себя физически, то, разумеется, многократно усиливается психологическая защита. Он не может вечно отрицать неизбежное. Он не в силах постоянно притворяться, что ему ничто не угрожает. Если же мы не в состоянии отрицать смерть, остается попытаться обрести власть над ней. Мы присоединяемся к бесконечным гонкам на автострадах, а затем просматриваем в газетах статистику жертв несчастных случаев и мысленно содрогаемся — но одновременно втайне и радуемся: «Не я, а другой. Пронесло».
Разнообразные группы людей, от уличных банд до целых народов, могут воспользоваться принадлежностью к группе, чтобы выразить свой страх перед уничтожением особым способом: нападая на другие группы и уничтожая их. Быть может, война — просто проявление потребности встретиться со смертью лицом к лицу, покорить ее, выйти из этого поединка живым, то есть причудливая форма отрицания собственной смертности? Один из наших пациентов, умиравший от лейкемии, с искренним неверием произнес: «Как я могу умереть? Господь не допустит этого, ведь я выжил даже во Второй мировой, когда пули свистели в считанных сантиметрах от меня».
Другая женщина выразила свое потрясение и неверие, рассказывая о «несправедливой смерти» молодого человека, только что вернувшегося из Вьетнама и погибшего в дорожной аварии, — словно способность выжить на поле боя должна была застраховать его от несчастных случаев.
Шанс на сбережение мира может быть обнаружен в отношении к смерти глав государств, тех людей, которые принимают окончательные решения о войне или мире между народами. Если бы все мы предприняли искреннюю попытку хладнокровно обдумать собственную смерть, совладать с окружающими тему смерти тревогами и помочь остальным свыкнуться с подобными мыслями, в нашем мире, возможно, стало бы меньше разрушительных сил.
Информационные агентства могли бы внести существенный вклад в новый подход и помочь людям открыто взглянуть в глаза смерти, если бы избегали безличных оборотов — скажем, перестали называть «формой решения еврейского вопроса» уничтожение миллионов мужчин, женщин и детей либо «захватом высоты во Вьетнаме, во время которого было уничтожено пулеметное гнездо, а вьетконговцы понесли тяжелые потери» — человеческие трагедии и гибель живых людей с обеих воюющих сторон. В газетах и прочих средствах массовой информации очень много образчиков подобного бездушного языка.
Итак, стремительное развитие техники и достижения современной науки позволили человеку открыть не только новые возможности, но и новые виды оружия массового уничтожения, которые, как я убеждена, усиливают страх жестокой, катастрофической смерти. Человеку приходится самыми разнообразными способами психологически защищать себя от этого возросшего страха смерти и невозможности предвидеть такую гибель, уберечься от нее. С психологической точки зрения, мы еще какое-то время способны отрицать достоверность собственной смерти. Подсознание не в силах представить себе прекращение собственного существования, оно уверено в бессмертии своей личности, но без труда мирится с гибелью соседа. Новости о многочисленных жертвах войны и несчастных случаев лишь укрепляют нашу убежденность в собственном бессмертии, позволяют нам втайне, в уединенном уголке подсознания радоваться тому, что «вот он, следующий, но это не я».
Если же отрицать смерть уже невозможно, мы пытаемся покорить ее, бросить ей вызов. Если человек носится по шоссе на высокой скорости либо возвращается домой из Вьетнама, у него действительно возникает ощущение бессилия смерти. Почти ежедневно мы узнаем из новостей, что убиваем в десять раз больше врагов, чем теряем своих солдат. Неужели это наше самое заветное желание, проекция инфантильного стремления к всемогуществу и бессмертию? Если целый народ, целое государство страдает от страха смерти и отрицает ее как явление, ему приходится прибегать к определенным защитным механизмам, и механизмы эти могут быть только разрушительными. Войны, восстания, рост убийств и прочих преступлений могут служить признаками ослабления нашей способности смотреть в лицо смерти со смирением и достоинством. Может быть, нам пора вернуться к отдельной личности, живому человеку, и начать все сначала: попытаться представить себе собственную смерть, научиться открыто встречать это печальное, но неизбежное событие, избавившись от своего иррационального страха.
Какую роль в эти изменчивые времена играет религия? В прошлом намного больше людей не сомневалось в существовании Бога. Они верили в загробную жизнь, избавлявшую человека от мучений и боли. На небесах людей ждала награда, и если они страдали тут, на земле, то после смерти получали воздаяние в соответствии с мужеством и милосердием, терпением и достоинством, с какими влачили свое бремя. Самих мучений в старину было намного больше, ведь роды тогда оставались естественным, долгим и болезненным событием — но, когда ребенок появлялся на свет, мать встречала его в полном сознании. У страданий был смысл, они должны были вознаграждаться в будущем. Сегодня, в попытках избавить рожениц от боли и агонии, мы даем им успокаивающие средства. Мы можем даже приурочить роды ко дню рождения члена семьи либо, наоборот, сделать так, чтобы они не совпали с другими важными событиями. Многие матери приходят в себя лишь через несколько часов после рождения младенца, но и тогда женщины слишком одурманены наркозом, чтобы порадоваться появлению ребенка на свет. В муках уже нет большого смысла, так как лекарства способны избавить человека от болей, зуда и прочих неприятных ощущений. Уже давно растаяла вера в то, что за земные муки нас ждет награда на небесах. Страдания потеряли свое значение.
Однако, наряду с этими переменами, все меньше людей по-настоящему верят в жизнь после смерти, что само по себе указывает, вероятно, на неверие в собственную смертность. Поскольку у нас уже нет надежд на загробную жизнь, приходится задумываться о смерти. Мы не ждем вознаграждения за муки, и потому страдания становятся бессмысленными. Если мы участвуем в церковных мероприятиях только ради общения либо танцев, значит, церковь лишилась изначального предназначения: вызывать надежду, придавать смысл земным трагедиям, подводить к пониманию необъяснимых и мучительных событий.
Религия потеряла много тех, кто верил в жизнь после смерти, то есть в бессмертие, и в этом смысле, как ни парадоксально, уменьшила страх смерти — в отличие от общества, которое его усилило. С точки зрения смертельно больного, это был невыгодный обмен. Религиозное отрицание смерти, то есть вера в осмысленность земных страданий и награду после смерти, приносило надежду и понимание, а общественное отрицание не предложило ни того, ни другого, Оно лишь усилило тревогу, укрепило разрушительное и агрессивное стремление: убивать, чтобы уйти от действительности и забыть о собственной смертности.
Каким станет будущее? По всей видимости, в обществе возрастет количество людей, чья жизнь будет поддерживаться искусственными заменителями важнейших органов и компьютерами, время от времени проверяющими, не нужно ли заменить электронными устройствами другие физиологические функции. Увеличится число центров, где будут накапливаться необходимые технические данные; когда больной испустит последний вздох, мигающая лампочка покажет, что оборудование следует отключить.
Получат распространение и другие центры, где умерших будут быстро замораживать и размещать в специальных сооружениях в ожидании того дня, когда наука и технологии станут достаточно развитыми, чтобы разморозить тела и вернуть их к жизни в обществе. Что касается общества, то оно к тому времени может оказаться настолько перенаселенным, что только особые комиссии будут решать, сколько людей можно разморозить. В наши дни подобные комиссии определяют, кто из больных получит дефицитный орган для пересадки, а кто будет обречен на смерть.
Эта картина может выглядеть ужасной, невероятной, но, к сожалению, все это начинается уже сегодня. В нашей стране нет законов, которые запретили бы предприимчивым людям зарабатывать деньги на страхе смерти, воспрепятствовали бы авантюристам рекламировать и продавать за огромные деньги возможность продолжения жизни после долголетнего замораживания. Такие организации уже существуют, и хотя мы вроде бы шутим на тему, имеет ли право вдова замороженного человека получить страховку или снова выйти замуж, эти вопросы в действительности слишком серьезны, чтобы не обращать на них внимания. По существу, они отражают фантастически глубокое отрицание, до которого опускаются некоторые люди, не желающие открыто взглянуть в лицо смерти. Похоже, пришло то время, когда представители всех профессий и религиозных взглядов должны сообща задуматься об этом, иначе общество окончательно омертвеет и само уничтожит себя.
Теперь, после того, как мы бросили взгляд в прошлое, когда человек встречал смерть хладнокровно, и в довольно пугающее будущее, пора вернуться к настоящему и очень серьезно задуматься о том, что можем сделать мы как личности. Очевидно, что мы не в силах изменить тенденцию к повышению важности числовых показателей, так как в нашем обществе царят массы, а не личности. Группы в мединститутах продолжают расширяться, нравится нам это или нет. Будет увеличиваться и число машин на автострадах, и количество людей, чья жизнь поддерживается приборами, — чтобы понять это, достаточно оценить достижения кардиологии и сердечной хирургии.
Так или иначе, мы не можем вернуться в прошлое. Мы не можем обеспечить каждому ребенку поучительный опыт простой сельской жизни с ее близостью к природе и ощущением естественного круговорота рождений и смертей. Духовным пастырям едва ли удастся вернуть большую часть людей к вере в загробную жизнь, которая придала бы смерти какой-то смысл, пусть даже ценой определенного отрицания смертности.
Мы не можем закрывать глаза на существование оружия массового уничтожения. Возвращение в прошлое невозможно. Наука и технология позволят нам заменять все больше жизненно важных органов, и потому важность вопросов, связанных с жизнью, смертью, донорами и реципиентами многократно возрастет. Нынешние и грядущие поколения столкнутся с множеством юридических, моральных, этических и психологических трудностей. Нашим потомкам придется все чаще решать вопросы жизни и смерти — быть может, до тех пор, пока и эти решения не начнут принимать компьютеры.
Хотя каждый человек находит свои способы отложить мысли о подобных проблемах, пока судьба не ставит его перед острой необходимостью их решать, он сможет что-либо изменить только после того, как начнет задумываться о собственной смерти. Это невозможно сделать на уровне общей массы. Это не по силам компьютеру. Каждый человек должен сделать это сам. Каждый из нас хотел бы избежать этой проблемы, но рано или поздно всем приходится с ней столкнуться. Если бы все мы начали с размышлений о возможности собственной смерти, последствия таких раздумий повлияли бы на все сферы нашей жизни и, самое главное, на благополучие наших пациентов, семей и, наконец, народа в целом.
Подлинный прогресс наступит, когда мы начнем обучать студентов не только значению научных технологий, но и искусству человеческих взаимоотношений, заботы о человеке вообще и о больном в частности. О великом обществе можно будет говорить, если мы перестанем злоупотреблять наукой и технологиями, направлять их на разрушение и заменять человечность средствами продления жизни. Тогда научные достижения позволят нам освободить больше времени для личного общения, соприкосновения человека с человеком.
Открыто встречая неизбежность собственной смерти, смиряясь с ней, мы наконец-то сможем достичь мира — и душевного покоя, и мира между народами.
Примером сочетания медицинских, научных достижений и человечности может служить описанная ниже история болезни г-на П.
В возрасте пятидесяти одного года г-н П. попал в больницу с быстро развивающимся амиотрофическим латеральным склерозом, затрагивающим продолговатый мозг. Он не мог самостоятельно дышать, страдал от мокроты в легких, а после трахеотомии у него возникла инфекционная пневмония. Из-за воспаления легких он потерял способность говорить. Лишенный возможности высказать свои потребности, мысли и чувства, больной просто лежал в постели и слушал пугающий шум аппарата для искусственного дыхания. Мы, вероятно, никогда не услышали бы о нем, если бы к нам не обратился за помощью один из его лечащих врачей. Он пришел к нам в пятницу и попросил поддержки. Он имел в виду не столько пациента, сколько самого себя. Слова врача выражали чувства, о каких редко говорят вслух. Став лечащим врачом г-на П., он был потрясен его страданиями. Пациент был сравнительно молод, а характер его неврологического заболевания требовал огромного внимания и заботы медсестер, хотя это, к сожалению, могло продлить его жизнь лишь на короткий срок. У жены больного был рассеянный склероз, и в течение последних трех лет она была полностью парализована. Больной мечтал умереть, так как с ужасом думал о двух парализованных в доме, когда один вынужден просто смотреть на мучения другого, не в силах ему помочь.
Эта двойная трагедия вызвала у врача большую тревогу и решительное стремление спасти пациенту жизнь «независимо от его состояния». В то же время врач прекрасно понимал, что это противоречит желанию самого больного. Его усилия были успешными, несмотря на развитие коронарной непроходимости, которая существенно осложнила течение болезни. Доктор справился и с этой трудностью, и с пневмонией, но когда пациент начал оправляться от осложнений, возник вопрос: что делать теперь? Больной мог жить только с помощью искусственного дыхания, под круглосуточным надзором. Он не мог говорить и даже пошевелить пальцем, но при этом полностью сохранял рассудок и прекрасно сознавал, насколько плачевно его состояние. Врач быстро заметил явный скептицизм больного в отношении попыток спасти его жизнь. Больше того, он понял, что пациент рассержен этими попытками. Что оставалось делать врачу? Кстати, он уже просто не мог ничего изменить. Он сделал все возможное, чтобы продлить пациенту жизнь, но теперь, когда это удалось, больной проявлял только осуждение (нарочитое или неподдельное) и гнев.
Мы попытались разрешить проблему в присутствии самого больного, так как он был важнейшей частью происходящего. Когда мы изложили ему причины нашего прихода, г-н П., похоже, заинтересовался этой мыслью. Он был явно удовлетворен тем, что мы ведем разговор в его присутствии, то есть, несмотря на неспособность говорить, считаем его полноценным человеком. Описывая проблему, я предложила ему кивнуть головой или подать нам какой-то другой знак, если ему не хочется обсуждать эту тему. Его взгляд был красноречивее слов. Он явно пытался сказать что-то еще, и мы принялись искать средства, которые позволили бы ему высказаться. Лечащий врач, который с облегчением разделил с нами свое бремя, проявил большую изобретательность: он ненадолго отключал трубку дыхательного аппарата, так что больной успевал произнести на выдохе несколько слов. Во время таких бесед всех захлестнул целый поток чувств. Больной особо подчеркивал, что боится не умереть, а продолжать жить. Он прекрасно понимал положение врача, но потребовал от него, чтобы тот «помог мне жить на этом свете, где так решительно старался меня удержать». После этих слов больной улыбнулся; улыбнулся и врач.
Когда врач и пациент смогли поговорить друг с другом, атмосфера разрядилась. Я описала противоречивые побуждения врача, и больной посочувствовал ему. Затем я спросила, чем мы можем помочь ему сейчас. Он объяснил, что впал в отчаяние, когда потерял способность говорить, писать и хоть как-то общаться. Он был очень благодарен нам за несколько минут совместных усилий, позволивших всем поговорить, — это принесло ему облегчение на несколько последующих недель. Во время нашей следующей встречи я заметила, с каким удовольствием больной рассуждает о возможной выписке и переезде на Западное побережье, «если, конечно, мне удастся найти там дыхательный аппарат и сиделку».
Этот пример показывает, в какие трудные положения попадают многие молодые врачи. Они изучают способы продления жизни, но очень редко обсуждают определение понятия «жизнь». В описанном случае больной достаточно обоснованно полагал, что он «мертв, если не считать головы». Трагедия заключалась именно в том, что он полностью сознавал свое состояние, но не мог и пальцем пошевелить. Если трубка дыхательного аппарата причиняла ему боль, он не мог сообщить об этом сиделке, которая была рядом круглосуточно, но так и не придумала способа общения с пациентом. Мы слишком легко миримся с тем, что «тут уже никто не поможет», и сосредоточиваем внимание на приборах, а не на выражении лица больного, которое может рассказать намного больше, чем самое совершенное устройство. Когда у пациента возникает зуд, а он не может пошевелиться и почесаться, обездвиженность целиком занимает его мысли, беспокойство становится паническим и доводит его до «грани безумия». После того, как наши пятиминутные разговоры стали регулярными, больной заметно успокоился, а мелкие неудобства уже не так ему досаждали.
Кроме того, беседы избавили врача от сомнений, сожалений и чувства вины. Убедившись, что это откровенное и простое общение приносит большое облегчение и утешение, он начал проводить разговоры самостоятельно, а мы просто играли роль первоначального катализатора.
Я твердо убеждена, что такими и должны быть взаимоотношения врача и пациента. Я не думаю, что всякий раз, когда они не могут найти общего языка, когда врач не может или не хочет обсуждать с больным самые важные вопросы, необходимо прибегать к помощи психиатра. Помимо того, я считаю, что молодой врач проявил большое мужество и настоящую зрелость, когда признал существование проблемы и обратился за помощью — вместо того чтобы избегать и возникшей трудности, и общения с пациентом. Задача заключается не в том, чтобы найти специалистов по работе с умирающими больными, а в том, чтобы подготовить работников больниц к подобным трудностям, научить их самостоятельно находить решения. Я уверена, что молодой врач из нашего примера уже не испытает былых мучений и трудностей, когда столкнется с подобным случаем в следующий раз. Он постарается остаться врачом и сохранить больному жизнь, но в то же время примет во внимание потребности пациента, откровенно обсудит их с ним. Для нашего пациента, который оставался личностью, мысль о продолжении жизни была нестерпимой лишь потому, что он не мог пользоваться привычными способностями. Совместными усилиями больному можно вернуть многие из этих способностей, если, конечно, нас не отпугнет первоначальная встреча с беспомощной и страдающей личностью. Говоря иными словами, мы можем облегчить им смерть, стараясь помочь им жить, а не вести нечеловеческий, растительный образ жизни.
Возникновение междисциплинарного семинара, посвященного смерти и умирающим
В конце 1965 года четыре студента богословия из Чикагской теологической семинарии обратились ко мне с просьбой помочь им в одном исследовании. Их группе предложили написать курсовые работы на тему «Кризис в человеческой жизни», и эти четверо решили, что смерть является самым серьезным кризисом, с каким только доводится столкнуться человеку. Возник естественный вопрос; как изучать смерть, если данные о ней невозможно получить? Как удостовериться в скудных сведениях, ведь их нельзя опробовать опытным путем? Мы провели несколько встреч и пришли к выводу, что лучший способ исследования смерти заключается в том, чтобы попросить смертельно больных стать нашими учителями. Мы могли бы наблюдать за ними, изучать их реакции и нужды, оценивать впечатления окружающих и, в целом, сблизиться с умирающими настолько, насколько они это позволят.
Мы решили провести беседу с умирающим уже на следующей неделе, оговорили время и место. Тогда этот замысел казался нам очень простым. Поскольку у студентов семинарии не было медицинской подготовки, а в прошлом им не доводилось видеть смертельно больных в больничной обстановке, мы ожидали от них определенного эмоционального отклика. Предполагалось, что беседу проведу я, а они будут просто стоять вокруг койки, наблюдая за происходящим. После этого мы собирались отправиться в мой кабинет и обсудить там собственные впечатления и реакцию больного. Мы полагали, что несколько таких бесед позволят нам узнать, что чувствуют умирающие, и понять их нужды, которые мы намеревались затем по возможности удовлетворить.
У нас не было никаких предвзятых мыслей, мы даже не прочитали ни одной статьи на эту тему, так как хотели воспринимать все непредубежденно и отмечать в записях только то, что заметили своими глазами. Исходя из тех же соображений, мы решили не заглядывать в историю болезни пациента, так как эти сведения тоже могли исказить наши наблюдения. Мы не пытались гадать, как могут отреагировать на разговор больные. С другой стороны, мы были готовы тщательно изучить все доступные сведения уже после того, как зафискируем собственные впечатления. Мы решили, что такой подход повысит нашу внимательность и чувствительность к потребностям смертельно больного, а также позволит успокоиться студентам, которые, несомненно, будут очень взволнованы, когда встретятся лицом к лицу с умирающими людьми разного возраста и происхождения.
Намеченные планы нас вполне удовлетворили, но трудности возникли уже через пару дней после начала работы.
Я обращалась к врачам нескольких отделений больницы с просьбой разрешить нам провести беседу с их безнадежными пациентами. Одни врачи просто ошарашено застывали на месте, другие резко меняли тему разговора, но результат был один: мне не дали ни единого шанса даже приблизиться к кому-то из больных. Врачи либо без обиняков заявляли, что не станут принимать участия в таком опыте, либо «оберегали» своих пациентов, утверждая, что те слишком слабы, утомлены, да и вообще неразговорчивы. Справедливости ради замечу, что поведение врачей было во многом оправданно, поскольку я совсем недавно начала работать в той больнице и почти никто из врачей не знал ни меня, ни характера моих занятий, ни стиля работы. У них не было никаких гарантий (кроме моего слова), что намеченные беседы не станут для больных травмирующим переживанием, тем более что некоторым пациентам еще не говорили, насколько серьезно их состояние. Наконец, эти врачи просто не знали о том, что во время работы в других больницах я получила опыт общения с умирающими.
Я рассказываю об этом так подробно, поскольку хочу представить реакцию врачей как можно объективнее. Они уклонялись от разговора, когда речь заходила о смерти и умирающих, но в то же время беспокоились о своих пациентах, старались избавить их от болезненной беседы с почти незнакомым врачом, который совсем недавно появился в коллективе. В итоге у нас начало складываться впечатление, что в этой огромной больнице вообще нет обреченных пациентов. Телефонные звонки в разные отделения и личные встречи с врачами были тщетными. Одни вежливо сообщали, что подумают об этом, другие сразу заявляли, что не собираются подвергать больных такому испытанию, так как оно станет слишком утомительным. Одна медсестра с неподдельным ужасом поинтересовалась, как я буду себя чувствовать, извещая двадцатилетнего парня о том, что ему осталось жить всего пару недель! Она была так рассержена, что развернулась и ушла, прежде чем я успела объяснить ей наш замысел.
Когда я наконец-то пробилась к одному из больных, он принял меня с распростертыми объятиями и тут же попросил присесть. Видно было, что ему очень хочется поговорить, но я сказала, что не могу выслушать его сейчас и появлюсь на следующий день, вместе с группой студентов. К стыду, в тот день мне не хватило чуткости. Получить доступ к этому больному стоило таких трудов, что я хотела провести беседу только в присутствии студентов. Тогда я просто не понимала, что когда такой пациент говорит: «Прошу вас, присаживайтесь», это значит: «Сейчас!», ведь завтра может быть уже поздно. На следующий день, когда мы вошли в палату, он лежал на подушке и был так слаб, что не мог говорить. Он попытался приподнять руку и прошептал:
«Спасибо, что не забыли». Этот человек умер меньше чем через час и унес с собой все то, что намеревался сказать нам и что мы так отчаянно хотели услышать. Для нас это был первый и самый болезненный урок, который одновременно стал началом семинара. Все начиналось как научный эксперимент, но обернулось для многих людей важным жизненным опытом.
После первой попытки мы со студентами собрались в моем кабинете, так как испытывали потребность обсудить свои переживания, поделиться друг с другом впечатлениями, разобраться в них. В этом режиме мы работаем и по сей день — больших изменений не произошло. Раз в неделю мы встречаемся с безнадежным больным, просим у него разрешения записать беседу на магнитофонную ленту и даем ему возможность говорить сколько захочется. Из больничной палаты мы перебрались в небольшую комнату, устроенную так, что слушатели могут видеть и слышать нашу беседу, а мы их — нет. Наша группа, в которой первоначально было четыре студента-богослова, выросла до полусотни участников, и потому их приходится размещать за зеркальным стеклом.
Узнав об очередном пациенте, который может принять участие в нашем семинаре, мы приходим к нему одни или с кем-то из студентов и лечащим врачом; иногда к нам присоединяется больничный священник. После недолгого представления присутствующих мы четко и ясно оговариваем цель и продолжительность предстоящего разговора. Я рассказываю всем больным, что у нас в больнице есть группа сотрудников, которая хочет у них многому научиться. Мы подчеркиваем, что очень хотим побольше узнать о тяжелобольных и умирающих пациентах, затем умолкаем и ждем словесной или любой другой реакции человека. Мы пускаемся в объяснения только после того, как больной разрешает нам говорить. Вот как выглядит типичная беседа с больным:
ВРАЧ: Добрый день, г-н П. Я доктор Р., а это наш священник, преподобный Н. Вы не против, если мы немного побеседуем?
БОЛЬНОЙ: Конечно, пожалуйста, садитесь.
ВРАЧ: Мы пришли с довольно необычной просьбой. Преподобный Н. и я работаем с группой сотрудников больницы, которые хотят как можно больше узнать о тяжело больных и умирающих пациентах. Я подумал, что вы, возможно, могли бы ответить на несколько наших вопросов.
БОЛЬНОЙ: Давайте попробуем. Я отвечу на них, если смогу.
ВРАЧ: Насколько серьезно ваше состояние?
БОЛЬНОЙ: У меня давно начались метастазы…
(Некоторые пациенты могут сказать, например: «Вам действительно интересно говорить с обреченной старухой? Ведь вы молоды и полны сил!»)
Не все больные сразу проявляют готовность к диалогу. Они начинают жаловаться на боли, неудобства, проявлять раздражение — и незаметно для себя делятся с нами своими чувствами. После этого мы поясняем, что именно об этом хотят знать члены нашей группы, и предлагаем больному подумать, не хочет ли он повторить то же самое чуть позже.
Когда пациент соглашается, врач дает разрешение на посещение и завершаются все приготовления, мы сами переносим его в комнату для бесед. Очень немногие из таких больных передвигаются самостоятельно, большая часть сидит в инвалидных колясках, а некоторых приходится переносить на носилках. При необходимости вместе с больным переносят капельницы. Мы не приглашаем родственников, но иногда беседуем с ними после разговора с больным.
Наши беседы основаны на том, что ни один из присутствующих практически ничего не знает о пациенте. Обычно мы повторно описываем больному цель беседы по пути в предназначенную для этого комнату и особо подчеркиваем, что он имеет право прекратить разговор в любой момент, если только того пожелает. Затем мы показываем ему зеркало в стене и поясняем, что оно позволяет слушателям видеть и слышать все, что происходит в комнате, и в заключение предоставляем ему возможность побыть наедине с нами. Эти мгновения обычно помогают избавиться от последних волнений и страхов.
В предназначенной для бесед комнате разговор течет легко и быстро. Мы начинаем с общих вопросов и постепенно переходим к самым личным — это будет видно из приведенных в этой книге примеров наших бесед.
Когда разговор заканчивается, мы сначала переносим больного в его палату, а затем продолжаем семинар. Пациента никогда не заставляют томиться где-нибудь в коридоре. Вернувшись, те, кто проводил беседу, присоединяются к зрителям, и мы вместе обсуждаем услышанное. Мы выявляем собственные непроизвольные реакции, какими бы неуместными или иррациональными те ни казались. Мы обсуждаем свои эмоциональные и интеллектуальные отклики, реакцию пациента на различные вопросы, его отношение к собеседнику и использованным подходам, а в завершение пытаемся добиться психо динамического понимания увиденного и услышанного. Мы изучаем сильные и слабые стороны пациента, а также то, насколько нам удалось найти с ним общий язык. Наконец мы делаем определенные выводы, рекомендуем те или иные подходы, которые, как мы надеемся, помогут облегчить последние дни, недели или месяцы жизни больного.
Ни один из наших пациентов не скончался во время беседы. Последующий срок их жизни составлял от двенадцати часов до нескольких месяцев. Многие из наших последних собеседников до сих пор живы, У некоторых очень тяжело больных произошла ремиссия, после которой они снова отправились домой. У нескольких с тех пор не было рецидивов, и держатся они достаточно хорошо. Я говорю об этом, поскольку мы часто говорим о смерти с пациентами, которые еще не умирают — во всяком случае, в классическом понимании. Мы беседуем с большей частью из них об этом событии, так как они сталкиваются с угрозой смерти в силу тех болезней, которые обычно считаются смертельными. Наши разговоры могут проходить в любой момент, разделяющий диагноз и саму смерть.
Как выяснилось на практике, наши беседы служат сразу нескольким целям. Они представляют собой самый действенный способ заставить студентов осознать необходимость воспринимать смерть как реальную возможность — и речь идет не только о чужой, но и о собственной смерти. Разговоры с умирающими показали, насколько это средство полезно для восстановления душевного равновесия, которое обычно достигается медленно и болезненно. Многие студенты, появившиеся на семинаре впервые, покидали комнату еще до окончания беседы. Некоторым из них удавалось заставить себя сидеть на месте на протяжении всего разговора, но во время последующего обсуждения они просто не могли выразить свое мнение об услышанном. Часть студентов выплескивала гнев и раздражение на коллег или того, кто проводил беседу, а иногда и на самого пациента. Последнее время от времени случалось, когда больной воспринимал грядущую смерть со спокойствием и самообладанием, а у студента увиденная сцена вызывала огромное волнение. Последующее обсуждение показывало, что студент считал слова пациента неискренними, даже притворными, то есть просто не мог представить себе, что кто-то может воспринимать подобную трагедию с таким достоинством.
Другие участники семинара начинали отождествлять себя с больными, особенно если те были их сверстниками. В обсуждении и после него такие студенты пытались решать те же проблемы, с которыми сталкивались пациенты. Когда члены группы хорошо познакомились друг с другом и поняли, что ни одна тема не является запретной, наши обсуждения стали напоминать групповую психотерапию — мы встретились с многочисленными случаями откровенных признаний, взаимной поддержки, а иногда совершали мучительные открытия. Больные даже не подозревали о том, какое мощное и долговременное воздействие оказывали их рассказы на большую часть наших студентов.
Через два года после возникновения наши занятия стали признанным курсом для медицинских институтов и богословских семинарий. К нам приходили практикующие врачи, медсестры и санитары, сиделки и работники социальных служб, христианские священники и раввины, терапевты и психологи. К сожалению, реже всего на них появлялись штатные сотрудники нашей собственной больницы. Студенты мединститутов и семинарий, которые выбирали эти беседы в качестве официального учебного курса, посещали и лекционные занятия, посвященные теории смерти, философским, морально-этическим и религиозным сторонам этой проблемы. Лекции поочередно проводили автор этой книги и больничный священник.
Все беседы с умирающими записывались на магнитофонные ленты, чтобы студенты и преподаватели имели возможность прослушать их позже. В конце семестра студенты писали курсовую работу на любую выбранную тему. В будущем мы намерены опубликовать эти статьи, среди которых есть и очень личные рассуждения о страхе смерти, и научные труды, посвященные философским, богословским и социологическим вопросам.
Чтобы обеспечить конфиденциальность сведений, мы составили перечень всех участников, а затем изменили имена и прочие данные в своих записях.
Обсуждения, начинавшиеся с неофициальных разговоров с четырьмя студентами, превратились за два года в большой семинар, на который собиралось до пятидесяти человек, представлявших почти все профессии. Первоначально для того, чтобы получить у лечащего врача разрешение на беседу с пациентом, нам приходилось тратить в среднем около десяти часов в неделю, но теперь с этим редко возникают затруднения. К нам обращаются за советами врачи, медсестры, работники социальных служб и, что главное, сами пациенты. Больные, которые уже принимали участие в нашем семинаре, делятся своими впечатлениями с другими обреченными пациентами, и те. в свою очередь, тоже предлагают нам свою помощь либо просто просят, чтобы их выслушали.
Умирающие как наставники
Сказать или не сказать? Вот в чем вопрос. Во время бесед с врачами, священниками и медсестрами нас часто удивляла их обеспокоенность тем, как пациенты воспримут трагическую «правду». «Какую правду?» — тут же спрашивали мы. Встречаться с больным после того, как поставлен диагноз злокачественной опухоли, всегда нелегко. Одни врачи предпочитают сообщать об этом родным больного, но скрывать правду от самого пациента, чтобы не вызвать у него нервный срыв. Другим врачам, достаточно чутким к потребностям больных, удается описать им степень серьезности болезни, но в то же время не лишить пациентов надежды.
Лично я считаю, что этот вопрос не должен вызывать никаких сомнений. Нет смысла думать о том, сообщать ли больному о диагнозе, лучше решить, как именно рассказать ему об этом. На следующих страницах я попытаюсь обосновать свое мнение, и для этого мне потребуется провести довольно условную классификацию многочисленных переживаний, которые испытывают больные, когда им внезапно приходится осознать собственную смертность. Как мы уже говорили, по собственной воле люди почти никогда не размышляют о прекращении своего существования на земле и лишь время от времени ощущают возможность смерти. Одним из таких случаев, разумеется, является опасная болезнь. Когда больному сообщают, что у него рак, факт грядущей смерти переносится в сферу сознательного мышления.
Часто говорят, что люди считают синонимами понятия «злокачественная опухоль» и «смертельная болезнь». В большинстве случаев это оказывается правдой, но может стать и благословением, и проклятием — все зависит от того, как больному и его семье удастся справиться с такими критическими обстоятельствами. Несмотря на учащение случаев излечения и продолжительных ремиссий, рак действительно чаще всего становится смертельной болезнью. Я убеждена, что мы должны выработать у себя привычку время от времени размышлять о смерти еще до того, как столкнемся с ней в реальной жизни. В противном случае обнаруженная у одного из членов нашей семьи опухоль жестоко и грубо напомнит нам о собственной смертности. Таким образом, полезно воспользоваться периодом болезни, чтобы поразмыслить о вопросах смерти применительно к самому себе, независимо от того, что ждет больного — неизбежная смерть или выздоровление.
Врач окажет больному огромную услугу, если сможет откровенно говорить с ним о подтвержденном диагнозе злокачественной опухоли, не приравнивая рак к неминуемой смерти. При этом врач может вызвать у пациента надежду — на новое лекарство, передовую методику лечения и последние научные открытия. Он должен объяснить больному, что не все потеряно, никто не бросит его в беде и, независимо от исхода, сам пациент, его семья и врач будут сообща бороться с болезнью. Тогда больной не начнет бояться изоляции, обмана, отторжения, он поверит в искренность своего врача и поймет, что если что-то можно сделать, то это будет сделано общими усилиями. Подобное отношение успокаивает и членов семьи больного, которые нередко оказываются в такие моменты совершенно беспомощными. Очень многое зависит от поддержки врача, выраженной словами и поведением. Семью пациента ободряет сама мысль о том, что для больного будет сделано все возможное, и даже если врач не сможет спасти жизнь пациента, то, во всяком случае, уменьшит его мучения.
Если в кабинет входит пациентка с уплотнением в груди, тактичный врач подготовит ее к возможности того, что это злокачественная опухоль, — например, объяснит, что биопсия позволит окончательно определить характер новообразования. Кроме того, он предупредит ее о том, что в случае злокачественной опухоли в будущем не исключена хирургическая операция. После этого больная получит возможность учесть вероятность рака и подготовиться к серьезному хирургическому вмешательству, если оно станет необходимым. Когда пациентка приходит в себя после операции, врач может сказать: «К сожалению, нам пришлось провести более обширное вмешательство». Если больная восклицает: «Слава Богу, опухоль была доброкачественная», он может просто сказать: «Хотелось бы верить» и не убегать из палаты, а молча посидеть возле нее. В подобных случаях пациентка может в течение нескольких дней делать вид, что не понимает правды. Со стороны врача было бы очень жестоко заставлять ее признать печальный факт, если больная четко дала ему понять, что еще не готова к этому. Врач уже проводил с ней откровенный разговор, и этого достаточно, чтобы больная доверяла ему. Она сама заведет речь о своей болезни позже, когда почувствует, что готова к вероятности смертельной угрозы.
Другая пациентка может сказать: «Доктор, это ужасно. Сколько я еще протяну?» После этого врач может рассказать, что в последние годы медицина достигла очень многого и научилась существенно продлевать жизнь в подобных случаях. Он может привести примеры благоприятного влияния повторной хирургической операции, а затем честно признать, что никто не в силах точно определить, сколько может прожить тот или иной пациент. Мне кажется, что худшим, самым жестоким по отношению к пациенту, даже если он отличается сильным характером, является тот вариант, когда ему сообщают точное число месяцев или лет. Поскольку подобные сведения почти всегда становятся ошибочными, а отклонения от предполагаемого срока давно стали общим правилом, я вообще не вижу причин проводить подобные оценки. Потребность знать точный срок может возникнуть в чрезвычайно редких случаях, например, когда главе семьи стоит сообщить об угрозе скоропостижной смерти, чтобы он успел привести в порядок свои дела. Думаю, даже в таких обстоятельствах тактичный и чуткий врач в состоянии объяснить своему пациенту, что не стоит затягивать с важными делами, желательно позаботиться о них сейчас, пока есть время и силы. Скорее всего, больной поймет скрытый намек, но в то же время сохранит надежду на лучшее, которую должен питать любой пациент, даже если он заявляет, что готов к смерти. Наши беседы показали, что все без исключения пациенты оставляли себе шанс на спасение и ни один из них не утверждал, что окончательно потерял желание жить.
Мы спрашивали больных о том, как им сообщали об опасной болезни. Выяснилось, что все они так или иначе узнавали о ней, даже если никто не говорил об этом прямо; но их переживания очень сильно зависели от способности лечащего врача представить печальную весть в приемлемой форме.
Но что представляет собой эта «приемлемая форма»? Как врачу определить, чего хочет больной: услышать короткую фразу или долгие научные пояснения? Быть может, пациент вообще стремится избежать такого разговора? Как решить эту задачу, если врач сталкивается с необходимостью найти правильное решение, еще не успев изучить характер больного?
Ответ зависит от двух факторов. Первым и самым важным является наше собственное отношение к смерти и умение обращаться с умирающими. Пока смерть остается крупнейшей трагедией нашей жизни, пока мы считаем ее пугающей, ужасной и запретной темой, нам не удастся сохранять спокойствие и помочь пациенту. Я намеренно говорю о смерти, даже если в конкретном случае нам нужно ответить на вопрос о характере опухоли, злокачественности или доброкачественности. Первый случай всегда связан с неизбежной, разрушительной и мучительной смертью, и потому именно он пробуждает самые сильные чувства. Разве мы сможем помочь пациенту, если сами не в силах невозмутимо воспринимать смерть? Итак, врач втайне надеется, что больные просто не станут задавать ему этот ужасный вопрос. Он ходит вокруг да около, говорит о всяких пустяках или чудесной погоде, а впечатлительный пациент поддерживает такую игру и с готовностью мечтает о следующей весне, даже если в глубине души догадывается, что для него весны уже не будет. Затем такие врачи объясняют нам, что его пациенты не хотят знать правду, никогда не спрашивают о ней и верят, что все кончится хорошо. В действительности, врачи испытывают огромное облегчение от отсутствия прямых вопросов со стороны больных и часто даже не подозревают, что сами подталкивают пациентов к такому поведению. Доктора, которые испытывают ту же неловкость, но хотят сообщить больному правду, обращаются за помощью к священнику и просят его поговорить с пациентом. Врачам становится легче, когда тяжелая ответственность откровенной беседы переносится на чужие плечи, но это все же лучше, чем всячески избегать правдивого разговора. С другой стороны, врач может испытывать такую тревогу, что недвусмысленно запрещает обслуживающему персоналу и священнику говорить пациенту правду. Четкий характер подобных запретов выдает обеспокоенность врача намного явственнее, чем его собственные слова.
Есть и другие врачи, которые не испытывают таких трудностей, — и они гораздо реже сталкиваются с больными, которые не желают обсуждать степень серьезности своей болезни. Поговорив об этом со множеством больных, я пришла к выводу, что те врачи, которые сами нуждаются в отрицании смерти, чаще всего «замечают» такое желание и у своих пациентов; с другой стороны, если доктор готов к разговорам о смертельной болезни, его больным обычно легче выслушать печальную новость и смириться с ней. Потребность больного в отрицании смерти прямо пропорциональна соответствующей потребности лечащего врача. Впрочем, это только одна сторона проблемы.
Мы обнаружили также, что больные воспринимают подобные вести по-разному, в зависимости от склада характера и образа жизни. Пациенты, для которых отрицание служит основной формой защиты, пользуются им намного чаще других. С другой стороны, те, кто в прошлом привык открыто встречать тяжелые обстоятельства, обычно ведет себя так же и по отношению к угрозе смерти. Таким образом, очень полезно получше узнать нового пациента, определить сильные и слабые черты его характера. Я приведу один пример того, как это можно сделать:
Г-жа А., тридцатилетняя белая женщина, попросила нас о встрече. Мы увидели невысокую, полную и притворно веселую женщину, с улыбкой сообщившую нам, что у нее «доброкачественная лимфома», которую лечат самыми разными препаратами, от кобальта до азотного иприта (многим известно, что эти лекарства дают при злокачественных опухолях). Г-жа А. хорошо понимала характер своей болезни и с готовностью призналась, что прочитала о ней немало книг. Затем она неожиданно приуныла и рассказала очень трогательную историю о том, как врач пришел к ней домой с результатами биопсии и сказал, что у нее «доброкачественная лимфома». «Доброкачественная лимфома?» — с легким оттенком сомнения в голосе повторила я и замолчала. «Прошу вас, доктор, скажите, она доброкачественная или злокачественная?» — попросила она, но тут же, не дожидаясь ответа, принялась рассказывать о своих безуспешных попытках забеременеть. Она пыталась зачать ребенка в течение девяти лет, прошла все существующие проверки, а после обратилась в специальные агентства в надежде усыновить малыша. Ее прошения отклоняли по разным причинам: сначала потому, что она была замужем всего два с половиной года, а позже, судя по всему, из-за эмоциональной неустойчивости. Женщина так и не смогла смириться с тем, что ей не удалось усыновить ребенка. Теперь, когда она попала в больницу, ей пришлось подписать согласие на облучение. В бумагах упоминалось, что курс лечения чаще всего вызывает бесплодие, — это окончательно и бесповоротно лишало ее шанса родить ребенка, но она по-прежнему не допускала такой мысли, хотя подписала бумаги и уже прошла подготовку к облучению. Ее живот был размечен, а утром г-же А. предстояло пройти первый сеанс лечения.
Разговор позволил мне понять, что она еще не готова услышать правду. Она спросила о характере своей опухоли, но не ждала ответа. Кроме того, она сказала, что не может смириться с мыслью о бесплодии, хотя и согласилась на лучевую терапию. Она очень долго рассказывала обо всех подробностях своей несбывшейся мечты и не сводила с меня глаз, в которых застыли огромные вопросительные знаки. Тогда я предположила, что она, возможно, говорит о своей неспособности смириться с болезнью, а не с бесплодием. Я сказала ей, что понимаю ее чувства, и добавила, что обе проблемы сложны, но не безнадежны. Уходя, я пообещала зайти к ней на следующий день.
По пути в кабинет лучевой терапии, на первый сеанс облучения, она призналась, что знает о своей злокачественной опухоли, но надеется на выздоровление. Во время последующих непринужденных встреч она говорила то о детях, то об опухоли, отбросила напускную веселость и много плакала. Она просила найти какую-нибудь «волшебную палочку», которая помогла бы ей избавиться от страха, освободила от тягостного груза на душе. Г-жу А. очень заботил вопрос о том, кого положат в ее больничную палату; по ее словам, она «до смерти боялась», что рядом окажется смертельно больная. Медсестры оказались очень понимающими, мы рассказали им об этих страхах, и в результате спутницей г-жи А., к ее облегчению, стала неунывающая молодая женщина. Медсестры не пытались любой ценой вызвать у г-жи А. улыбку и даже предлагали ей не сдерживать слезы, если захочется плакать, и такое отношение тоже очень помогло. Теперь у нее была возможность решать, с кем можно беседовать об опухоли. С менее доброжелательными собеседниками она предпочитала говорить о детях. Сотрудники больницы с удивлением услышали о том, что эта пациентка осознает свое положение и готова реалистично оценивать будущее.
После нескольких очень плодотворных встреч г-жа А. неожиданно спросила, есть ли у меня дети. Когда я ответила утвердительно, она прервала разговор, сославшись на усталость. Во время следующего посещения я услышала целый ряд озлобленных и придирчивых замечаний в адрес медсестер, психиатров и всех остальных, после чего г-жа А. призналась, что испытывает зависть к молодым и здоровым людям и в особенности ко мне, так как я, по ее мнению, имела все, что только можно желать. Когда она поняла, что ее не собираются бросать в одиночестве, хотя временами она становится очень трудным пациентом, г-жа А. еще острее осознала причину своего гнева и без обиняков заявила, что это злость на Бога, который позволяет ей умереть молодой и бездетной. К счастью, больничный священник, который был человеком понимающим, не склонным грозить карами за богохульство, обсудил с г-жой А. ее гнев примерно в том же духе, что и я. После этого ее озлобление сменилось нарастающей подавленностью, а затем, как мы надеемся, окончательным смирением.
Вплоть до настоящего времени г-жа А. проявляет выраженную двойственность в отношении своей бездетности. Перед одними людьми она предстает в облике внугренне противоречивой женщины, озабоченной отсутствием детей; наедине со мной или священником она рассуждает о смысле своей короткой жизни и надеждах (совершенно обоснованных) прожить подольше. Сейчас, когда я пищу эти строки, ее больше всего пугает мысль о том, что муж женится на другой женщине, которая сможет родить ребенка. Впрочем, она тут же со смехом признает: «Он, конечно, замечательный человек, но все-таки не персидский щах». Г-жа А. еще не окончательно справилась со своей завистью к здоровым людям, но то, что она уже не пытается все отрицать либо переносить внимание на другую трагичную, но не смертельную проблему, помогает ей намного успешнее бороться с болезнью.
Другим примером проблемы «сказать или не сказать» стал г-н Д. Никто не знал с уверенностью, догадывается ли этот больной о характере своей болезни. Сотрудники больницы полагали, что он не осознает всей серьезности своего положения, так как ни с кем об этом не говорит, даже не задает никаких вопросов. В целом складывалось впечатление, что медсестры его побаиваются. Они готовы были побиться об заклад, что он не примет моего предложения поговорить на эту тему. Предчувствуя сложности, я нерешительно подошла к нему и задала прямой вопрос: «Насколько серьезно вы больны?» Он ответил: «Метастазы уже повсюду…» Проблема заключалась в том, что никто ни разу не задавал ему такой простой и прямолинейный вопрос. Врачи ошибочно считали его угрюмый вид запертой дверью, но на самом деле только их собственный страх мешал им понять, что этот пациент отчаянно жаждет поделиться своей бедой с другим человеком.
Если считать злокачественную опухоль безнадежной болезнью, вызывающей ощущение «Какой смысл? Все равно ничего поделать нельзя», то такое отношение станет началом трудного периода для больного и всех, кто его окружает. Пациент почувствует изоляцию, потерю интереса со стороны врача, одиночество и безнадежность. Он может резко сдать или впасть в глубокую депрессию, из которой его способна вывести только возрожденная надежда.
Родные такого пациента могут переживать те же чувства скорби и бесцельности, отчаяния и безнадежности, то есть вряд ли улучшат самочувствие больного. Они могут провести оставшийся короткий срок в болезненной подавленности, а не использовать его как обогащающий опыт, что нередко удается, когда врач ведет себя правильно.
Я должна подчеркнуть, что реакция пациента зависит не только от того, что скажет ему врач, однако форма сообщения печальной новости остается очень важным фактором, который часто недооценивается. При обучении студентов-медиков и в практической подготовке молодых врачей этому шагу должно уделяться особое внимание.
Подведем итоги. Я убеждена, что не следует задаваться вопросом; «Сообщать ли больному его диагноз?» По-настоящему важен другой вопрос: «Как рассказать пациенту о его болезни?» Врач должен сначала определить собственное отношение к смертельной болезни и смерти, убедиться, что он в состоянии говорить о таких пугающих вещах без неуместной боязни. Необходимые подсказки ему следует найти в словах самого пациента, это поможет врачу выяснить, готов ли больной воспринять правду. Рано или поздно пациент все равно ее узнает, это произойдет тем быстрее, чем больше людей из его окружения знают о диагнозе, ведь совсем не многим из нас актерские способности позволяют долго прятаться за убедительной маской благополучия. Больной так или иначе все поймет, намеками станут изменения в отношении со стороны других, подчеркнутая внимательность, пониженный тон голоса и отведенный в сторону взгляд, печальное либо, напротив, слишком бодрое лицо родственника, который не в силах скрыть свои подлинные чувства. Если врач или член семьи не может сообщить больному правду о его состоянии, пациент будет делать вид, будто ничего не подозревает. Он очень обрадуется встрече с человеком, который готов его выслушать, но ни к чему не принуждает, позволяя больному прикрываться своими щитами до тех пор, пока он сам того хочет.
Говорят больному о диагнозе или нет, он все равно поймет, что случилось, но может потерять доверие к врачу, если тот солгал или просто не помог пациенту справиться с правдой, лишил его возможности привести в порядок незаконченные дела.
Умение сообщить мучительную новость пациенту — большое искусство. Чем проще слова врача, тем легче обычно больному, который вспомнит этот момент позже, если не смог «расслышать» врача сразу. Наши пациенты признавались, что такие новости лучше сообщать наедине, в небольшой комнате, а не в широком коридоре людной больницы.
Все наши больные единодушно подчеркивали ощущение сопереживания, которое значило намного больше, чем внезапная трагичность услышанного. Самыми важными были слова о том, что будет сделано все возможное, что больного не «бросят», что есть обнадеживающие методы лечения, пусть даже речь шла о самых последних стадиях болезни. Если известие о диагнозе передается в такой форме, больной продолжает доверять своему врачу, у него есть время свыкнуться с мыслью о смерти, справиться с этим неожиданным и тяжелейшим жизненным испытанием.
На следующих страницах мы предпринимаем попытку подвести итог тому, что узнали от умирающих больных. Речь идет о восприятии смерти во время развития смертельных болезней.
ГЛАВА III.
ПЕРВЫЙ ЭТАП: ОТРИЦАНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ
Человек отгораживается от самого себя.
Тагор, «Отбившиеся птицы», LXXIX
Мы провели беседы более чем с двумя сотнями обреченных больных, и большинство из них признавалось, что их первой реакцией на известие о смертельной болезни были слова: «Нет, только не я, не может быть!» Такое первоначальное отрицание присуще и пациентам, которым сказали правду в самом начале развития болезни, и тем, кто догадался о печальной истине самостоятельно. Одна из наших пациенток описала долгий и трудоемкий «обряд», который помогал ей отрицать правду. Сначала она решила, что рентгеновские снимки «перепутались», убеждала себя, что ее снимок не мог быть готов так быстро и, скорее всего, ее имя по ошибке записали на чужой рентгенограмме. Когда выяснилось, что никакой путаницы нет, она немедленно покинула больницу в тщетной надежде найти другого врача, который «найдет настоящую причину моих проблем». Пациентка обошла многих врачей; одни из них ободряли ее, другие подтверждали первые подозрения. Независимо от их ответа, она вела себя одинаково; просила провести повторные осмотры и анализы. В глубине души она уже понимала, что исходный диагноз был верным, но все-таки проходила очередные проверки в надежде на то, что первоначальный вывод ошибочен. В то же время она постоянно поддерживала связь с врачом — по ее словам, чтобы тот мог оказать ей помощь «в любой момент».
Такое страстное отрицание диагноза особенно характерно для больных, узнающих грустную весть преждевременно или неожиданно от человека, который плохо знает пациента либо просто старается быстро «покончить с этим вопросом», не принимая во внимание степень готовности больного. Отрицание — во всяком случае, частичное — присуще почти всем пациентам не только на первых стадиях болезни, но и впоследствии, когда оно проявляется время от времени. Кто-то сказал: «Мы не в силах все время смотреть на солнце, а также размышлять о смерти». Обреченные больные могут какое-то время допускать возможность собственной смерти, но затем им приходится отбрасывать такие мысли, чтобы не потерять волю к жизни.
Я особо подчеркиваю это, поскольку считаю отрицание здоровой попыткой справиться с болезненными и мучительными обстоятельствами, в которых многим умирающим больным суждено находиться довольно длительное время. Отрицание играет роль буфера, смягчающего неожиданное потрясение. Оно позволяет пациенту собраться с мыслями, а позже пользоваться другими, менее радикальными формами защиты. Это, однако, не означает, что позже тот же пациент не испытает желания, облегчения и даже радости, если получит возможность спокойно поговорить с кем-то о нависшей над ним угрозе смерти. Подобные беседы должны проводиться по желанию больного, когда он (а не слушатель!) готов обсудить эту тему. Разговор следует прервать, если больной вновь закрывает глаза на правдивые факты и возвращается к прежнему отрицанию. Не так уж важно, когда именно проходит такая беседа. Нас часто обвиняют в том, что мы говорим о смерти с тяжелобольными, хотя лечащий врач совершенно обоснованно считает, что эти пациенты еще не умирают. Мне кажется, что если больной хочет поговорить о смерти, то лучше сделать это прежде, чем она подступит к изголовью. Чем больше сил остается у человека, тем легче ему обсуждать эти вопросы, тем меньше пугает его приближение смерти. Как выразился один из наших пациентов, говорить о смерти проще, когда она «за много миль», а не «прямо за дверью». Семье больного тоже легче обсуждать подобные вопросы в периоды относительного здоровья и благополучия; кроме того, пока глава семьи еще в состоянии заниматься делами, он может позаботиться о денежном обеспечении детей и других родственников. Стремление оттянуть подобные беседы вызвано обычно не состоянием пациента, а нашей собственной нерешительностью.
Отрицание чаще всего является временной формой защиты и вскоре сменяется частичным смирением. Устойчивое отрицание вплоть до последних дней не всегда увеличивает страдания больного; впрочем, я считаю такие случаи редкостью. Среди двухсот обреченных больных я видела только трех женщин, которые до последнего пытались отрицать приближение смерти. Две из них говорили о смерти очень скупо, называли ее «неизбежной неприятностью, которая, надеюсь, случится во сне» и говорили: «Хочется верить, что это будет безболезненно». После таких утверждений они возвращались к привычному отрицанию своей болезни.
Третья пациентка, незамужняя женщина средних лет, явно прибегала к отрицанию на протяжении всей жизни. У нее была ярко выраженная, язвенная форма рака груди, но больная согласилась на лечение лишь почти перед самой смертью. Она свято верила в «Христианскую науку» (Религиозная организация и этическое учение. — Прим. перев.) и держалась за свои убеждения до последнего вздоха. Несмотря на полное отрицание, в глубине души она, похоже, сознавала реальность своей болезни, поскольку все-таки смирилась с пребыванием в больнице и некоторыми формами лечения. Я посетила ее перед плановой операцией, и тогда эта женщина назвала хирургическое вмешательство «разрезанием раны, чтобы та быстрее заживала». Кроме того, она дала понять, что хочет просто выяснить подробности своего пребывания в больнице, «которое никак не связано с этой язвой». Повторные визиты ясно показали, что она боится вступать в разговоры с сотрудниками больницы, которые могли лишить ее защиты, то есть завести речь о развивающейся форме рака. По мере того как состояние больной ухудшалось, все гротескнее становился ее макияж. Прежде она довольно умеренно пользовалась красной губной помадой и пудрой, но потом начала пользоваться все более яркими красками и в конце стала напоминать циркового клоуна. Ярче, цветастее становилась и ее одежда. В последние дни жизни она уже боялась заглядывать в зеркало, но продолжала наносить свой маскарадный грим, словно он мог скрыть стремительно дурнеющее лицо и признаки усилившейся депрессии. Когда мы спросили, можем ли оказать ей какую-то помощь, женщина ответила: «Приходите завтра». Она не сказала: «Оставьте меня в покое» или «Не тревожьте меня» — видимо, чувствовала вероятность того, что завтра ее защита треснет по всем швам и помощь со стороны станет совершенно необходимой. Ее последними словами стала фраза: «Похоже, больше я не выдержу». Она скончалась через час.
Большинство пациентов не отрицают правду так долго и упорно. Они могут какое-то время совершенно реалистично описывать свое положение, а затем внезапно теряют способность к его объективной оценке. Как мы узнаем, что пациент не хочет смотреть в лицо смерти? Он может говорить о серьезных проблемах своей жизни, поделиться важными для него предположениями о самой смерти и продолжении существования после нее (это тоже форма отрицания) — но лишь для того, чтобы через несколько минут заговорить на совершенно иную тему, иногда полностью противореча сказанному ранее. В эти моменты возникает впечатление, что говоришь с обычным приболевшим человеком, жизни которого ничто не угрожает. Благодаря этим признакам мы понимаем, что в эти минуты больной предпочитает думать о чем-то светлом и приятном, и, разумеется, позволяем ему погрузиться в радостные мечты, какими бы невероятными они ни были (кстати, несколько наших пациентов грезили о вещах на первый взгляд совершенно невозможных, но эти мечты, к нашему удивлению, сбывались). Я пытаюсь подчеркнуть, что потребность в отрицании возникает время от времени у любого пациента, и в самом начале развития серьезной болезни это происходит чаще, чем в конце жизни. Такая потребность может возникать и исчезать довольно быстро; чуткий и восприимчивый слушатель заметит ее и не станет разрушать защиту больного, указывая ему на противоречия. Только на более поздних стадиях пациент начинает отдаляться от окружающих чаще, чем прибегать к отрицанию. В этот период он может говорить о здоровье и болезни, смерти и бессмертии так, словно это сосуществующие бок о бок неразрывные пары. Такой подход позволяет ему смело рассуждать о смерти, не теряя надежды на лучшее.
В общем, первой реакцией пациента может стать временное потрясение, от которого он постепенно оправляется. Когда первоначальное оцепенение проходит и больной берет себя в руки, он прежде всего думает: «Нет, этого не может быть». Поскольку для подсознания мы вечны, оно просто не в силах признать, что нам тоже когда-то придется посмотреть в лицо смерти. Многое зависит от того, как пациенту сообщают диагноз, сколько времени ему нужно, чтобы свыкнуться с мыслью о неизбежном, и насколько жизнь подготовила его к стрессовым обстоятельствам. После этого больной постепенно перестает отрицать правду и обращается к менее жестким защитным механизмам.
Кроме того, мы выяснили, что многие наши пациенты пользовались щитом отрицания в общении с теми сотрудниками больницы, которые по тем или иным причинам тоже привыкли прибегать к этой форме защиты. Подобные больные обычно очень тщательно выбирают нескольких человек из числа близких или врачей и обсуждают вопросы болезни и неминуемой смерти только с ними. В общении с теми, для кого мысль о скорой кончине больного нестерпима, пациенты делают вид, что у них все прекрасно. Вполне возможно, что именно в этом кроется причина расхождения во мнениях относительно того, нужно ли сообщать больным о смертельной болезни.
Ниже приводится краткое описание случая г-жи К., пациентки, которая долгое время полностью отрицала неизбежное. Этот рассказ демонстрирует, как мы общались с ней начиная с момента признания правды и вплоть до смерти, которая наступила несколько месяцев спустя.
Г-жа К. — белая, католичка двадцати восьми лет, мать двух детей дошкольного возраста. В больницу она попала из-за смертельной болезни печени. Чтобы поддерживать ей жизнь, обязательна строгая диета и ежедневные анализы.
Нам сказали, что за два дня до того, как пациентка легла в больницу, она побывала в клинике, где ей сообщили, что надежд на выздоровление нет. Родные женщины рассказали, что она не могла прийти в себя, пока соседка не убедила ее в том, что надежда есть всегда и ей нужно побывать у целительницы, излечившей немало людей. Больная обратилась за поддержкой к священнику, но тот посоветовал ей не обращаться к знахарям.
В субботу, на следующий день после посещения клиники, г-жа К. отправилась к знахарке и «тут же стала чувствовать себя великолепно». В воскресенье свекровь нашла ее в экстатическом трансе; муж был на работе, а маленькие дети остались совершенно без присмотра. Муж со свекровью привезли К. в больницу и уехали оттуда прежде, чем врач успел с ними поговорить.
Пациентка попросила позвать больничного священника, чтобы «сообщить ему радостную новость». Когда он вошел в палату, она приветствовала его восторженным возгласом: «Отец, это было чудо! Я выздоровела'. Я хочу показать врачам, что меня исцелил Господь. Теперь я чувствую себя прекрасно». Она выразила сожаление по поводу того, что «даже моя церковь не понимает путей Господних», имея в виду священника, который отговаривал ее от посещения знахарки.
Больная принесла немало хлопот врачам, так как полностью отрицала свою болезнь и пренебрегала режимом питания. Однажды она наелась до такой степени, что впала в кому. С другой стороны, в некоторые периоды пациентка послушно выполняла указания врачей. По этим причинам лечащий врач счел необходимым обратиться за консультацией к психиатрам.
Когда мы впервые встретились с г-жой К., она вела себя до неестественности бодро, смеялась и хихикала, убеждала нас в том, что окончательно выздоровела. Она бродила по больнице, болтала с пациентами и медсестрами, пыталась собрать денег на подарок одному из врачей, которому беззаветно верила (что, судя по всему, указывает на частичное понимание своего состояния). Сотрудникам было очень трудно проводить лечение, так как больная нарушала диету, не принимала прописанных лекарств и «вообще вела себя так, словно не лежит в больнице». Ее вера в полное выздоровление была совершенно непоколебимой, и она настаивала на том, чтобы все с этим соглашались.
Мы побеседовали с мужем пациентки. Это был простой, малоэмоциональный человек, который считал, что его жене лучше вернуться домой и провести оставшиеся дни рядом с детьми, а не в больнице, где ее мучения только затянутся долгим лечением, бесконечными денежными тратами и всплесками хронической болезни. Он не проявлял к ней сочувствия; его рациональные рассуждения бьми почти лишены чувств. Муж без обиняков пояснил, что не сможет сам поддерживать дома порядок, так как работает по ночам, а дети уже целую неделю сидят без присмотра. Ставя себя на его место, мы понимали, что он может говорить о сложившихся обстоятельствах только в отстраненной манере. Нам так и не удалось объяснить ему некоторые нужды больной жены. Мы надеялись, что его сочувствие сможет избавить ее от потребности в жестком отрицании болезни, которое мешало действенному лечению. Когда беседа с мужем закончилась, он ушел с явным облегчением, будто наконец-то справился с принудительной работой. Мы не сомневались, что он так и не изменил своего отношения к случившемуся.
Мы регулярно проведывали г-жу К. Ей очень нравились наши разговоры, которые посвящались обыденным событиям и ее желаниям. Больная постепенно слабела и через несколько недель говорила очень мало и просто дремала, держа меня за руку. После этого она все чаще не могла вернуться к действительности и теряла ориентацию. У нее появлялись видения прекрасной спальни, усыпанной душистыми цветами, которые дарил ей муж. Когда ей стало лучше, мы попытались отвлечь ее изготовлением игрушек, чтобы она не так скучала. Последние недели жизни она почти все время проводила в одиночестве в своей палате, закрыв обе створки дверей; медсестры и врачи появлялись там редко, так как, по их мнению, уже ничем не могли ей помочь. Персонал больницы оправдывал то, что избегает больной, такими, например, замечаниями: «Она почти никого не узнает» или: «Я просто не знаю, что ей ответить, она высказывает совершенно безумные мысли».
Страдая от отчужденности и одиночества, г-жа К. не раз говорила, что часто снимает телефонную трубку «просто чтобы услышать чей-то голос».
Когда ее перевели на диету, лишенную белка, она стала испытывать постоянный голод и очень похудела. Однажды она, сидя на краю кровати и вертя в руках пакетики с сахаром, сказала: «Когда-нибудь эти штуки окончательно меня добьют». Я подсела к ней, и она, взяв меня за руку, заметила: «У вас очень теплые руки. Надеюсь, вы будете рядом, когда мое тело начнет холодеть». После этих слов г-жа К. понимающе улыбнулась. Она понимала, что случилось, и я тоже поняла: в этот миг она перестала отрицать очевидное. Ей удалось собраться с мыслями и заговорить о собственной смерти. Ей хотелось совсем немного: утешающего дружеского участия и не такого голодного конца. Мы не произнесли больше ни слова, просто молча посидели рядом. Когда я собралась уходить, она спросила, приду ли я еще и не могла бы я привести с собой ту очаровательную девушку-трудотерапевта, которая помогла ей сделать несколько кожаных вещей для домашних, «чтобы у них осталось что-нибудь на память обо мне».
Сотрудники больницы — врачи, санитары и медсестры, работники социальных служб и священники — даже не подозревают, сколько они теряют, избегая таких пациентов. Это настоящая школа для тех, кого интересует человеческое поведение, формы приспособления и защитные механизмы, к которым приходится прибегать, чтобы справиться с тяжелейшими переживаниями. Достаточно присесть и выслушать больного, повторять посещения, если он не проявлял желания говорить во время первых встреч, — и рано или поздно у пациента возникнет уверенность в том, что это не безразличный человек, он готов помочь и останется рядом. Когда пациент готов говорить, он полностью открывается перед вами и делится своим одиночеством. Он может выразить это и словами, и непримечательными жестами, и прочими особенностями поведения. Мы ни разу не пытались разрушить иллюзии г-жи К. и не возражали, когда она убеждала нас, что чувствует себя отлично. Мы лишь настойчиво твердили ей, что если она хочет вернуться домой, к детям, то нужно принимать лекарства и соблюдать диету. Случалось, она объедалась запрещенными продуктами и на протяжении следующих дней страдала вдвое больше. Мы откровенно говорили ей, что это совершенно недопустимо. Диета была той частью действительности, которую мы не могли отрицать вместе с г-жой К. Таким образом, в определенном смысле, неявно, мы все-таки объясняли ей, что она серьезно больна. Разумеется, мы не заявляли об этом открыто, так как на этой стадии развития болезни она просто не могла смириться с правдой. Только много недель спустя, после случаев полукоматозного оцепенения и полного воздержания от пищи, после стадии иллюзорных картин нежной заботы со стороны мужа (забота олицетворялась букетами цветов), г-жа К. наконец нашла в себе силы смириться с истинным положением вещей, попросить у нас более сытной пищи и, главное, дружеской поддержки, которой, как она понимала, не было смысла ждать от семьи.
Вспоминая эти продолжительные и значимые отношения, я не сомневаюсь, что они стали возможными только потому, что пациентка почувствовала: мы с уважением относимся к ее стремлению как можно дольше отрицать факт болезни. Мы никогда не осуждали ее, какие бы проблемы она ни доставляла врачам (разумеется, нам было намного проще вести себя таким образом, поскольку мы были людьми отчасти посторонними и не несли ответственности за ее питание, не пытались успокоить, когда ей в голову приходила очередная причуда). Мы продолжали посещать больную даже в те периоды, когда она вела себя совершенно иррационально и не могла припомнить ни наших лиц, ни роли. При затяжном отрицании именно устойчивая забота со стороны терапевта, который достаточно хорошо разобрался с собственным комплексом смерти, помогает пациенту преодолеть тревогу и страх неминуемого конца. В последние дни своей жизни г-жа К. пожелала видеть только двоих людей: одним был психотерапевт, с которым она едва обменивалась парой слов — большую часть времени просто держала за руку и все реже выражала свою озабоченность питанием, болями и неудобствами. Вторым человеком был трудотерапевт, женщина, которая помогла больной на время забыть о действительности, заняться творчеством, своими руками создать особые поделки, чтобы затем оставить их на память семье — возможно, как символы бессмертия.
Я воспользовалась этим примером, чтобы показать, что мы далеко не всегда откровенно сообщаем пациенту, что он смертельно болен. Прежде всего мы пытаемся выяснить его потребности, понять сильные и слабые стороны, найти явные и скрытые признаки, помогающие определить, хочет ли он осознавать действительность в данный момент. Г-жа К., которая во многих отношениях была исключением из правил, с самого начала недвусмысленно дала нам понять, что отрицание совершенно необходимо ей, чтобы сохранить рассудок. Хотя многие сотрудники больницы считали ее психически больной, тестирование показало, что, вопреки внешним проявлениям, ее восприятие действительности ничуть не исказилось. Благодаря этому мы поняли, что она неспособна смириться с мнением домашних, которые полагали, что «чем раньше наступит смерть, тем лучше». Она не могла смириться с прекращением существования в этом возрасте, когда только испытала счастье воспитания детей. По этой причине г-жа К. отчаянно пыталась укрепить в себе веру в знахаря, который заверил ее в полном выздоровлении.
Однако другая сторона ее души полностью осознавала реальность болезни. Пациентка ни разу не пыталась покинуть больницу; вообще говоря, она старалась только приспособиться к этому режиму, окружила себя множеством любимых вещей, словно собираясь провести в палате долгое время (она так и не вышла из больницы и скончалась там). Кроме того, она подчинилась установленным врачами ограничениям: за редкими исключениями ела только то, что ей позволяли. Позже она признавалась, что не может примириться с таким количеством запретов, которые причиняли ей больше мучений, чем сама смерть. Случаи переедания и употребления запретной пищи можно даже счесть попыткой самоубийства, так как эти нарушения режима действительно могли вызвать скоропостижную смерть, если бы не активное вмешательство врачей.
Таким образом, в определенном смысле эта пациентка демонстрировала резкие скачки от практически полного отрицания своей болезни до настойчивых попыток приблизить неминуемую смерть. Отвергнутая семьей, избегаемая сотрудниками больницы, она превратилась в довольно жалкую фигуру: растрепанная молодая женщина, в одиночестве съежившаяся на краю кровати и снимающая телефонную трубку, чтобы услышать хоть чей-то голос. Временным прибежищем стали для нее чудесные видения цветов и нежной заботы, которую она никогда не чувствовала наяву. Она была лишена достаточно твердой религиозной веры, которая помогла бы преодолеть этот кризис. По этой причине для того, чтобы она смогла смириться со своей смертью без самоубийства и психоза, потребовались недели, месяцы подчас безмолвного дружеского присутствия.
У членов нашей группы эта молодая женщина вызывала самые разнообразные реакции. Сначала мы просто не могли поверить в происходящее. Как она может делать вид, что совершенно здорова, если ее питание пришлось настолько ограничить? Почему она остается в больнице и терпит многочисленные осмотры, если убеждена в полном выздоровлении? Вскоре мы поняли, что она не готова выслушивать подобные вопросы, после чего попытались лучше познакомиться с ней, беседуя на другие, менее болезненные темы. То, что она была молода и жизнерадостна, имела маленьких детей и бесчувственного мужа, оказало большое влияние на наши попытки помочь ей вопреки затянувшемуся отрицанию. Мы позволяли ей отрицать болезнь как угодно долго, ведь это было необходимо для продолжения ее жизни; мы оставались рядом на протяжении всего срока ее пребывания в больнице.
Когда сотрудники больницы начали вести себя по отношению к ней отчужденно, большую часть нашей группы это возмутило. Уходя, мы намеренно не прикрывали дверь ее палаты, но, когда приходили в следующий раз, она неизменно была плотно закрыта. Привыкнув к странностям г-жи К., мы перестали считать их чем-то необычным — напротив, они начали обретать смысл, что еще больше осложнило наши попытки понять мотивы медсестер, которые избегали общения с этой пациенткой. В последние дни ее жизни мы воспринимали все очень остро, возникло ощущение, будто мы единственные, кто знает некий иностранный язык и может говорить на нем с человеком, которого никто другой не понимает.
Без сомнений, мы тесно сблизились с этой больной, позволили себе выйти за обычные рамки отношений сотрудника больницы с пациентом. Пытаясь разобраться в причинах такой сопричастности, мы должны добавить, что нас очень расстраивало отсутствие членов семьи г-жи К., которые могли бы сыграть более полезную роль в этой трагической истории. Вероятно, наше возмущение выразилось в том, что мы приняли на себя роль утешающего посетителя, которым, как мы считали, должен был стать муж пациентки. Впрочем, кто знает? Возможно, в нашем стремлении выйти за привычные рамки отразилась подсознательная надежда на то, что однажды, в будущем, если жизнь уготовит нам сходную судьбу, нас тоже не оттолкнут, не оставят в одиночестве. В конце концов, эта пациентка была молодой женщиной, матерью двоих детей, и теперь, оглядываясь в прошлое, я подумываю о том, что, пожалуй, с подозрительно большой готовностью поддерживала ее жесткое отрицание истины. Эти рассуждения показывают важность внимательной оценки собственных реакций на общение с пациентами, поскольку наши чувства всегда отражаются в поведении больных и могут принести им как пользу, так и вред. Честность перед собой будет способствовать нашему собственному развитию и зрелости восприятия. И с этой точки зрения нет ничего полезнее общения со стариками, тяжелобольными и умирающими.
ГЛАВА IV.
ВТОРОЙ ЭТАП: ГНЕВ
Мы неверно читаем мир, а потом утверждаем, что он нас дурачит.
Тагор, «Отбившиеся птицы»
Первой реакцией на ужасную весть становится мысль:
«Неправда, со мной такого случиться не может». Но позже, когда человек наконец-то понимает: «Да, ошибки нет, это действительно так», у него возникает другая реакция. К счастью или сожалению, очень немногие больные способны до самого конца цепляться за выдуманный мир, в котором они остаются здоровыми и счастливыми.
Когда пациент уже не в силах отрицать очевидное, его начинают переполнять ярость, раздражение, зависть и негодование. Возникает следующий логичный вопрос: «Почему именно я?» Как выразился один из наших больных, доктор Г.: «Подозреваю, на моем месте практически любой думал бы, глядя на другого человека: ну почему эта беда случилась со мной, а не с ним? Я несколько раз ловил себя на такой мысли… По улице проходил один старик, которого я помню еще с детства. Ему восемьдесят два года, и он, как некоторые поговаривают, уже давно не жилец. Он скручен ревматизмом и хромает, он весь грязный — в общем, из тех, каким никто не хотел бы стать в старости. Тогда я как раз и подумал: почему судьба выбрала меня, а не старого Джорджа?» (выдержка из беседы с доктором Г.).
В противоположность этапу отрицания, с этапом гнева и ярости семье больного и сотрудникам больницы справиться очень трудно. Причина заключается в том, что возмущение пациента распространяется во всех направлениях и временами выплескивается на окружающих совершенно неожиданно. Врачи оказываются недостаточно хорошими специалистами, они не понимают, какие анализы нужно взять, какое питание назначить; они либо слишком долго держат пациента в больнице, либо не принимают во внимание его желания, требования особых привилегий; они допускают, чтобы в палату пациента положили очень неприятного больного, хотя получают большие деньги за уединение и покой, и так далее. Впрочем, еще чаще объектом раздражения становятся сестры. Что бы они ни делали, все неправильно. Стоит медсестре выйти из палаты, как пациент нажимает на кнопку звонка: огонек загорается в ту самую минуту, когда сестра начинает сдавать дежурство сменщице. Когда медсестра взбивает подушку и поправляет постель, ее тут же обвиняют в том, что больному не дают ни минуты покоя, но как только этот больной остается в одиночестве, он нажимает кнопку звонка и требует, чтобы его устроили в кровати удобнее. Больной встречает членов семьи без доброжелательности, ведет себя так, словно не ждал их прихода, что превращает посещение в мучительное событие. Родственники откликаются на такой прием скорбью и слезами, чувством вины и стыда, могут даже начать избегать новых визитов, но это только усиливает раздражение и злость больного.
Проблема заключается в том, что лишь немногие люди пытаются поставить себя на место больного и представить, что может означать эта раздражительность. Скорее всего, мы чувствовали бы то же самое, если бы наш привычный образ жизни прервался так преждевременно. Все, что мы начали создавать, останется незавершенным или будет закончено другими. Заработанные тяжким трудом средства, которые были отложены, чтобы насладиться несколькими годами отдыха и удовольствий, путешествий и любимых занятий, теперь воспринимаются как наследство, предназначенное не для нас. И что делать с этой злостью? На кого ее выплеснуть? Только на тех людей, которые, вероятнее всего, воспользуются плодами наших трудов. На тех, кто деловито пробегает мимо и этим словно напоминает, что мы уже не можем встать на ноги. На тех, кто назначает неприятные лечебные процедуры и затягивает срок нашего пребывания в больнице, сковывает нас ограничениями и запретами, берет за это деньги, а вечером отправляется домой и радуется жизни. На тех, наконец, кто приказывает нам лежать спокойно, чтобы все эти иглы для вливаний и переливаний не сдвинулись с места, хотя мы готовы из кожи вон лезть, лишь бы сделать еще одно движение и убедиться, что мы еще на что-то годны!
На чем бы ни остановился взгляд больного в этот период, всюду он видит поводы для недовольства. Включая телевизор, он видит группу веселых молодых людей, исполняющих какой-то современный танец, что невероятно раздражает пациента, ведь все его движения болезненны и скованны. Переключая каналы, он натыкается на вестерн, где хладнокровно убивают людей, а свидетели этого продолжают потягивать пиво — глядя на них, пациент сравнивает зевак со своей родней и сотрудниками больницы. Наконец, он может посмотреть выпуск новостей, составленный из репортажей о катастрофах, войнах, пожарах и других трагедиях — но миру нет никакого дела до бед и проблем одного-единственного человека, которого вскоре окончательно забудут. И тогда пациент начинает делать все возможное, чтобы его не забыли: повышает голос, чего-то требует, жалуется и просит уделить ему внимание. Это просто последний крик: «Я еще жив, не забывайте об этом. Вы слышите? Я еще не умер!»
Если к больному относятся с уважением и пониманием, уделяют ему время и внимание, тон его голоса скоро станет нормальным, а раздраженные требования прекратятся. Он будет знать, что остается значимым человеком, что о нем заботятся, хотят помочь ему жить как можно дольше. Он поймет: для того, чтобы его выслушали, не обязательно прибегать к вспышкам раздражения. Нет нужды давить на кнопку звонка — к нему и так будут заглядывать достаточно часто, так как это не тягостная обязанность, а приятные хлопоты.
Трагедия, вероятнее всего, заключается в том, что мы не задумываемся о причинах раздражения больного и принимаем его на свой счет, хотя в действительности оно никак не связано с теми, кто становится мишенью гнева. Однако если врачи и члены семьи считают, что пациент рассержен лично на них, они тоже начинают испытывать раздражение и только укрепляют враждебное отношение больного. Они могут избегать его, сократить частоту посещений и осмотров либо пускаться в бессмысленные споры, пытаясь отстоять свою точку зрения — не понимая при этом, что выбранный больным предлог совершенно не связан с подлинными причинами его поведения.
Примером обоснованного гнева, вызванного реакцией сиделки, может послужить случай г-на К. На протяжении нескольких месяцев он был прикован к постели; днем ему лишь на несколько часов позволяли отключать аппарат искусственного дыхания. Прежде он вел очень деятельную жизнь и теперь тяжело переживал такое обездвиженное состояние. Он прекрасно понимал, что дни его сочтены, и больше всего мечтал о том, чтобы его тело переводили в различные положения (больной был парализован до самой шеи). Он упрашивал сиделку никогда не поднимать боковые поперечины кровати, поскольку при этом чувствовал себя лежащим в гробу. Сиделка, относившаяся к своему подопечному с неприязнью, пообещала, что перила будут опущены. Медсестру очень раздражало, когда ее отвлекали от чтения. Она понимала, что пока это желание выполняется, пациент не станет ее беспокоить.
Во время моего последнего визита к г-ну К. я застала этого обычно спокойного человека в ярости. Глядя на сиделку с возмущением и недоверием, он твердил ей: «Вы меня обманули!» Я спросила, в чем причина их размолвки, и он попытался объяснить мне, что сиделка подняла боковые поперечины кровати, когда он попросил ее приподнять его, чтобы получить возможность «еще разок» свесить ноги к полу. Не менее разъяренная сиделка несколько раз вмешивалась в этот рассказ и поясняла, что не могла выполнить его просьбу, не приподняв перила кровати. Они пустились в словесную перепалку; гнев сиделки отчетливо проявился в таком, например, заявлении: «Если бы я не подняла их, вы просто свалились бы с кровати и свернули себе шею!» Оценивая этот инцидент с точки зрения реакций обеих сторон, а не моральных суждений, мы должны прежде всего отметить, что сиделка избегала больного: сидела в уголке с книгой и любой ценой старалась добиться от него молчания. Уход за смертельно больным человеком вызывал у нее неловкость: она делала только то, о чем он ее просил, и никогда не пыталась с ним поговорить. Она исполняла свои «обязанности», оставалась с ним в одной комнате, но полностью отдалялась от больного эмоционально. Только так эта женщина могла делать свою работу. Она желала пациенту скорейшей смерти («…свернули бы себе шею»), откровенно требовала, чтобы он тихо и спокойно лежал на спине (словно в гробу). Она негодовала, когда он попросил сдвинуть его с места, так как смена положения тела означала для него сохранение признаков жизни. Однако сиделка пыталась отговорить больного от этого. Очевидно, она так боялась близости смерти, что ей пришлось защищаться от своих страхов путем отчуждения и отрицания. Она хотела, чтобы пациент лежал молча, но это лишь усилило его боязнь неподвижности и гибели. Его лишили общения, он чувствовал себя одиноким и совершенно беспомощным перед лицом страдания и нарастающего гнева. Когда его последняя просьба была встречена новыми ограничениями (символическим замыканием окружающего пространства с помощью поперечных перил), прежде подавлявшееся раздражение выплеснулось наружу и привело к неприятной ссоре. Если бы сиделка не испытывала такого чувства вины из-за собственных разрушительных желаний, она, вероятно, не заняла бы оборонительную позицию и не вступала с больным в спор, то есть прежде всего не допустила бы подобного инцидента, позволила пациенту выразить свои чувства и скончаться в более умиротворенном состоянии (смерть наступила через несколько часов).
Я воспользовалась этим примером, чтобы подчеркнуть важность терпимости к раздражению больного, разумному или иррациональному. Нет нужды говорить, что мы можем вести себя так, только если сами не испытываем страха и не прикрываемся защитными механизмами. Нам нужно научиться выслушивать пациентов, временами мириться с их иррациональным гневом, понимая, что всплеск эмоций принесет им облегчение и поможет спокойнее встретить свой последний час. Это станет возможным только в том случае, если мы уже осмыслили собственный страх смерти и свои разрушительные желания, осознали подсознательные защитные механизмы, которые могут помешать правильному уходу за больным.
Еще одним трудным пациентом был мужчина, который всю жизнь руководил людьми. Когда ему пришлось расстаться со своей властью, он откликнулся на это раздражением и гневом. Я говорю о г-не О., госпитализированном с болезнью Ходжкина, которая, по его собственным словам, была вызвана неправильным режимом питания. Г-н О. был обеспеченным и удачливым предпринимателем. Он никогда не страдал от проблем с питанием и не прибегал к диете, чтобы сбросить лишний вес. Его версия была совершенно неправдоподобной, однако больной настаивал на том, что сам виноват в этом «недомогании». Такое отрицание сохранялось, несмотря на лучевую терапию, высокий уровень образованности и эрудированности пациента. Г-н О. заявлял, что все зависит только от него: если ему вдруг захочется нормально поесть, он тут же вскочит с постели и покинет больницу.
Однажды в мой кабинет со слезами на глазах вошла его жена. Она сказала, что уже не выдерживает. Ее муж всегда был тираном, жестко следил за делами и домашним бытом. Теперь, лежа в больнице, он отказывается рассказывать кому бы то ни было о текущих деловых операциях. Он рассердился на жену, когда она пришла его проведать, и впал в неистовство после того, как она попыталась расспросить его о делах и что-нибудь посоветовать. Г-жа О. попросила помощи, она не знала, как справиться с властным, требовательным и деспотичным человеком, который отказывается признать ограниченность своего положения и не отвечает на вопросы, настоятельно требующие решения.
Мы объяснили г-же О. (на примере его стремления обвинять в своем «недомогании» только себя), что ее муж хочет управлять любыми обстоятельствами. Мы предложили ей усилить его ощущение власти в тот период, когда он в действительности перестал управлять происходящим. Так она и поступила: продолжала ежедневно навещать его, но предварительно звонила по телефону и всякий раз интересовалась, когда ему будет удобнее с ней встретиться и какой срок он хочет на это выделить. Как только он получил возможность определять время и продолжительность посещений, их встречи стали приятными, хоть и короткими. Кроме того, она перестала советовать ему, что следует есть и как часто можно вставать с кровати; вместо этого она пользовалась такими, например, утверждениями: «Я уверена, что только ты вправе решать, когда можно будет есть то-то и то-то». Он действительно снова начал нормально есть, но это случилось лишь после того, как сотрудники больницы и родные перестали объяснять ему, что нужно делать.
Сиделки воспользовались тем же подходом: позволили ему выбирать время внутривенных вливаний, смены постельного белья и прочих мелочей. Ничуть не удивительно, что он предпочитал проводить эти процедуры по прежнему расписанию, однако теперь они перестали быть поводом для раздражения и сопротивления. Жена с дочерью все легче воспринимали встречи с ним, но в то же время испытывали чувство вины и стыда за собственное отношение к тяжелобольному мужу и отцу: с ним было трудно ужиться и раньше, но теперь, теряя власть над происходящим вокруг, он стал совершенно невыносим.
Для консультантов, психиатров, священников и сотрудников больницы работать с такими пациентами особенно трудно, поскольку чаще всего у нас мало времени и очень много забот. Когда мы наконец выкраиваем свободную минуту и приходим к подобному больному, то обычно слышим: «Не сейчас, приходите позже». Самый простой выход — забыть о пациенте, похожем на г-на О., оставить его в покое, ведь, в конце концов, он сам нас к этому подталкивает. Мы дали ему шанс, но запасы нашего времени не бесконечны. Однако именно эти пациенты обычно больше всего страдают от одиночества, не только потому, что общаться с ними очень тяжело, но и по той причине, что первое время они вообще отказываются от общения и соглашаются на него только на своих условиях. В этом смысле богатому, преуспевающему и властному человеку, «важной персоне», намного тяжелее, чем другим пациентам, поскольку он лишается именно тех преимуществ, которые тешили его всю жизнь. В конечном счете все мы одинаковы, но господа О. просто не могут с этим согласиться. Они сражаются до самого конца и часто упускают возможность покориться смерти, смириться с окончательным исходом. Они вызывают у окружающих отторжение и раздражение, но, по сравнению с другими умирающими, пребывают в самом отчаянном положении.
Приведенная ниже запись беседы служит образцом раздражительности умирающего. Сестра И. была молодой монахиней, которую тоже положили в больницу в связи с болезнью Ходжкина. Кроме нее и меня в беседе принимал участие больничный священник. Разговор прошел во время ее одиннадцатой госпитализации.
Сестра И. была раздражительной, требовательной пациенткой. Своим несносным поведением она обидела немало друзей и сотрудников больницы. По мере ухудшения состояния она становилась настоящей проблемой, особенно для сиделок. За время пребывания в больницах она завела привычку ходить по палатам, разговаривать с тяжелобольными и расспрашивать, в чем они нуждаются. После этого сестра И. останавливалась перед дежурной комнатой медсестер и требовала, чтобы те позаботились о больных. Разумеется, медсестер возмущало постороннее вмешательство и бестактное поведение. Поскольку сестра И. сама была достаточно серьезно больна, сотрудники больницы не вступали с ней в открытые столкновения; их негодование проявлялось в том, что они сокращали визиты в палату пациентки, избегали разговоров и, в целом, ограничили с ней общение. Дела шли все хуже и хуже, и когда мы предложили свою помощь, все остальные восприняли новость о том, что кто-то хочет заняться сестрой И., с огромным облегчением. Прежде всего мы спросили ее, хочет ли она прийти на наш семинар, чтобы поделиться своими мыслями и чувствами. Она высказала готовность к разговору, который и состоялся — за несколько месяцев до ее смерти.
СВЯЩЕННИК: Сегодня утром мы уже немного поговорили о цели нашей встречи. Вы знаете, что врачи и медсестры хотят знать, как лучше заботиться о пациентах с достаточно серьезными болезнями. Нельзя сказать, что вы здесь старожил, но вас знают очень многие люди. Пока мы шли по коридору, а он, мне кажется, тянется метров двадцать пять, с вами поздоровались четыре сотрудника больницы.
ПАЦИЕНТКА: А перед этим натиравшая полы уборщица заглянула в палату только для того, чтобы поздороваться. Я никогда раньше ее не видела. Знаете, это было просто шикарно. Она сказала: «Простите, мне хотелось на вас взглянуть (смеется), такая уж я любопытная…»
ВРАЧ: Она никогда не видела в больнице монахинь?
ПАЦИЕНТКА: Может быть, ей хотелось увидеть монахиню, может, она просто слышала обо мне или заметила в коридоре, хотела о чем-то спросить, но потом передумала. Не знаю, попытаюсь уточнить. Она сказала: «Я просто хотела поздороваться».
ВРАЧ: Вы давно лежите в больнице? Нам бы хотелось узнать краткую историю вашего пребывания здесь.
ПАЦИЕНТКА: Уже одиннадцатый день.
ВРАЧ: Когда вас сюда положили?
ПАЦИЕНТКА: Вечером в прошлый понедельник.
ВРАЧ: Вы уже лежали здесь раньше?
ПАЦИЕНТКА: Да, я попала в больницу в одиннадцатый раз.
ВРАЧ: Одиннадцатая госпитализация? За какой срок?
ПАЦИЕНТКА: С 1962 года.
ВРАЧ: Значит, начиная с 1962 года, вылежали в больнице одиннадцать раз?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: По одной и той же причине?
ПАЦИЕНТКА: Нет. Первый диагноз мне поставили в 53-м году.
ВРАЧ: Понятно. Какой диагноз вам поставили?
ПАЦИЕНТКА: Болезнь Ходжкина.
ВРАЧ: Ясно.
ПАЦИЕНТКА: В этой больнице, в отличие от нашей, есть мощный прибор для облучения. И все же, когда меня перевели сюда, возник вопрос, правильно ли был поставлен диагноз раньше. Один врач осмотрел меня и уже через пять минут подтвердил, что так оно и есть… у меня именно эта болезнь.
ВРАЧ: Болезнь Ходжкина?
ПАЦИЕНТКА: Да. Но другие врачи посмотрели на снимки и сказали, что это ошибка. В последний раз я легла сюда, потому что все мое тело покрылось сыпью. Даже не сыпью, а нарывами, я расцарапывала их, слишком сильно чесалось. Просто вся была в язвочках. Было такое чувство, словно у меня проказа, а они считали, что проблемы психологические. Тогда я сказала, что у меня болезнь Ходжкина, но они заверили, что я просто внушила себе это, в том-то и заключается психологическая проблема. Они уже не могли найти наросты, которые были в прошлом, когда я страдала этой болезнью. Дело в том, что я лечила их дома облучением. И они сказали, что теперь этой болезни нет. Я же уверяла, что по-прежнему больна и чувствую себя так же, как и раньше. Врач спросил: «Как же вы сами считаете?» Я ответила: «Это все из-за болезни Ходжкина», а он сказал: «Вы совершенно правы». Спасибо ему, он вернул мне уважение к себе. Я поняла, что наконец-то встретила человека, который займется лечением моей болезни и не будет уверять меня, что в действительности я здорова.
ВРАЧ: В том смысле, что?.. (Магнитофонная запись неразборчива). Итак, это было психосоматическое расстройство.
ПАЦИЕНТКА: Да, им было очень удобно считать, что это психологическая проблема и что я просто внушила себе, что у меня болезнь Ходжкина. А все потому, что они не смогли нащупать уплотнения в области живота: венограмма их показывает, а обычное прощупывание не выявляет. Что сказать? Мне не очень повезло, но, видимо, я должна была через это пройти.
СВЯЩЕННИК: Вы почувствовали облегчение?
ПАЦИЕНТКА: Конечно, ведь проблему нельзя было решить, пока ее считали нервной. Мне пришлось доказывать, что я физически больна. И я не могла даже обсудить ее с кем-то, потому что чувствовала: они мне не верят. Вы, наверное, понимаете, еще немного — и мне пришлось бы скрывать язвочки. Я отстирывала окровавленную одежду, но это было выше моих сил. Я чувствовала недоверие. Думаю, они ждали, пока я сама начну избавляться от своих проблем.
ВРАЧ: По профессии вы медсестра?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Где вы работаете?
ПАЦИЕНТКА: В больнице Святого Фомы. Когда все это началось, меня как раз вновь назначили главной медсестрой. Мне оставалось полгода до получения диплома, но руководство решило, что мне лучше вернуться в школу и преподавать анатомию с физиологией. Я сказала, что это невозможно. Сейчас там учат сложной химии и физике, а я прошла последний курс химии десять лет тому назад, за эти годы программа совершенно изменилась. Летом меня отправили прослушать курс органической химии, но я провалилась на экзамене, впервые за всю жизнь. В тот же год умер мой отец, его дело разваливалось, а три моих брата ссорились из-за того, кто должен им руководить. Это было так грустно, я даже не подозревала, что в семье могут быть такие отношения. Затем они потребовали, чтобы я продала им свою долю. Я вообще удивилась, что получила долю в семейном деле, а потом все вообще пошло не так, как я могла рассчитывать: меня все-таки перевели на другую работу, пришлось заняться преподаванием, а я совсем не была к этому готова. Конечно, возникло много психологических трудностей, все лето тянулись семейные неурядицы, а в декабре, когда я сильно простудилась, пришлось приступить к преподаванию. Мне было так трудно, я чувствовала себя совсем больной и решила пойти к врачу. Впрочем, во второй раз я к нему так и не обращалась. Я всегда была требовательна к себе. Мне нужно было убедиться, что симптомы объективны, что на термометре достаточно высокая температура — тогда не придется никого ни в чем убеждать. Чтобы тебя лечили, нужен веский повод, понимаете?
ВРАЧ: Вы говорите совсем не так, как остальные пациенты. Обычно они пытаются отрицать, что больны, а вам пришлось самой доказывать, что это правда.
ПАЦИЕНТКА: Я не могла добиться внимания иным путем. Доходило до того, что мне действительно необходима была помощь, возможность просто полежать, когда чувствуешь себя совершенно отвратительно. А притворяться или упрашивать…
ВРАЧ: Вы полагаете, что не смогли бы добиться помощи, профессиональной помощи, если бы это было нервное расстройство? Возможно, вы считали, что нервных проблем у вас вообще быть не может?
ПАЦИЕНТКА: Думаю, они пытались лечить только симптомы. Они, конечно, не запрещали мне принимать аспирин, но я чувствовала, что не добьюсь правды, если сама ее не узнаю, и потому обратилась к психиатру (Пациентку обвиняли в симуляции, хотя сама она считала, что разнообразные симптомы вызваны подлинной физической болезнью. Чтобы убедиться в этом, она обратилась к психиатру, и тот подтвердил ее правоту. — Прим. автора.). Он сказал, что мое нервное расстройство вызвано продолжительным физическим нарушением здоровья. Психиатр относился ко мне именно так: настоял на том, чтобы меня увозили с работы домой, обеспечили не меньше десяти часов отдыха в день, давали гигантские дозы витаминов. Психиатр относился ко мне как терапевт, а терапевт хотел лечить психологически.
ВРАЧ: Иногда все переворачивается вверх дном.
ПАЦИЕНТКА: Верно. Но я очень боялась встречи с психиатром. Я думала, что это вызовет новые трудности, но все обернулось к лучшему. Он защитил меня от травли. Знаете, сначала они были довольны, что я к нему обратилась. Настоящий фарс, ведь он относился ко мне именно так, как нужно было.
ВРАЧ: Как должен был относиться терапевт.
ПАЦИЕНТКА: Тем временем я проходила лучевую терапию. Мне давали лекарства, но потом прекратили, так как решили, что у меня колит. Радиолог счел, что боли в животе означают колит, и лечение прекратили. Они добились определенного улучшения, но сделали не достаточно для того, чтобы симптомы постепенно и незаметно исчезли. Понимаете, они не замечали проявлений болезни, не чувствовали этих уплотнений, просто проходили мимо тех участков, где болело.
ВРАЧ: Давайте подведем итог, окончательно проясним, что тогда произошло. Вы сказали, что, когда у вас нашли болезнь Ходжкина, в вашей жизни одновременно возникло немало проблем. Примерно в то же время скончался ваш отец, семейное дело было под угрозой краха, и родня требовала, чтобы вы отказались от своей доли, а начальство направило вас на работу, которая вам не нравилась. Правильно?
ПАЦИЕНТКА: Да,
ВРАЧ: Зуд, который является хорошо известным симптомом болезни Ходжкина, даже не принимали во внимание, не считали его симптомом физической болезни. Врачи решили, что это нервное расстройство, терапевт относился к вам как психиатр, а психиатр, напротив, как терапевт?
ПАЦИЕНТКА: Да, и в результате врачи перестали мной заниматься, оставили попытки меня лечить.
ВРАЧ: Почему?
ПАЦИЕНТКА: Я отказывалась согласиться с поставленным диагнозом, а они ждали, пока я возьмусь за ум.
ВРАЧ: Понятно. Как вы восприняли новость о том, что у вас болезнь Ходжкина? Какие чувства это у вас вызвало?
ПАЦИЕНТКА: Когда я впервые… понимаете, я поставила себе этот диагноз по симптомам, почитала кое-какие книги и сказала о своем выводе врачу, но он ответил, что нам не стоит сразу подозревать самое худшее. Но после операции он подтвердил эти опасения, и я сомневалась, что проживу еще больше года. Чувствовала я себя довольно плохо, но как бы забыла об этом и рассуждала так: ладно, буду жить, пока жива. Но после I960 года, когда начались все эти проблемы, у меня уже не было улучшений, иногда я чувствовала себя совершенно разбитой. Теперь, когда все выяснилось, никто уже и виду не подает, что раньше они не верили в мою болезнь. Дома тоже ничего не говорили. Я вернулась к тому же врачу, который в свое время прервал лучевую терапию, но и он не сказал ни слова, за исключением того случая, когда у меня вновь проявились уплотнения. Он тогда был в отпуске, а когда вернулся, я ему об этом рассказала. Думаю, он говорил со мной откровенно. Были и другие, они саркастически твердили, что у меня никогда не было болезни Ходжкина, а возникавшие уплотнения были связаны с воспалительными процессами. Я чувствовала эту иронию, они были уверены, что понимают все лучше меня, они уже все решили. Он же, во всяком случае, был откровенным, пояснил, что все это время ждал каких-то объективных свидетельств. С другой стороны, здешний врач сказал мне, что тот человек за всю жизнь сталкивался разве что с пятью подобными случаями, и они мало чем друг от друга отличались. Мне действительно трудно все это понять. Он все звонил сюда, в эту больницу, и расспрашивал о дозировках лекарств и тому подобном. Я не хотела бы, чтобы он лечил меня постоянно, мне кажется, он с этим просто не справился бы. Я имею в виду, что если бы не попала сюда, то вряд ли дожила бы до этого дня. В нашей больнице не было такого оборудования, а врач, по существу, не понимал принципа действия лекарств. Он учился на каждом новом пациенте, а у здешних врачей до меня было больше пятидесяти больных с такой же болезнью.
ВРАЧ: Хорошо. Скажите, что это значит для вас — быть такой молодой и страдать болезнью, которая рано или поздно приводит к смерти, иногда за короткий срок?
ПАЦИЕНТКА: Я не так уж молода, мне сорок три года. Вы считаете это молодостью?
ВРАЧ: Я надеюсь, что вы тоже так считаете (смеются).
СВЯЩЕННИК: Это важно для всех нас?
ВРАЧ: Во всяком случае, для меня.
ПАЦИЕНТКА: Если раньше я и задумывалась об этом, то теперь совершенно не думаю, потому что видела… например, прошлым летом. Я провела здесь все лето и видела, как умирал от лейкемии четырнадцатилетний мальчик. Я видела, как умирают пятилетние дети. Все лето рядом со мной лежала девятнадцатилетняя девушка, она мучилась страшными болями и депрессией, ведь она не могла снова побывать на пляже с друзьями. Я прожила дольше этих людей и не могу сказать, что у меня возникло ощущение завершенности. Я не хочу умирать, мне нравится жить. Пару раз у меня случались приступы паники, когда я чувствовала, что рядом нет никого и никто ко мне не придет. Это бывало, когда начиналась сильная боль, понимаете? Я не тревожу медсестер, то есть стараюсь сама делать то, что могу, но при этом часто думаю, что они даже не подозревают, как я себя чувствую. Дело в том, что они не заходят ко мне, ни о чем не спросят. Знаете, мне иногда нужно просто почесать спину, это действительно нужно, но медсестры заглядывают лишь время от времени и делают только то, что положено делать тяжелобольным. Я не могу сама почесать себе спину, просто сбрасываю с кровати одеяло и извиваюсь на голой сетке. Все остальное я делаю сама, даже если это получается медленно и временами причиняет боль. Думаю, для меня так даже лучше, но из-за этого они ко мне не заглядывают, и мне кажется, их вообще… я часами думаю, я боюсь, что однажды, если у меня начнется кровотечение или случится шок, то меня найдет уборщица, а не медсестра. Знаете, они просто входят и дают тебе таблетку — а я принимаю всего по две таблетки в день, разве что попрошу болеутоляющее…
ВРАЧ: Вас все это огорчает?
ПАЦИЕНТКА: Простите?
ВРАЧ: Это вас расстраивает?
ПАЦИЕНТКА: Это не так страшно, за исключением тех случаев, когда начинаются сильные боли либо я не могу сама подняться с кровати и никто не предлагает помощи. Я могла бы попросить о помощи, но не хочу думать, что когда-нибудь без нее не смогу обойтись. Думаю, они просто должны понимать, как идут дела у больных. Я не пытаюсь скрывать свои чувства… но когда ты стараешься и делаешь все, что можешь, самостоятельно, за это приходится платить свою цену. Понимаете, иногда я чувствовала себя совершенно разбитой, когда… знаете, после азотного иприта и других лекарств… начинался сильный понос, и никто не заходил ко мне, чтобы проверить стул, просто спросить, как дела, ведь я бегала в туалет по десять раз подряд. Мне пришлось самой сказать об этом медсестрам — ну, о том, что я десять раз ходила в туалет. Вчера вечером я знала, что утренний рентген будет неправильный, потому что до того мне дали слишком много бария. Пришлось напомнить им, что мне нужно не меньше шести таблеток, чтобы пройти сегодня рентген. Я помню все это, ведь сама была сиделкой. Во всяком случае дома, в нашей лечебнице, медсестры заходят и спрашивают, они действительно относятся ко мне как к пациентке, а тут-просто не знаю… может, я сама во всем виновата, но, в общем-то, мне нечего стыдиться. Я рада, что делаю для себя все, что могу, хотя пару раз, когда у меня начинались сильные боли, на звонки никто не отвечал. Кроме того, я не уверена, что они поспеют вовремя, если случится что-то серьезное. Думаю, они ведут себя так не только со мной, но и со всеми. Раньше я ходила по палатам, говорила с больными, чтобы выяснить, насколько они больны. Потом я подходила к столу дежурной медсестры и говорила: «Той-то и той-то нужно снять боли». Мне приходилось ждать по полчаса…
ВРАЧ: И как реагировали на это медсестры?
ПАЦИЕНТКА: По-разному, хотя только одна из них, ночная сиделка, вызвала у меня настоящее возмущение. Понимаете, за день до того какая-то пациентка вошла ночью ко мне в палату и просто забралась в мою постель. Я сама медсестра, так что не очень испугалась: включила свет и стала ждать. Дело в том, что эта дама перебралась через поручень своей кровати и пошла бродить по больнице, ее забыли пристегнуть ремнем. Я никому ничего не сказала, позвала медсестру, и мы вдвоем отвели женщину в ее комнату. На следующую ночь та же больная свалилась с кровати. Наши палаты рядом, и я пришла туда первой. Понимаете? Я оказалась там раньше медсестры. Был еще случай: одна девушка лет двадцати… она умирала и очень громко стонала, я просто не могла спать. В этой больнице есть такое правило: никакого снотворного после трех часов ночи. Не знаю почему, так уж повелось. Даже если тебе плохо… почему бы мне не принять легкий хлоралгидрат, от которого на утро никаких последствий? Это ведь поможет. Но для них правила значат больше, это важнее, чем час или два нормального сна. Такова здешняя политика. Это относится даже к тем лекарствам, которые не вызывают привыкания. Просто нельзя: если врач назначил полторы таблетки кодеина раз в четыре часа, ты не получишь новую порцию до пяти. Понимаете, о чем я? Что бы ни случилось, повторную дозу тебе дадут не раньше, чем через четыре часа! Даже если препарат не вызывает привыкания! Принципы не меняются. У пациента боли, ему нужно лекарство — сейчас, а не через четыре часа, тем более это лекарство не вызывает привыкания.
ВРАЧ: Вас возмущает недостаток индивидуального внимания? Заботы о каждом? В этом причина вашего огорчения?
ПАЦИЕНТКА: Нет, дело не только в индивидуальном подходе. Они просто не понимают, что такое боль. Если человек никогда ее не испытывал…
ВРАЧ: Значит, вас больше всего беспокоит боль?
ПАЦИЕНТКА: Боль имеет значение, когда речь идет о больных раком, которых я повидала немало. И меня возмущает, что этих людей всеми силами стараются не превратить в наркоманов, хотя они не успеют привыкнуть к лекарствам, они столько не проживут. В том крыле есть одна медсестра, так она просто прячет шприц за спиной и пытается их переубедить — даже в последние минуты жизни! Она боится сделать кого-то наркоманом. Но такой пациент долго не протянет, ему необходимо обезболивающее, потому что иначе он не может ни есть, ни спать. При таких болях ты не живешь, а просто существуешь. А после укола он, по меньшей мере, снова может жить, чему-то радоваться, говорить… Он еще живет. Кроме того, в таком положении ты отчаянно мечтаешь о том, что окружающие будут милосердными и принесут тебе облегчение.
СВЯЩЕННИК: Вы сами переживали подобное с тех пор, как стали лежать в больницах?
ПАЦИЕНТКА: Да, доводилось. И я обращала на это внимание. Думала, что это типично для этажей, где работают некоторые сиделки. Проблема где-то внутри, такое впечатление, что они перестали замечать чужие мучения.
СВЯЩЕННИК: Чем вы можете это объяснить?
ПАЦИЕНТКА: Думала, у них очень много забот. Но похоже, они просто такие и есть.
ВРАЧ: Какие именно?
ПАЦИЕНТКА: Я проходила мимо и видела, как они болтают, а потом идут на перерыв. И это приводит меня в ярость. Знаете, медсестра уходит на обед, а санитарка возвращается и говорит, что сестра внизу, ключи у нее, нужно немного подождать. Но больной попросил сделать ему укол еще до того, как медсестра ушла обедать! Думаю, на этом этаже всегда должен быть человек, который может прийти и дать тебе лекарство, чтобы ты не исходил потом еще полчаса, дожидаясь, пока они вернутся с обеда. Кстати, это совсем не значит, что они сразу кинутся к тебе: сначала ответят на телефонные звонки, изучат новое расписание и оставленные врачами распоряжения. Все это важнее, чем пациенты, медсестры даже не спрашивают, не просил ли кто-то из больных обезболивающее,
ВРАЧ: Простите, вы не возражаете, если мы… поговорим о другом? Мне бы хотелось использовать доступное нам время, чтобы обсудить самые разные темы. Вы не против?
ПАЦИЕНТКА: Да, конечно.
ВРАЧ: Вы упоминали, что видели… наблюдали за палатой, где лежали умирающие дети пяти и четырнадцати лет. Какие мысли это у вас вызвало? Какие чувства, какие образы?
ПАЦИЕНТКА: Вы имеете в виду, как я к этому отнеслась?
ВРАЧ: Да. Вы отчасти уже ответили на этот вопрос, сказали, что не хотите… не любите оставаться в одиночестве, что когда у вас обострение — сильные боли, острый понос или что-то еще, — вам хочется, чтобы кто-то заглянул в палату. Это значит, что вам не нравится оставаться одной. Вторая проблема — это боль. Если придется умирать, вы хотели бы, чтобы смерть пришла без мучений. И вы были не одна.
ПАЦИЕНТКА: Все это верно.
ВРАЧ: Как по-вашему, что еще важно? Нам хотелось бы узнать об этом. Конечно, не только для вас, но и для других пациентов.
ПАЦИЕНТКА: Я вспомнила Д. Ф. — он сходил с ума от вида голых, однообразных стен палаты, и та же сестра, которая не хотела никому давать обезболивающее, принесла ему красивые плакаты с пейзажами Швейцарии. Мы наклеили их на стены. Перед смертью Д. Ф. попросил сестру, чтобы она дала эти плакаты мне. Я проведывала его несколько раз, и мы с ним говорили об этих плакатах. Я поняла, как много они для него значили. Так делают во всех палатах. Мама той девятнадцатилетней девушки приходила к ней каждый день. Она принесла мне картон, мы наклеили картинки на него и повесили на стену без разрешения врачей — но мы прикрепили их клейкой лентой, чтобы не портить стены. Думаю, медсестра была против. С другой стороны, в этой больнице очень много красной клейкой ленты. Эти прекрасные пейзажи напоминают… должны напоминать если не о Боге, то, по крайней мере, о жизни. Но лично я вижу в картинах природы Бога. Вот что я имею в виду: если рядом есть нечто такое, что означает для тебя часть жизни, ты уже не чувствуешь себя одиноким. Этого и хотел Д. Ф. Что касается С., то ее окружали цветы, ей звонили по телефону, к ней часто приходили подруги. Думаю, если бы посещения запретили из-за того, что она очень больна, ей стало бы только хуже. Когда к ней кто-то приходил, она просто оживала, даже если в это время мучилась сильными болями. Иногда она просто не могла говорить. Знаете, я часто ее вспоминаю. Сестры из монастыря приходят ко мне только раз в неделю, а иногда вообще не появляются. Чаще всего обществом для меня становились посетители, приходившие к другим больным, к которым я заглядывала, но и это мне очень помогало. Когда мне хочется плакать, я знаю, что должна что-то сделать, прекратить жалеть себя, перестать думать о своей боли. Достаточно заставить себя пойти к кому-то другому и сосредоточиться на нем. Так я могу забыть о собственных мучениях…
ВРАЧ: Что случается, если вы не можете это сделать?
ПАЦИЕНТКА: Тогда… тогда мне хочется видеть людей, но они никогда не заходят.
ВРАЧ: Думаю, с этой проблемой мы вам поможем.
ПАЦИЕНТКА: Да. Но раньше ко мне никто не приходил (плачет).
ВРАЧ: Теперь многое изменится. В этом одна из целей нашего разговора.
СВЯЩЕННИК: Вы говорите, что раньше, когда вам нужно было общество, к вам никто не заходил?
ПАЦИЕНТКА: Очень редко. Я уже говорила: когда человек болен, его начинают избегать. Знаете, все думают, что тебе не хочется говорить, особенно если ты не отвечаешь на вопросы. Но достаточно просто посидеть рядом, чтобы больной знал, что он не один. Я имею в виду обычных посетителей. Если человек не против молитв, если он просто может тихо повторить с тобой «Отче наш», потому что ты сама уже несколько дней не в силах ее выговорить — произносишь: «Отче наш», а дальше все путается… Понимаете? Вы снова напомнили мне о важном. Знаете, если я ничего не могу дать людям, они уходят. Если бы я могла им что-то дать! Но есть очень много людей, которые даже не понимают, что нужно мне.
ВРАЧ: Это правда (сбивчивый разговор).
ПАЦИЕНТКА: И я действительно много получаю от них, когда начинаю болеть. Я беру очень много, но в такие периоды это мне уже не так нужно.
ВРАЧ: Ваши нужды возрастают, когда вы теряете возможность давать что-то другим?
ПАЦИЕНТКА: Да, и всякий раз во время болезни я начинаю тревожиться о денежной стороне, о том, сколько будет стоить лечение. А еще я боюсь, не уволят ли меня, пока я в больнице. Кроме того, меня волнует, что случится, если болезнь станет хронической и я навсегда останусь инвалидом. Каждый раз появляются новые страхи, и потому мне всегда нужна какая-то помощь.
ВРАЧ: Что происходит в вашей жизни вне больницы? Мы ничего не знаем о вашей биографии, о том, чем вы живете. Что вы чувствуете, когда теряете возможность работать? Вам помогают? Церковь, место, где вы работаете, или семья? Кто-то помогает?
ПАЦИЕНТКА: Да, конечно. Я уже три раза лежала в нашей местной больнице. Однажды вечером боль была такой сильной, что я едва дышала. Я вышла в коридор, постучала в дверь медсестры. Она сделала мне укол, а потом решила оставить в изоляторе. Это изолятор для наших сестер. В нем могут лежать только сестры, и поэтому там ужасно одиноко. Там нет ни телевизора, ни радио, нам это не положено. Разве что какие-то образовательные программы. Когда к тебе никто не заходит, хочется хоть чего-то, но подобные развлечения не приветствуют. Я договорилась с врачом, что он отпустит меня, как только боль успокоится и я смогу ее терпеть. Он знает, что мне очень нужно человеческое общество. Если я могу уйти в свою комнату, полежать там, переодеваться четыре-пять раз в день, спуститься на обед, то тогда я, по крайней мере, чувствую, что продолжаю жить. Мне уже не так одиноко. Мне часто доводилось сидеть в церкви без молитвы, так скверно я себя чувствовала — но зато рядом были другие. Понимаете, о чем я?
ВРАЧ: Конечно. Как по-вашему, почему вас так пугает одиночество?
ПАЦИЕНТКА: Нет, я не могу сказать, что оно меня пугает. Иногда мне нужно побыть наедине с собой. Я не это имела в виду. Просто в таких случаях я чувствую себя заброшенной, покинутой, не могу помочь себе самостоятельно. Если бы я была здоровой, у меня не возникало бы такой потребности в присутствии людей. Страшна не смерть, страшна пытка мучениями, от которых хочется волосы на голове рвать. Не беспокоит даже то, что ты уже несколько дней не мылась, потому что это требует больших усилий. Такое ощущение, что постепенно теряешь человеческий облик.
СВЯЩЕННИК: Чувство собственного достоинства, которое хочется сохранять как можно дольше?
ПАЦИЕНТКА: Да, но в одиночестве мне это не всегда удается.
ВРАЧ: Знаете, вы смогли выразить словами то, что мы делаем тут уже целый год, чего пытаемся добиться самыми разными способами. Мне кажется, вам удалось замечательно это описать.
ПАЦИЕНТКА: По существу, просто хочется оставаться человеком.
ВРАЧ: Личностью.
ПАЦИЕНТКА: Да. Я расскажу вам еще кое-что. В прошлом году меня отсюда выгнали. Из-за сломанной ноги мне пришлось перебираться домой, в нашу больницу, в инвалидном кресле. У меня был патологический перелом. Но любой, кто толкал мое кресло, доводил меня до исступления: все направляли его туда, куда хотели они, а не я. Я не всегда могла объяснить им, куда мне нужно. Мне проще было до изнеможения крутить колеса самой и все-таки добраться до уборной, чем объяснять кому-то, куда мне нужно попасть, а потом заставлять их ждать снаружи, пока я пользовалась туалетом. Понимаете? Меня часто называли очень независимой, хотя на самом деле я мало что могла делать сама. Мне приходилось оберегать свое достоинство, так как окружающие его просто растаптывали. Не думаю, что, когда мне действительно понадобится помощь, я откажусь от нее так же, как прежде. Беда в том, что та помощь, которую оказывает большинство людей, только приводит к неприятностям! Понимаете? Они добры, я понимаю, что они делают это искренне, и все же с нетерпением жду их ухода. У нас, например, есть одна сестра, которая заботится обо всех вокруг. Она постоянно предлагает помощь и обижается, если от нее отказываются. Мне, пожалуй, должно быть стыдно. Я знаю, что у нее больная спина. Таких отправляют в изолятор, а это не так уж приятно — там обычно только семидесятилетние сестры. Я сама встаю и поправляю постель, никого об этом не прошу. Но если она предложит поправить ее, а я откажусь, она решит, что я не доверяю ей как сиделке. Мне остается только скрипеть зубами и надеяться, что на следующий день она не появится, не будет рассказывать, что она совсем не спала ночью из-за болей в спине, — пока у меня не возникнет ощущение, будто это я виновата.
СВЯЩЕННИК: Гм… Она словно заставляет вас расплачиваться за полученную помощь?
ПАЦИЕНТКА: Именно.
СВЯЩЕННИК: Перейдем к другой теме?
ВРАЧ: Обязательно скажите нам, если устали.
ПАЦИЕНТКА: Пока нет, продолжайте. У меня впереди целый день, успею отдохнуть.
СВЯЩЕННИК: Как ваша болезнь сказалась на вере? Я имею в виду религиозную веру. Она усилила или ослабила вашу веру в Господа?
ПАЦИЕНТКА: Я не могу сказать, что болезнь как-то повлияла… я не задумывалась об этом с такой точки зрения. Я хотела отдать себя Господу, быть монахиней. Мне хотелось стать врачом и уехать в какую-нибудь миссию. Не сложилось… Знаете, я никогда не была за границей, долгие годы болела. Теперь я понимаю, что… в свое время я сама решила, что я хочу сделать для Бога. Это меня привлекало, и я решила, что такова Его воля. Но, как выяснилось, это не так. И я почти покорилась. Впрочем, если я когда-нибудь поправлюсь, мне снова захочется осуществить прежние мечты. У меня сохранилось желание изучать медицину. Я считаю, что врач в христианской миссии — это большое дело, это важнее, чем работа медсестры, хотя бы потому, что правительство накладывает на медсестер такие ограничения.
И все же я полагаю, что тут, в больнице, моя вера испытала самое серьезное потрясение. Болезнь тут ни при чем, причиной был один пациент, который лежал дальше по коридору. Он был еврей, очень добрый. Мы познакомились на рентгене, в небольшой приемной, где ждали своей очереди. Я вдруг услышала голос, он спросил: «Чему, интересно, вы так радуетесь?» Я посмотрела на него и ответила: «Не могу сказать, что очень радуюсь, но я и не боюсь того, что случится, если вы это имеете в виду». У него на лице появилось такое… по-настоящему циничное выражение. В общем, так мы и познакомились, а потом выяснили, что наши палаты совсем рядом. Он был еврей, но не благоверный, настоящее испытание для большинства раввинов. Однажды он подошел и сказал мне, что на самом деле никакого Бога нет, мы просто выдумали его, потому что он нам нужен. Знаете, я никогда о таком не думала. Он действительно верил в это. Я так думаю, потому что он не верил в загробную жизнь. С другой стороны, у нас была сестра-агностик, она говорила, что да, возможно, что именно Бог и создал этот мир. Думаю, вам именно это хотелось узнать. С этих людей все и началось. Она сказала мне: «Но с тех пор, как Бог сотворил этот мир, Он совершенно о нем не заботится». Я не встречала таких людей, пока не попала сюда. Знаете, мне впервые пришлось осмыслить собственную веру, ведь я всегда говорю: «Конечно, Бог есть — посмотрите на мир, на природу…» Но этому меня научили другие.
СВЯЩЕННИК: Эти два человека вызвали у вас сомнения в вере?
ПАЦИЕНТКА: Да. И в тех людях, которые меня учили. Разве у них больше прав, чем у этих людей, которые тоже обдумывали вопрос существования Бога? По существу, я выяснила, что у меня нет своей религии, только чья-то, чужая. Вот что сделал со мной М. — тот самый мужчина. Он всегда говорил что-то саркастичное. А медсестра, бывало, говорила: «Не знаю, почему я так забочусь о католической церкви, ведь я ее так ненавижу». Так бывало, когда она давала мне таблетку. Просто поддразнивала меня, беззлобно. Но М. действительно старался с почтением относиться к религии, он уважал меня. Он мог сказать: «О чем ты хочешь поговорить? Предлагаю обсудить Варавву». Я отвечала; «М., нельзя говорить о Варавве вместо Христа», а он говорил: «Да, это действительно разные вещи. Не огорчайся, сестричка». Он старался быть почтительным, но все равно меня поддразнивал. Знаете, как будто все это просто мистификация.
ВРАЧ: Он вам нравился?
ПАЦИЕНТКА: Да, до сих пор нравится.
ВРАЧ: А сейчас это происходит? Сейчас рядом есть такие люди?
ПАЦИЕНТКА: Нет, мы познакомились, когда я попала в больницу во второй раз. Но мы навсегда остались друзьями.
ВРАЧ: Вы до сих пор поддерживаете знакомство?
ПАЦИЕНТ: Он был здесь недавно, прислал мне чудесный букет цветов. И именно благодаря ему я наконец начала верить по-настоящему. Да, теперь это моя собственная вера — вера, а не теория или что-то еще. Я не знаю путей Господних, часто не понимаю того, что происходит, но верю, что Бог выше меня. Когда я вижу, как умирают молодые, вижу лица их родителей, слышу слова о том, что это несправедливо…Я замечаю все это, но говорю: «Бог—это любовь». Теперь я по-настоящему верю в это. Это не просто слова. Если Он — это любовь, то знает, что текущее мгновение в жизни каждого человека — лучшее. Неважно, много прожил человек или мало, но Бог не в силах дать им столько вечности. Иначе они будут целую вечность терпеть муки, а это еще хуже, чем устроено сейчас. Думаю, благодаря Его любви… только поэтому я могу смириться со смертью молодых, невинных душ.
ВРАЧ: Вы не могли бы ответить на один очень личный вопрос?
СВЯЩЕННИК: Минутку, всего минутку. Правильно ли я понял? Вы сказали, что теперь ваша вера стала крепче, чем в начале, вам легче мириться со своей болезнью? Этим все закончилось?
ПАЦИЕНТКА: Не совсем. Я имела в виду свою веру независимо от болезни. Дело не в болезни, просто М. вызвал у меня сомнения, хотя и неумышленно.
ВРАЧ: Теперь это ее вера, а не чужие убеждения, которым ее научили.
СВЯЩЕННИК: И причиной стало знакомство с другим человеком?
ПАЦИЕНТКА: Моя вера родилась тут. Это произошло здесь, в этой больнице. Понимаете, все эти годы я трудилась, я выросла в религиозном окружении, но только теперь поняла, что значат вера и доверие. Раньше я всегда искала на ощупь, старалась глубже понять. Я узнавала все больше, но от этого ничего не менялось, я всегда находила что-то новое. Я говорю М. так: «Если Бога нет, я ничего не потеряю, но если Он есть, я почитаю Его заслуженно, во всяком случае, как могу». А прежде это были чужие слова, что-то автоматическое, убеждения были связаны с моим воспитанием, вот и все. Я… я не почитала Бога. Я думала, что почитаю Его, но, поверьте, если бы кто-то тогда сказал, что я не верю в Бога, я бы просто оскорбилась. Теперь-то я понимаю разницу.
СВЯЩЕННИК: У вас был какой-то вопрос?
ВРАЧ: Да, у меня есть вопрос, но у нас осталось всего минут пять. Возможно, мы еще поговорим позже.
ПАЦИЕНТКА: Я хочу кое-что рассказать. Одна пациентка сказала мне: «Не приходи, чтобы сказать мне, что моя болезнь — Божья воля». Раньше я никогда не думала, что такое замечание может кого-то обидеть. Это была двадцатисемилетняя женщина, мать троих детей. Она сказала: «Ненавижу, когда мне об этом говорят. Я знаю только то, что это нестерпимая боль. Когда тебе больно, каменное лицо не сделаешь». В такое время человеку лучше сказать: «Ты очень страдаешь». Он почувствует, что кто-то понимает, через что ему приходится пройти, а не старается не обращать на это внимания и говорить о чем-то постороннем. Когда становится лучше, можно и поговорить о лучшем. Кроме того, я заметила, что люди просто не могут произносить слово «рак». Такое впечатление, что это слово само по себе причиняет боль.
ВРАЧ: Есть и другие подобные слова.
ПАЦИЕНТКА: Но для большинства их намного больше, чем для меня. Думаю, что в определенном смысле это очень милосердная болезнь — благодаря ей я так много узнала. Я нашла друзей, я встретила множество новых людей. Не знаю, насколько лучше болезнь сердца или, скажем, диабет. Я выглядываю в коридор и радуюсь тому, что у меня есть, не желая ничего другого. Я не завидую другим. Когда очень болен, о таких вещах не задумываешься, просто ждешь, что принесут тебе другие люди: боль или облегчение.
ВРАЧ: Какой вы были в детстве? Почему стали монахиней? Этого хотели родители?
ПАЦИЕНТКА: Я в семье одна такая. Нас было десять: пять мальчиков и пять девочек. Сколько себя помню, я хотела стать монахиней. Но, знаете, поскольку я немного изучала психологию, мне иногда интересно, почему это меня так манило. Я не похожа на своих сестер, они были вполне обычными, в духе маминого воспитания. Моя мама… понимаете, они возились дома по хозяйству и все такое, а я больше любила книги. Впрочем, я могу сказать, что поняла это только спустя много лет. Сейчас, когда я временами устаю быть монахиней, потому что это так трудно, я вспоминаю о том, что, если бы Господь захотел от меня чего-то другого, я приняла бы это как Божью волю. Он уже давно тем или иным способом указал бы мне иной путь. Но все-таки… я продолжаю думать об этом, я думаю об этом всю жизнь… Теперь я могу понять, что, пожалуй, была бы хорошей женой и матерью. С другой стороны, временами мне кажется, что монашеская жизнь — единственное дело, которым я могла бы заниматься, которым мне следовало заняться. Короче говоря, я стала монахиней не по принуждению, а по своей воле, хотя и не понимаю почему. Мне было тринадцать, когда я ушла, но обет я дала только в двадцатилетнем возрасте. Это значит, что у меня было достаточно времени, чтобы узнать эту жизнь, целых шесть лет на раздумья. Знаете, это очень похоже на брак: все зависит от твоего желания. Хочешь — выходишь замуж, не хочешь — нет. Думаю, я достаточно ясно все объяснила.
ВРАЧ: Ваша мать жива?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Расскажите о ней.
ПАЦИЕНТКА: Папа с мамой эмигрировали сюда из […]. Мама самостоятельно освоила язык. Она очень сердечный человек. Думаю, у них с отцом не было большого взаимопонимания. Он был художником, хорошим коммивояжером, а она — застенчивой, сдержанной женщиной. Теперь я понимаю, что она, должно быть, страдала от отсутствия надежности в жизни. Она высоко ценила замкнутость, и потому в нашей семье общительность, прогулки не поощрялись. А я как раз любила выходить из дому. Мне хотелось гулять по улицам, играть, а сестры предпочитали сидеть дома за рукоделием — и этим радовали маму. Я вступала в разные клубы и все такое, а теперь мне заявляют, что я погружена в себя. Мне всю жизнь трудно было оставаться в уединении…
ВРАЧ: Мне не кажется, что вы погружены в себя.
ПАЦИЕНТКА: Они сказали это всего пару недель назад. Я не часто встречала людей, с которыми можно поговорить… ну, о чем-то помимо повседневных забот. Меня интересуют самые разные вещи, но я никогда не встречала тех, с кем их можно было бы обсудить. Мое общение обычно сводилось к одноклассницам, когда рядом с тобой сидит бухгалтер… многие наши сестры не имеют такого образования, как у меня, и они, мне кажется, немного обижены. Знаете, они думают, будто ты считаешь себя выше, чем-то лучше. Когда сталкиваешься с подобным человеком, приходится быть сдержанной, лишь бы не дать ему повода так думать. Образование заставляет стать скромной, а не гордиться знаниями. Но я не собираюсь менять свою манеру речи. Если я знаю подходящее понятие, то не стану пользоваться упрощенными словами. Пусть считают, что это показное, на самом деле все не так. Я, конечно, могу говорить простыми словами, например, с ребенком, но не собираюсь менять словарный запас, чтобы угодить каждому собеседнику. Хотя временами мне хотелось научиться говорить как все, стать такой, какой меня хотят видеть. Сейчас такого желания уже не возникает. Теперь им придется научиться принимать меня такой, какая я есть. Возможно, я слишком много от них требую, но понимаю, что мне придется просто терпеливо ждать этого, торопиться мне некуда. Я многих раздражаю, но они сами виноваты в том, что у них возникают такие чувства. Я совсем не пытаюсь их злить.
ВРАЧ: Но и вас многие раздражают.
ПАЦИЕНТКА: Да, это правда, но как можно оставаться спокойной, если человек заявляет тебе, что ты погружена в себя, хотя сам все время говорит об одном и том же, как заезженная пластинка. Новое его не интересует, то, что происходит сейчас, тоже не волнует. Нельзя ведь вечно говорить только о вопросах прав человека…
ВРАЧ: Кого вы сейчас имеете в виду?
ПАЦИЕНТКА: Своих сестер по монастырю.
ВРАЧ: Понятно. Что ж, я с удовольствием поговорила бы еще, но, боюсь, нам пора уходить. Знаете, сколько мы уже беседуем?
ПАЦИЕНТКА: Почти час?
ВРАЧ: Уже больше часа.
ПАЦИЕНТКА: Да, вполне возможно. Я знаю, разговоры по душам затягивают.
СВЯЩЕННИК: Остался один вопрос. Быть может, вы тоже хотите задать нам какие-то вопросы?
ПАЦИЕНТКА: Мои рассказы вас не шокировали?
ВРАЧ: Нет.
ПАЦИЕНТКА: Я довольно откровенна. Боюсь, я несколько разрушила ваши представления о том, какой…
ВРАЧ: Какой должна быть монахиня?
ПАЦИЕНТКА: В общем, да.
СВЯЩЕННИК: Я могу заметить, что вы произвели на меня большое впечатление.
ПАЦИЕНТКА: Мне очень не хотелось бы, чтобы мои личные взгляды вызвали неприязнь к образу монахини. Я понимаю, что…
ВРАЧ: Не волнуйтесь, все в порядке.
ПАЦИЕНТКА: Понимаете, я не хочу, чтобы вы начали хуже думать о монахинях, врачах… или, например, медсестрах.
ВРАЧ: Не думаю, что начну думать о них хуже. Наоборот, нам очень понравилось, что вы оставались сами собой.
ПАЦИЕНТКА: Иногда я думаю о том, как им со мной трудно…
ВРАЧ: Полагаю, временами такое случается.
ПАЦИЕНТКА: Я монахиня и медсестра по профессии. Пожалуй, со мной действительно трудно.
ВРАЧ: Мне очень приятно знать, что вы не пытаетесь прикрываться обобщенной маской монахини и остаетесь собой.
ПАЦИЕНТКА: Но я говорю о другом, есть еще одна трудность. Дома я никогда не выхожу из своей комнаты без монашеского убора. Здесь это проблематично, и все же… бывают случаи, когда я готова выскочить прямо в халате, хотя дома это вызывало негодование у некоторых сестер. Они пытались забрать меня из этой больницы, считали, что я веду себя дурно. Я позволяю входить в свою комнату в любое время. У сестер все это вызывает потрясение. Они даже не задумываются, что могут дать мне именно то, чего я хочу, то есть приходить ко мне почаще. Кстати, сюда они действительно заглядывают чаще, чем в изолятор. Я лежала там долго, однажды целых два месяца, но меня проведывали только несколько сестер. Разумеется, они и так сидят в больнице на дежурствах, а в свободное время хотят вырваться подальше от всего этого. Мне даже доводилось объяснять это им, чтобы они больше не приходили. Понимаете, даже если я скажу, что хочу видеть их снова, они вряд ли в это поверят. Они убеждены, что у меня сильный характер, что мне лучше оставаться одной, что я их не ценю… А я не могу их упрашивать.
СВЯЩЕННИК: Вы хотите именно того, чтобы они поняли это без просьб?
ПАЦИЕНТКА: Не совсем. Просто я не умею просить, даже если это мне нужно.
СВЯЩЕННИК: Я думаю, это… вы очень хорошо нам все объяснили. Очень понятно. Пациентам важно сохранять чувство собственного достоинства. Им не хочется, чтобы приходилось о чем-то просить, чтобы с ними обращались как с куклами.
ВРАЧ: Если можно, я хотела бы закончить этот разговор небольшим советом, хотя и не люблю это слово. Думаю, временами, когда нам больно и трудно, когда мы чувствуем себя плохо, медсестрам не так легко определить, чего мы от них хотим, а чего не хотим. Поэтому мне кажется, что попросить о чем-то — это не так уж страшно, это не то же самое, что выпрашивать. Понимаете? Хотя, конечно, просить бывает довольно трудно.
ПАЦИЕНТКА: У меня очень разболелась спина. Когда буду проходить мимо столика дежурной, попрошу у нее обезболивающее. Не знаю, когда таблетка мне потребуется, но если я просто попрошу лекарство… это ведь будет достаточно? Боли возникают неожиданно, даже если выгляжу я нормально. Врачи сказали, что я должна стараться чувствовать себя комфортно… чтобы день проходил без болей, ведь мне скоро возвращаться на работу, а там придется проводить уроки независимо от того, болит что-то или нет. Мне приятно, что они это понимают: время от времени тебе просто необходимо освободиться от боли, хотя бы для того, чтобы все вокруг смогли передохнуть.
Беседа ясно показывает потребности этой пациентки. Ее переполняли раздражение и обиды, которые, по всей видимости, зародились еще в раннем детстве. В семье было десять детей, и она чувствовала там себя чужой. Ее сестры любили сидеть дома, заниматься рукоделием, и это радовало их мать. Сама пациентка была больше похожа на отца, ее тянуло на волю, хотелось многое повидать, но это означало бы огорчить маму. Судя по всему, пациентке пришлось сдерживать свои желания, характер, непохожесть на остальных сестер. В результате она стала монахиней, то есть «хорошей девочкой», радующей мать. Когда пациентка заболела, ей было уже под сорок; именно в то время она стала более требовательной, так как ей было все труднее оставаться «хорошей девочкой». Обида на сестер-монахинь была отголоском обиды на мать и сестер, на отсутствие понимания с их стороны. Это было повторение детского ощущения отверженности. Вместо того чтобы разобраться в причинах раздражительности и негодования пациентки, окружающие воспринимали их на свой счет и начали еще больше избегать ее. Ей удалось найти только одно решение проблемы отчужденности: она проведывала других больных и высказывала медсестрам требования от их имени — тем самым она пыталась удовлетворить их потребности (по существу, и свои собственные) и одновременно получала возможность открыто выразить свое возмущение недостаточной заботой о больных. Такие требования, высказываемые с явной враждебностью, разумеется, настроили сотрудников больницы против пациентки, но в то же время позволили ей рационально оправдывать собственную раздражительность.
В ходе беседы нам удалось удовлетворить несколько ее потребностей. Мы не мешали ей быть собой, оставаться враждебной и требовательной; мы не осуждали ее за это и не высказывали никаких личных мнений. Мы хотели понять ее поведение, а не оценивать его. Как только у пациентки появилась возможность освободиться от тяжелого груза рассерженности, проявилась совершенно другая сторона ее личности: добросердечная женщина, умеющая любить, интуитивно чувствовать и испытывать привязанность. Очевидно, она влюбилась в того мужчину, благодаря которому, по ее словам, нашла подлинный смысл своей религиозности. Он открыл перед ней двери к многочасовому самоанализу и в результате помог обрести глубинную, а не поверхностную веру в Бога.
В конце нашей встречи она попросила, чтобы ей почаще предоставляли возможность выговориться. Это желание было скрыто под словами (тоже сердитыми) об обезболивающем. Мы продолжали посещать ее и с удивлением узнали, что она перестала навещать других умирающих больных, стала терпимее к работникам больницы. Когда ее раздражительность улеглась, медсестры тоже начали заглядывать к ней чаще, а позже даже захотели поговорить с нами, чтобы «лучше ее понять». Все совершенно изменилось!
Во время одной из наших последних встреч она несколько раз испытующе взглянула на меня и наконец решилась высказать одну просьбу. Раньше меня никогда не просили прочесть вслух главу из Библии. К тому времени пациентка была уже очень слаба; она просто откинула голову назад и подсказывала, какие страницы читать, а какие пропустить.
Не могу сказать, что мне было приятно исполнять эту просьбу. Желание было довольно странным, обычно меня просили совсем о другом. Мне было бы намного легче просто растереть ей спину или вынести судно. Однако я помнила о том, что не раз ей говорила: мы пытаемся исполнять желания больных. Хотя в данном случае удобнее было бы пригласить больничного священника, ее потребность в чтении была в тот момент, судя по всему, безотлагательной. Помню, тогда меня преследовала ужасная мысль о том, что сейчас в палату заглянет кто-то из коллег и посмеется над моей неожиданной ролью. К моему облегчению, во время того «урока» нас никто не потревожил.
Я читала Библию, почти не задумываясь над смыслом слов. Пациентка лежала с закрытыми глазами, и мне не удавалось определить ее настроение. Перед уходом я спросила, была ли это притворная игра. Быть может, я просто не поняла глубинного смысла ее просьбы? В первый и последний раз я услышала ее сердечный смех, в котором чувствовалась признательность. Она сказала, что это была игра, но в ее основе лежали благие намерения. Она не только хотела еще раз меня «проверить», но и попыталась передать мне свою последнюю весть, которую, как она надеялась, я буду помнить и после ее смерти…
Несколько дней спустя она сама пришла в мой кабинет, чтобы проститься. Она выглядела веселой, даже счастливой. Это уже была не раздраженная монахиня, которой все избегают, а просто женщина, сумевшая найти если не примирение, то хотя бы внутренний покой. Она покидала больницу и уезжала в свою обитель, где и скончалась некоторое время спустя.
Мы вспоминаем ее до сих пор. В памяти остались не трудности, которые она причиняла, а преподанные многим из нас уроки. В последние месяцы жизни она была такой, какой уже давно хотела стать: она отличалась от других, но не лишилась любви и понимания.
ГЛАВА V.
ТРЕТИЙ ЭТАП: ТОРГОВЛЯ
Топор дровосека просил у дерева сук — на топорище. Дерево дало ему сук.
Тагор, «Отбившиеся птицы»
Третий этап, когда пациент пытается договориться с болезнью, не так хорошо известен, но тем не менее очень полезен для больного, хотя длится совсем недолго. Если на первом этапе мы не могли открыто признать печальные факты, а на втором чувствовали обиду на окружающих и на Бога, то, возможно, нам удастся прийти к некоему соглашению, которое отсрочит неизбежное. «Если Господь пожелал забрать меня отсюда и не откликнулся на мое возмущение, то, быть может. Он с большей благосклонностью воспримет ласковые увещевания». Все мы знакомы с таким изменением поведения; наши дети сначала требуют чего-то, а потом начинают умолять об одолжении. Они не мирятся с нашим отказом на просьбу разрешить переночевать в гостях у приятеля; они злятся и топают ногой; они запираются в ванной и какое-то время выражают свой гнев тем, что отказываются открыть дверь. Однако по зрелом размышлении у них появляется мысль испробовать другой подход. Рано или поздно они выходят из ванной, добровольно берутся за какие-то домашние хлопоты (хотя в обычных обстоятельствах их не заставишь это делать), а затем заявляют: «Если я целую неделю буду вести себя хорошо и мыть по вечерам посуду, ты меня отпустишь?» Разумеется, у них остается слабая надежда на то, что мы пойдем на такую сделку и они добьются желаемого. Смертельно больной пациент прибегает к сходным приемам. По опыту прошлого он знает, что всегда существует слабая надежда на вознаграждение хорошего поведения, исполнение желаний за особые заслуги. Его желание практически всегда заключается сначала в продлении жизни, а позже сменяется надеждой на хотя бы несколько дней без болей и неудобств. Одна больная, оперная певица, лицо и челюсти которой были изуродованы злокачественной опухолью, мечтала о том, чтобы «еще один раз выйти на сцену». Осознав, что это невозможно, она дала, вероятно, самое трогательное представление за всю свою жизнь. Пациентка пожелала принять участие в нашем семинаре, но с возможностью видеть наблюдателей, которые обычно скрывались за односторонним зеркалом. Глядя на собравшихся, она рассказывала нам историю своей жизни, успеха и трагедии, пока телефонный звонок не вынудил ее вернуться в палату. Лечащий врач и стоматолог собирались удалить ей зубы, чтобы перейти к лучевой терапии. Певица попросила дать ей возможность спеть для нас в последний раз, прежде чем ей придется навсегда спрятать от людей свое лицо.
Другая больная мучилась ужасными болями, она не могла вернуться домой, так как полностью зависела от инъекций обезболивающих препаратов. У нее был сын, который в то время готовился к свадьбе, что соответствовало желанию матери. Пациентке было очень горько думать о том, что она едва ли сможет стать свидетелем этого важного события, тем более что женился ее старший, любимый сын. Объединив усилия, мы смогли научить ее основам самовнушения, что позволило женщине держаться без лекарств на протяжении нескольких часов. Пациентка давала самые разные обещания, которые должна была исполнить, если ей удастся прожить достаточно долго, чтобы побывать на свадьбе сына. Накануне церемонии она вышла из больницы элегантной дамой. Никто не мог поверить, что она действительно тяжело больна. Она была «самым счастливым человеком на свете», просто лучилась от радости, а я гадала, что будет потом, когда исполнится ее мечта.
Мне никогда не забыть ту минуту, когда она вернулась в больницу. Пациентка выглядела утомленной, даже измученной, но, прежде чем я yen ела поздороваться, сказала мне: «Не забывайте, что у меня есть еще один сын!»
По существу, подобная сделка представляет собой попытку отсрочить неизбежное. Она не только определяет награду «за примерное поведение», но и устанавливает некую «окончательную черту» (еще одно выступление, свадьба сына и т. д.). Сделка подразумевает, что, если мечта исполнится, больной обещает ни о чем больше не просить. Ни один из наших пациентов не сдержал слова. Иными словами, они вели себя в точности как дети, уверяющие: «Если ты меня отпустишь, я никогда больше не буду ссориться с сестрой». Нет нужды говорить, что малыш снова ввяжется в драку с сестрой, а оперная певица постарается устроить еще одно представление. Наша пациентка просто не могла жить без надежды на новые выступления и покинула больницу раньше, чем ей удалили зубы. Вторая пациентка не хотела начинать разговор с нами, пока мы не согласимся с тем, что она непременно должна побывать и на свадьбе второго сына.
Большая часть сделок заключается с Богом. Обычно такие договоры держат в тайне и раскрывают разве что в разговоре со священником. Когда нам доводилось вести беседы с пациентами без зрителей, участников семинара, мы поражались, сколько больных обещают «посвятить себя Господу» или «всю оставшуюся жизнь служить церкви», если только Бог подарит им еще немного жизни на земле. Немало пациентов клялись оставить свои органы или все тело «науке», если врачи воспользуются своими научными познаниями, чтобы продлить им жизнь.
С психологической точки зрения, обещания могут указывать на скрытое чувство вины. По этой причине очень важно, чтобы сотрудники больницы с вниманием относились к подобным заявлениям пациентов. Если восприимчивый священник или врач заметил такие обещания, он может, например, выяснить, действительно ли пациент испытывает чувство вины из-за того, что редко бывал в церкви; не исключено, что причиной стали более глубокие, подсознательные враждебные желания, которые позже вызвали ощущение вины. Именно по этой причине мы обнаружили, насколько полезен междисциплинарный подход к больным, так как первым о подобных тревогах обычно узнавал священник. После этого мы принимались обсуждать их с пациентом, пока он не избавлялся от иррациональных страхов или стремления наказать себя из-за преувеличенного чувства вины, тем более что такая обеспокоенность чаще всего приводит к дальнейшим попыткам договориться и новым несбыточным обещаниям после исполнения «окончательного условия» сделки.
ГЛАВА VI.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: ДЕПРЕССИЯ
Мир бередит струны угасающей души, и слышится музыка печали.
Тагор, «Отбившиеся птицы», XLIV
Когда обреченный пациент уже не может отрицать свою болезнь, когда ему приходится идти на очередную операцию или госпитализацию, когда проявляются новые симптомы недуга, а больной слабеет и теряет вес, небрежной улыбкой грустные мысли уже не отбросишь. Оцепенение или стоическое отношение, раздражительность и обиды вскоре сменяются ощущением огромной потери. Эта потеря может иметь множество граней: женщина с раком молочной железы страдает оттого, что ее фигура потеряла привлекательность, а больная раком матки чувствует, что перестала быть настоящей женщиной. Весть о том, что ей предстоит операция лица и удаление зубов, вызвала у нашей оперной певицы потрясение, смятение и глубочайшую депрессию — но это только одна из множества потерь, которые приходится переживать таким пациентам.
Интенсивное лечение и пребывание в больнице усугубляются денежными расходами, так как не все больные могут позволить себе в начале лечения роскошные условия, а затем и предметы первой необходимости. Огромные суммы, которых требует усиленное лечение и госпитализация в наше время, заставляют многих пациентов продавать все, что у них есть. Им не удается сохранить дом, выстроенный для спокойной старости, или отправить ребенка учиться в колледж — то есть исполнить свои давние замыслы, Добавим к этому потерю работы из-за долгого отсутствия или нетрудоспособности. По той же причине матерям и женам нередко приходится добывать средства к существованию и, следовательно, лишать детей прежнего внимания. Если же болеет молодая мать, малышей часто отдают в интернаты, что усиливает горечь и чувство вины пациентки.
Все эти причины депрессии хорошо известны любому, кто имеет дело с больными. Однако мы часто забываем о подготовительной скорби, которую переживает смертельно больной, когда готовится к окончательному прощанию с этим миром. При необходимости различать эти две формы депрессии я назвала бы одну реактивной, а другую подготовительной. Первая отличается от второй по своему характеру, и относиться к ней следует совершенно иначе.
Чуткий человек без труда выявит причину депрессии и избавит больного от неоправданного чувства вины, которое нередко сопутствует депрессии. Если женщину волнуют мысли о том, что она перестала быть женщиной, мы можем высказать комплимент, особенно подчеркивающий ее женственность, вернуть ей уверенность в том, что после операции ее женская привлекательность ничуть не пострадала. Недавно появившиеся протезы значительно повысили самооценку женщин с раком молочной железы. Работник социальной службы, лечащий врач или священник могут обсудить тревоги больной с ее мужем, заручиться его поддержкой в возвращении пациентке веры в себя. Социальные работники и священники способны оказать неоценимую помощь в период перемен в домашнем быту, особенно если хлопоты связаны с детьми и одинокими пожилыми людьми, которые могут потребовать даже временного переселения, Нас всегда поражает, как стремительно исчезает с лица больного подавленное выражение, когда решаются такие тягостные вопросы. Хорошим примером тому служит беседа с г-жой С., приведенная в десятой главе. Эта женщина пребывала в глубокой депрессии, у нее не было сил взглянуть в лицо собственной болезни и угрозе смерти из-за груза ответственности за многих людей и отсутствия надежды на то, что о них позаботится кто-то другой. Она потеряла возможность исполнять прежнюю роль, но никто не мог ее заменить.
Второй тип депрессии отличается тем, что вызван не прошлыми потерями, а неминуемыми потерями в будущем. При виде опечаленного человека мы прежде всего стараемся ободрить его, заставить смотреть на мир не так мрачно и безнадежно. Мы предлагаем им обратить внимание на светлые стороны жизни, яркие и внушающие оптимизм события. Такое поведение часто объясняется нашими собственными потребностями, нежеланием долгое время видеть перед собой унылое лицо. Подобный подход полезен, когда речь идет о первой форме депрессии у смертельно больных. Матери будет приятно узнать, что, пока муж на работе, ее дети безмятежно играют во дворе соседа, что они по-прежнему смеются и шутят, ходят на праздники и приносят из школы хорошие отметки — все это свидетельствует о том, что жизнь продолжается несмотря на отсутствие матери.
Но когда депрессия является средством подготовки к неминуемой потере всего любимого и ценного, инструментом перехода к состоянию смирения, наши ободрения не принесут больному особой пользы. Не стоит предлагать ему видеть во всем светлую сторону, ведь это, по существу, означает, что он не должен размышлять о предстоящей смерти. Совершенно противопоказано твердить ему, чтобы он не печалился, так как все мы испытываем горе, когда теряем любимого человека. Этому пациенту вскоре предстоит расстаться со всем вокруг, со всеми, кого он любит. Если позволить ему выразить свою скорбь, он с меньшим трудом обретет окончательное смирение. Таким образом, на этапе депрессии больной будет признателен тем, кто сможет просто побыть рядом, не предпринимая постоянных попыток его утешить. В противоположность первой форме депрессии, когда больной хочет поделиться своими тревогами, склонен к многословному общению и нередко требует деятельного участия представителей разного рода занятий, второй тип депрессии обычно протекает в молчании. Подготовительная скорбь почти не требует слов, это скорее чувство, которое лучше всего разделить другими средствами: погладить по руке, потрепать по голове или просто молча посидеть рядом. В этот период вмешательство посетителей, которые пытаются ободрить больного, не способствует его эмоциональной подготовке, но, напротив, мешает ей.
Пример г-на Н. послужит иллюстрацией этапа депрессии, которая отягощалась отсутствием внимательности и чуткости к его потребностям со стороны близких людей и, в особенности, членов семьи. Этот случай одновременно показывает обе формы депрессии, так как г-н Н. часто высказывал сожаления о своих «ошибках» в прошлом, о возможностях, утерянных еще тогда, когда он был здоров; он печалился, что в свое время не сделал для семьи все, что мог. Депрессия сопровождалась потерей сил, неспособностью исполнять роль мужчины, главы семьи. Его не ободрила даже неожиданная возможность испробовать дополнительный и многообещающий метод лечения. Наши беседы показали, что он готов отказаться от жизни. Пациента огорчало, что его вынуждают бороться за жизнь, когда он уже начал готовиться к смерти. Именно это расхождение между настроением больного и надеждами близких людей часто становилось причиной глубокой подавленности и страданий наших пациентов.
Если представители тех профессий, которые призваны оказывать пациентам моральную поддержку, научатся осознавать конфликт между настроениями больного и его близких, они смогут объяснить происходящее членам семьи пациента и этим очень помогут и больному, и его окружению. Специалисты должны понимать, что эта форма депрессии необходима и даже благотворна, так как обреченному пациенту легче умирать в состоянии смирения и покоя. Однако этого этапа достигают только те больные, которые смогли преодолеть мучения и страхи. Если понимание этого удастся передать членам семьи больного, они тоже избавятся от немалой доли моральных страданий.
Вот как проходила наша первая беседа с г-ном Н.:
ПАЦИЕНТ: Мне нужно будет говорить громко?
ВРАЧ: Нет, не беспокойтесь об этом. Если мы не расслышим вас, то сразу скажем об этом. Говорите, как вам удобно — и сколько угодно. (В сторону) Г-н Н. говорил, что если я поддержу его психологически, у нас получится хороший разговор, так как он изучал искусство общения.
ПАЦИЕНТ: Да, потому что физически я чувствую себя скверно, голова кружится.
ВРАЧ: Что вы имели в виду, когда говорили о психологической поддержке?
ПАЦИЕНТ: Знаете, можно чувствовать себя физически очень неплохо, даже если на самом деле это не так. Все дело в психологическом подъеме. Ощущаешь дополнительный заряд бодрости, словно узнал хорошие новости или еще что-то. Это я и имел в виду.
ВРАЧ: По существу, вы предлагаете говорить о хорошем, а не о плохом.
ПАЦИЕНТ: Вы так думаете?
ВРАЧ: Я правильно поняла ваши слова?
ПАЦИЕНТ: Нет, совсем нет…
СВЯЩЕННИК: Мне кажется, он просто говорит, что ему нужна моральная поддержка.
ВРАЧ: Да, разумеется.
ПАЦИЕНТ: Я говорю о том, что если буду сидеть больше пяти минут, то, скорее всего, просто свалюсь на кровать, потому что очень слаб и редко поднимаюсь.
ВРАЧ: Хорошо, тогда давайте перейдем прямо к тому, о чем хотим поговорить.
ПАЦИЕНТ: Давайте.
ВРАЧ: Мы почти ничего о вас не знаем. Мы беседуем с пациентами, чтобы понять, как говорить с ними, научиться воспринимать их как живых людей, а не истории болезни. Быть может, для начала вы просто кратко расскажете о себе: сколько вам лет, чем занимаетесь и как давно вы лежите в больнице.
ПАЦИЕНТ: Я здесь почти две недели. По профессии я… короче говоря, химик-технолог. У меня есть ученая степень, но, кроме того, я прошел университетский курс искусства общения.
ВРАЧ: (Неразборчиво).
ПАЦИЕНТ: Не совсем так, потому что когда я этим занялся, у них был курс искусства общения, а после моего окончания они его отменили.
ВРАЧ: Понятно.
СВЯЩЕННИК: Почему вас заинтересовало искусство общения? Это было нужно для вашей работы как химика или просто вызывало интерес?
ПАЦИЕНТ: Просто вызывало интерес.
ВРАЧ: Как вы оказались в больнице? Вы впервые попали сюда?
ПАЦИЕНТ: Впервые.
ВРАЧ: По какой причине?
ПАЦИЕНТ: Нужно было продолжить лечение рака. В апреле меня оперировали…
ВРАЧ: В апреле этого года?
ПАЦИЕНТ: …в другой больнице.
ВРАЧ: В этом году? И там выяснилось, что у вас рак?
ПАЦИЕНТ: Да. Я не стал ждать уточнения диагноза и сразу попросил перевести меня в эту больницу.
ВРАЧ: Понятно. Как вы восприняли это известие? Вам в апреле об этом сказали?
ПАЦИЕНТ: Да.
ВРАЧ: И как вы это восприняли, как вам об этом сообщили?
ПАЦИЕНТ: Конечно, это был удар.
ВРАЧ: Хм… но разные люди воспринимают удары судьбы по-разному.
ПАЦИЕНТ: Ну, это было еще хуже, чем удар судьбы. Мне не оставили никаких надежд.
ВРАЧ: Совсем никаких?
ПАЦИЕНТ: Совсем. Лечащий врач сам рассказал, что его отец перенес такую же операцию в той же больнице, у того же хирурга и в таком же возрасте, но лечение не помогло и через год он умер. И что мне остается только ждать горького конца.
ВРАЧ: Это очень жестоко. Знаете, хочется надеяться, что этот врач рассказал об этом только потому, что это случилось с его собственным отцом.
ПАЦИЕНТ: Да, все получилось очень жестоко, но причина была в том, что он сам уже с этим сталкивался.
ВРАЧ: И вы полагаете, что это его оправдывает, делает его поступок объяснимым?
ПАЦИЕНТ: Да.
ВРАЧ: Что вы чувствовали, когда он рассказал об этом?
ПАЦИЕНТ: Естественно, я упал духом. Оставался дома, как он советовал, и просто отдыхал, старался не перетруждаться. Впрочем, я все-таки немало успел, занялся всякими мелкими делами, ходил к знакомым и все такое. Но после того, как я попал сюда и выяснил, что определенная надежда все же есть, что мое состояние не безнадежное, я понял, что поступил неправильно, слишком утомился. Если бы в то время я знал все это, то сейчас был бы в отличной форме.
ВРАЧ: Значит, сейчас вы упрекаете себя в том, что перетрудились?
ПАЦИЕНТ: Нет, я этого не говорил. Даже не знаю. В любом случае, я ни в чем никого не виню. Я не виню того врача, потому что он рассказывал о личном опыте. Я не виню себя, потому что тогда просто многого не знал.
ВРАЧ: Понятно. Когда вы обратились в ту больницу, у вас были какие-то дурные предчувствия? Какие-нибудь симптомы? Возможно, боли? У вас было чувство, что это что-то серьезное?
ПАЦИЕНТ: Ну, я чувствовал себя все хуже и хуже, а потом появились очень неприятные ощущения в кишечнике, пришлось сделать колостомию. Это и была моя операция.
ВРАЧ: Понятно. По существу, нам хотелось бы знать, насколько вы были готовы к этому удару. Подозрения у вас были?
ПАЦИЕНТ: Нет, никаких.
ВРАЧ: Никаких… Итак, вы чувствовали себя хорошо, были здоровым человеком — до тех пор, пока… ?
ПАЦИЕНТ: Пока не сходил в больницу.
ВРАЧ: А почему вы решили пойти в больницу?
ПАЦИЕНТ: Просто чтобы пройти осмотр, у меня был то запор, то понос.
ВРАЧ: Гм… В общем, можно сказать, что вы были не готовы к этому известию?
ПАЦИЕНТ: Совершенно не готов. К тому же меня положили в больницу уже через пару часов после того, как я вошел в кабинет врача, а спустя неделю провели операцию.
ВРАЧ: То есть у вас возникло ощущение спешки. И во время операции они сделали колостомию?
ПАЦИЕНТ: Да.
ВРАЧ: И это тоже было нелегко, верно?
ПАЦИЕНТ: Что?
ВРАЧ: Вам было трудно?
ПАЦИЕНТ: Нет, колостомия — простая штука.
ВРАЧ: Ее легко перенести?
ПАЦИЕНТ: Мелькала мысль, что это только часть дела. Иными словами, считается, что колостомия помогает обнаружить многое другое, но, судя по всему, они нашли не то, что нужно.
ВРАЧ: Да, все взаимосвязано. А я думала, что колостомия вызывает сильные боли, но когда решается вопрос жизни и смерти, колостомия — меньшая из неприятностей.
ПАЦИЕНТ: Конечно, если это спасает жизнь, то потерпеть можно.
ВРАЧ: Да. После того, как вам это сообщили, вы, должно быть, задумались о том, что будет после вашей смерти. И сколько вы еще проживете. Как вы решали эти вопросы?
ПАЦИЕНТ: Ну, по существу, в то время у меня в жизни было столько личных поводов для печали, что это не казалось чем-то… Вот и все.
ВРАЧ: Действительно?
СВЯЩЕННИК: Поводы для печали?
ПАЦИЕНТ: Да, целый ряд за довольно короткое время.
СВЯЩЕННИК: Вы не хотите об этом рассказывать?
ПАЦИЕНТ: Могу рассказать.
ВРАЧ: Вы пережили большие утраты?
ПАЦИЕНТ: Да. Умерли мои отец и мать, умер мой брат, умерла двадцативосьмилетняя дочь, она оставила нам двоих маленьких детей и мы воспитывали их три года, до прошлого декабря. И это был самый тяжелый труд, потому что внуки постоянно напоминали нам о ее смерти.
СВЯЩЕННИК: Дети в доме. Как она умерла?
ПАЦИЕНТ: Не выдержала сурового климата Персии.
СВЯЩЕННИК: Она была так далеко?
ПАЦИЕНТ: Большую часть года там пятьдесят градусов в тени.
СВЯЩЕННИК: Значит, она жила за границей?
ПАЦИЕНТ: Она была не из тех, кто хорошо выносит тяжелые условия жизни.
ВРАЧ: У вас есть другие дети? Она была единственным ребенком?
ПАЦИЕНТ: Нет, кроме нее у нас еще трое.
ВРАЧ: Еще трое. И как идут дела у них?
ПАЦИЕНТ: У них все в порядке.
ВРАЧ: Знаете, что мне не совсем понятно? Вы человек среднего возраста — хотя мы еще не знаем, сколько вам лет, — но люди среднего возраста часто теряют родителей. Конечно, утрата дочери очень мучительна, терять ребенка всегда тяжелее всего. Но почему вы говорите, что из-за этих утрат собственная жизнь казалась вам чем-то незначительным?
ПАЦИЕНТ: Я не могу ответить на этот вопрос.
ВРАЧ: Парадоксально, правда? Ведь если бы ваша жизнь была чем-то незначительным, с ней легко было бы расстаться? Именно этого я и не понимаю.
СВЯЩЕННИК: Я как раз думал, не это ли хочет сказать г-н Н. Вы это пытаетесь объяснить? Я не совсем уверен… Вы сказали, что известие о раке стало еще одним ударом, потому что вы уже пережили много утрат.
ПАЦИЕНТ: Нет, я не это имел в виду. Просто кроме рака были и другие удары. Однако я сказал бы… я просто пытался обдумать одну мысль, которая тогда мелькнула, это было важно. Вы спросили меня, почему меня больше интересует смерть, а не жизнь, хотя у меня есть еще трое детей.
ВРАЧ: Я спросила об этом скорее для того, чтобы учесть и светлую сторону.
ПАЦИЕНТ: Да, конечно… Не знаю, можете ли вы понять, но… когда все это обрушивается, оно задевает не только отца, но и всю семью. Понимаете?
ВРАЧ: Да, конечно.
СВЯЩЕННИК: Вы хотите сказать, что вашей жене тоже было очень трудно?
ПАЦИЕНТ: И жене, и детям, всем нашим детям. Вот так я жил — можно сказать, прямо в морге.
ВРАЧ: Да, какое-то время.
(Сбивчивый диалог.)
ПАЦИЕНТ: Это все тянется, и я сейчас живу в этом горе, которое никогда не забудется.
ВРАЧ: Понятно. По существу, вы только что сказали, что, когда вокруг столько горя, очень трудно переживать еще одно.
ПАЦИЕНТ: Верно.
ВРАЧ: Как мы можем вам помочь? Кто мог бы вам помочь? Кто-нибудь может?
ПАЦИЕНТ: Думаю, да.
ВРАЧ: (Неразборчиво) Кто-нибудь уже помог?
ПАЦИЕНТ: Я никогда не просил о помощи. Никого, кроме вас.
ВРАЧ: Кто-нибудь разговаривал с вами так, как сейчас говорим мы?
ПАЦИЕНТ: Нет.
СВЯЩЕННИК: А в других случаях? Кто-нибудь был рядом, когда умерла ваша дочь? Может быть, вы говорили с женой? Осталось ли в ваших душах что-то невысказанное? Вы говорили об этом друг с другом?
ПАЦИЕНТ: Не очень часто.
СВЯЩЕННИК: Вам приходилось держать это в себе?
ВРАЧ: Сейчас ваша жена потрясена горем, как и в то время? Или она уже немного оправилась?
ПАЦИЕНТ: Трудно сказать.
ВРАЧ: Она неразговорчивый человек?
ПАЦИЕНТ: Она не говорит об этом. Она… она умеет общаться, она учитель.
ВРАЧ: Расскажите о ней.
ПАЦИЕНТ: Она довольно крупная женщина, почти всегда в хорошем настроении. Из тех, кого встречают аплодисментами в начале каждой четверти и кому дарят хорошие подарки в конце учебного года.
ВРАЧ: Это немало значит.
СВЯЩЕННИК: Очень показательно.
ПАЦИЕНТ: Это верно.
ВРАЧ: Да.
ПАЦИЕНТ: Кроме того, она делает все для меня и нашей семьи.
ВРАЧ: У меня складывается впечатление, что с таким человеком можно поговорить обо всем и без посторонней помощи.
ПАЦИЕНТ: Да, можно сказать и так.
ВРАЧ: Вы сами боитесь заговорить об этом или она этого не хочет?
ПАЦИЕНТ: Я не расслышал.
ВРАЧ: Кто из вас двоих не хочет об этом говорить?
ПАЦИЕНТ: На самом деле, мы об этом говорили. И она нашла решение: уехать за границу и воспитывать внуков. Она ездила туда два года подряд, каждое лето, в том числе и прошлым летом. Конечно, дорогу оплачивал наш зять. Внуки были с нами до декабря, а потом возвращались назад. А потом жена отправилась туда на выходные в декабре, а этим летом ездила на месяц. Собиралась остаться там на два месяца, но из-за меня получился только один, потому что как раз был период моего выздоровления.
СВЯЩЕННИК: Похоже, у вас нет настроения говорить с женой о своем состоянии, когда она думает о другом, занимается внуками. Мне кажется, это сказалось на вашем желании поделиться… вы чувствуете, что не должны обременять ее чем-то еще. У вас есть такое чувство?
ПАЦИЕНТ: Понимаете, у нас с ней другие проблемы. Я уже говорил, что она очень общительный человек, но, боюсь, она считает, что я не делал все, что должен был.
ВРАЧ: В каком смысле?
ПАЦИЕНТ: Ну, например, не заработал достаточно денег. Конечно, когда нужно воспитывать четверых детей… ну, она имеет право так считать. Она думает, что я должен быть таким, как наш зять, а еще полагает, что это я виноват в том, что наш младший сын не получил правильного воспитания. Потому что у него есть та же наследственная черта… Но она до сих пор обвиняет в этом меня.
ВРАЧ: В чем обвиняет?
ПАЦИЕНТ: В том, что происходит с сыном.
ВРАЧ: Чем он занимается?
ПАЦИЕНТ: Он был морским пехотинцем, но его уволили.
ВРАЧ: И чем он сейчас занимается?
ПАЦИЕНТ: Должно быть, вернулся на старую работу, складским рабочим.
СВЯЩЕННИК: А остальные дети?
ПАЦИЕНТ: Наш второй сын… За него она тоже на меня в обиде. Он немного отставал в школе. Она считала, что достаточно прийти и прикрикнуть на него — знаете, она просто кипит энергией, — и он сразу станет лучшим учеником. Конечно, я был уверен, что рано или поздно она поймет, что ему никогда не стать отличником. Все дело в наследственности. У старшего сына дела идут неплохо, она все время его подгоняет. Он совсем недавно получил диплом инженера по электронике.
СВЯЩЕННИК: Благодаря тому, что она его подталкивала?
ПАЦИЕНТ: Нет, он очень толковый парень, можно сказать, единственный толковый, если не считать дочери.
СВЯЩЕННИК: Вы упоминали наследственность. По какой линии, по-вашему, передавалась слабохарактерность? У меня сложилось впечатление, что вы думаете, будто она передавалась по вашей линии — либо жена так считает.
ПАЦИЕНТ: Я не знаю, что она об этом думает. Сомневаюсь, что она понимает, что дело в наследственности. Мне кажется, она считает, что вся задача в том, чтобы я как можно больше работал. В свободное время я так и делал. Мне не только следовало бы больше зарабатывать, это вообще вечная тема всей нашей жизни. Она обязательно поможет мне, но всегда будет винить в том, что я не зарабатывал свою долю семейного дохода. Мне следовало бы зарабатывать не меньше пятнадцати тысяч в год.
ВРАЧ: Мне кажется, г-н Н. имеет в виду вот что: его жена — энергичная и деятельная женщина и она хотела бы, чтобы такими были он сам и их дети.
ПАЦИЕНТ: Совершенно верно.
ВРАЧ: И ей довольно трудно смириться с тем, что вы не такой, каким она хотела бы вас видеть…
ПАЦИЕНТ: Правильно.
ВРАЧ: То есть недостаточно деятельный и энергичный. А еще она говорит: «Посмотри на нашего зятя, он зарабатывает кучу денег» — вероятно, очень энергичный человек.
ПАЦИЕНТ: Не только зять, но и все остальные вокруг.
ВРАЧ: И все это непосредственно касается г-на Н., пациента, потому что когда он болеет и теряет силы…
ПАЦИЕНТ: Простите?
ВРАЧ: Когда вы болеете и теряете силы, вы становитесь менее энергичным и зарабатываете меньше денег.
ПАЦИЕНТ: Собственно, в свое время я именно это ей и говорил. Когда… когда мне исполнилось сорок. Я тогда немного приостановился и сказал себе: «Парень, если сейчас творится такое, то представь, что будет дальше, ведь она все время требует большего».
ВРАЧ: Это было бы ужасно, да?
ПАЦИЕНТ: Да, ведь она хотела все больше и больше.
ВРАЧ: Но для вас это означало, что будет все тяжелее и тяжелее. Значит, она довольно нетерпима к людям в инвалидных колясках?
ПАЦИЕНТ: Она терпеть не может тех, у кого не хватает способностей.
ВРАЧ: Ну… можно оставаться толковым, даже если физически слаб.
ПАЦИЕНТ: Верно.
ВРАЧ: Она, похоже, терпеть не может тех, кто не способен делать что-то физически…
ПАЦИЕНТ: Да.
ВРАЧ: Хотя при этом можно быть очень способным.
ПАЦИЕНТ: Понимаете, когда говорят «толковый», имеют в виду… применение способностей на деле. Вот чего она хочет.
СВЯЩЕННИК: Мне словно слышится слово «успех».
ПАЦИЕНТ: Да, нужно именно добиться успеха.
ВРАЧ: Понятно.
СВЯЩЕННИК: Итак, нужно непросто иметь способности, но и применить их на деле. Но я все время возвращаюсь к одной мысли: когда в жизни происходят такие события, вы словно сами лишаете себя права и возможности поговорить с женой о себе и своей болезни.
ПАЦИЕНТ: Да, и дети тоже.
СВЯЩЕННИК: Вот это меня и беспокоит.
ПАЦИЕНТ: Дети определенно подавлены, мне кажется, они подчинены растущим требованиям матери. Например, она чудесно шьет — помимо преподавания. Она может за выходные сшить из отреза ткани отличный мужской костюм, и он будет выглядеть лучше, чем любой другой… он будет не хуже костюма за две с половиной сотни долларов.
ВРАЧ: И какие чувства это у вас вызывает?
ПАЦИЕНТ: Я чувствую… для меня нет никакой разницы, каких еще успехов она добьется, потому что я уже восхищаюсь ею… не знаю, как это выразить… она для меня идол, понимаете. Ничего не изменилось бы, даже если бы она не заставляла меня стать таким же.
ВРАЧ: Понятно. Но как вы должны относиться к собственной болезни?
ПАЦИЕНТ: В этом главная проблема.
ВРАЧ: Мы и пытаемся это понять, мы хотим узнать, чем вам помочь…
ПАЦИЕНТ: Это действительно главная проблема, потому что… понимаете, когда болен и у тебя боли, когда не можешь справиться с горем и живешь рядом с человеком, который пережил все грани этого горя, то говоришь себе… не знаю, как мне пережить скорбь по дочери и все прочее, но ответ приходит сам собой: «Не вешай нос, оставайся оптимистом». Она всегда оптимистична.
СВЯЩЕННИК: Иными словами, вы стараетесь делать все быстро, чтобы не останавливаться и не думать об этом?
ПАЦИЕНТ: Да.
ВРАЧ: Но, с другой стороны, он уже готов думать и говорить об этом. Вам нужно поговорить об этом, найти кого-то, с кем можно поговорить.
ПАЦИЕНТ: Жена оборвет меня прямо на середине фразы. О таких вещах с ней невозможно поговорить.
СВЯЩЕННИК: Я пришел к выводу, что в вашей душе есть большая вера.
ПАЦИЕНТ: Я много размышлял о том, как решить все эти проблемы. Дело в том, что я действительно много работаю, как она и хотела. Я всегда был… всегда был способным учеником. В университете у меня по всем предметам были только пятерки и четверки.
СВЯЩЕННИК: Вы сказали, что способности у вас есть, но вы понимаете, что тяжкий труд не поможет справиться со сложностями, которые выпали на вашу долю в это время. Помните, вы отметили разницу между мыслями о жизни и мыслями о смерти?
ВРАЧ: Вообще, вы задумывались о смерти?
ПАЦИЕНТ: Да. Так что вы собирались сказать?
СВЯЩЕННИК: Мне просто интересно, какие мысли возникали у вас в отношении жизни и смерти.
ПАЦИЕНТ: Ну… надо признать, я никогда не думал о смерти как о чем-то… как таковой, я просто думал о бессмысленности жизни в таких обстоятельствах.
СВЯЩЕННИК: Бессмысленности?
ПАЦИЕНТ: Если завтра я умру, моя жена будет жить прежней жизнью.
ВРАЧ: Словно ничего не случилось?
ПАЦИЕНТ: Мне так кажется. Она не дрогнет.
СВЯЩЕННИК: Она воспримет это так же, как смерть любого человека? Или все-таки немного иначе?
ПАЦИЕНТ: После смерти дочери она занялась ее детьми. Но ее жизнь ничуть не изменилась бы, даже если бы у нас вообще не было детей.
СВЯЩЕННИК: Откуда у вас взялись силы на замечание о том, что при переходе в эту больницу вас прежде всего привлекло то, что тут вам вернули чувство надежды? Вам сказали, что лечение возможно, и его проводят. Что подтолкнуло вас к этому желанию жить? Несмотря на ощущение бессмысленности, у вас в душе все-таки осталось нечто такое, что способно чувствовать удовлетворение и желание лечиться. Это вера?
ПАЦИЕНТ: Я бы сказал, что это, скорее всего, какая-то слепая вера. Кроме того, моя церковная община оказала мне большую поддержку. Я долгие годы активно участвовал в работе нашей пресвитерианской церкви. Конечно, сыграло свою роль и то, что при этом я мог заниматься тем, что не очень-то нравилось жене: петь в хоре, преподавать в воскресной школе и все прочее. Да, это мне очень помогло — то, что удалось сделать хоть немного дел, которые я считаю важными для общества. Но каждая капля усилий в этом направлении считалась бессмысленной, потому что она не приносила никаких доходов.
ВРАЧ: Но это мнение вашей жены. По вашим собственным представлениям, эта работа важна.
ПАЦИЕНТ: Да, я считаю, что она важна, очень важна.
ВРАЧ: Мне кажется, это самое главное. У вас осталось ощущение чего-то значимого, вот почему я уверена, что надежда для вас тоже многое значит. Вы по-прежнему хотите жить. Ведь вам не хочется умирать, правда? И потому вы перевелись в эту больницу.
ПАЦИЕНТ: Да, это правда.
ВРАЧ: Что значит для вас смерть? Это трудный вопрос, но, быть может, вы сможете на него ответить.
ПАЦИЕНТ: Что значит для меня смерть?
ВРАЧ: Да, что она для вас значит?
ПАЦИЕНТ: Смерть… Это прекращение значимой деятельности. Я понимаю значимость иначе, не так, как моя жена. Сейчас я не имею в виду зарабатывание денег.
СВЯЩЕННИК: Вы говорите о пении в хоре и уроках в воскресной школе. О жизни среди людей.
ВРАЧ: Да.
ПАЦИЕНТ: Я всегда активно занимался общественной работой, самой разной работой. Из того, что делает мою жизнь бессмысленной сейчас… я видел себя с точки зрения того врача, а он считал, что я никогда больше не вернусь к прежним занятиям.
ВРАЧ: Но что вы делаете здесь прямо сейчас?
ПАЦИЕНТ: Простите?
ВРАЧ: Чем вы заняты тут, прямо сейчас?
ПАЦИЕНТ: Прямо сейчас я обмениваюсь взглядами, и это может помочь…
ВРАЧ: Да, это очень важное занятие. Это может помочь вам и, без сомнений, очень поможет нам.
СВЯЩЕННИК: В том смысле, в каком это понимаете вы, а не ваша жена.
ВРАЧ: Да (смеется), именно поэтому мне хотелось внести ясность. По существу, вы сказали, что жизнь осмысленна до тех пор, пока вы имеете какую-то значимость и можете делать что-то важное.
ПАЦИЕНТ: Понимаете, помимо прочего, довольно приятно, когда это замечают и другие. Особенно если вы их любите.
ВРАЧ: Вы действительно полагаете, что вас никто не ценит?
ПАЦИЕНТ: Мне не верится, что жена меня ценит.
СВЯЩЕННИК: Я догадывался, что речь идет об этом.
ВРАЧ: Хорошо, но кроме нее у вас есть дети.
ПАЦИЕНТ: Думаю, они меня ценят. Но жена, жена для мужчины — это самое главное. Особенно если он восхищается ею. А она такая… можно сказать, привлекательная, потому что просто пышет энергией, искрится ею.
СВЯЩЕННИК: Ваши отношения всегда были такими? Или все стало заметнее после скорбных событий и утрат?
ПАЦИЕНТ: Разницы не было. Впрочем, после горьких утрат отношения даже улучшились. Например, сейчас она относится ко мне очень по-доброму. С тех пор, как я в больнице, но… да нет, так всегда было. Когда я болел или еще что-то случалось, она всегда какое-то время была очень добра, но рано или поздно возвращалась к мысли о том, что вот он, лентяй, который ничего не зарабатывает.
СВЯЩЕННИК: Чем вы объясняете то, что ваша жизнь так сложилась? Вы сказали, что ходите в церковь. Как вы объясняете то, что происходило в вашей жизни? С точки зрения вашего отношения к жизни, которое можно назвать верой в жизнь. Бог как-нибудь связан с этим?
ПАЦИЕНТ: Да, конечно. Прежде всего, я христианин, а Христос действует как посредник. Все очень просто. Когда я вижу что-то перед собой, все складывается хорошо. И я с облегчением избавляюсь… Я нахожу решение проблем, которые случаются между людьми.
СВЯЩЕННИК: Вот о чем он говорит: в его отношениях с женой нужен посредник. Вы сказали, что Христос — это посредник в решении других проблем. Вы не думали об этом с точки зрения ваших отношений с женой?
ПАЦИЕНТ: Думал, но, к сожалению — или к счастью, — моя жена слишком деятельна.
СВЯЩЕННИК: Насколько я понимаю, ваша жена так энергична, что в ее жизни нет места для деятельности Господа, нет места для посредников?
ПАЦИЕНТ: Да, в ее случае так и получается.
ВРАЧ: Как вы думаете, она захочет поговорить с одним из нас?
ПАЦИЕНТ: Я бы точно согласился.
ВРАЧ: Вы можете ей это предложить?
ПАЦИЕНТ: Моя жена и мысли не допустит о том, чтобы пойти к психиатру, особенно вместе со мной.
ВРАЧ: Понятно. А что такого страшного в посещении психиатра?
ПАЦИЕНТ: То самое, о чем мы говорили. Думаю, она пытается скрыть все эти чувства.
ВРАЧ: Хорошо, давайте посмотрим, как пойдет наша беседа. Это может быть полезно. И если вы не против, мы будем время от времени к вам заглядывать. Согласны?
ПАЦИЕНТ: Вы еще заглянете?
ВРАЧ: Да, придем в гости.
ПАЦИЕНТ: Посидите рядом?
ВРАЧ И СВЯЩЕННИК: Конечно.
ПАЦИЕНТ: В субботу я выписываюсь.
ВРАЧ: Понятно. Значит, времени у нас мало.
СВЯЩЕННИК: Если вы вернетесь в больницу, то можете зайти к нам.
ПАЦИЕНТ: Возможно, хотя я сомневаюсь. Путь не близкий.
СВЯЩЕННИК: Да, я понимаю.
ВРАЧ: На случай, если это наша последняя встреча: быть может, у вас есть какие-то вопросы к нам?
ПАЦИЕНТ: Я думаю, что одним из самых главных результатов нашего разговора стала масса вопросов, о которых я никогда не задумывался.
ВРАЧ: Нам эта беседа тоже очень помогла.
ПАЦИЕНТ: Мне кажется, доктор Р. и вы тоже сделали очень хорошие предложения. Но мне известно одно: если не случится какого-то коренного улучшения, то… в общем, мне уже не выздороветь.
ВРАЧ: Это пугает?
ПАЦИЕНТ: Пугает?
ВРАЧ: Вы не кажетесь испуганным.
ПАЦИЕНТ: Нет, это меня не пугает. По двум причинам. Во-первых, у меня хорошее религиозное воспитание. Основательное, потому что мне удалось передать его другим.
ВРАЧ: Значит, вы можете сказать, что не боитесь смерти и примете ее, когда она придет. Верно?
ПАЦИЕНТ: Да, смерти я не боюсь. Если я чего-то и боюсь, то это возможности опять заниматься тем, что делал раньше. Потому что, понимаете… на самом деле я люблю не химию, а работу с людьми.
СВЯЩЕННИК: Потому и проявили интерес к искусству общения?
ПАЦИЕНТА: Да, отчасти потому.
СВЯЩЕННИК: Меня поражает даже не отсутствие страха, а отсутствие тревожности, сожалений о ваших взаимоотношениях с женой.
ПАЦИЕНТ: Всю жизнь я жалел, что не могу общаться с ней. В действительности, если копаться до самых глубин, можно сказать, что мое обучение искусству общения… не знаю, но, возможно, это было на девяносто процентов вызвано желанием найти общий язык с женой.
ВРАЧ: Попытка наладить общение с ней? Вы никогда не думали о профессиональной помощи? Знаете, у меня есть чувство, что это можно поправить, вам все еще можно помочь.
СВЯЩЕННИК: Вот почему завтрашняя встреча так важна.
ВРАЧ: Да, да… Мне совсем не кажется, что это безнадежно, неисправимо. У вас еще есть время все наладить.
ПАЦИЕНТ: Можно сказать, что надежда на жизнь сохраняется, пока я дышу.
ВРАЧ: Совершенно верно.
ПАЦИЕНТ: Но жизнь — это еще не все. Есть еще качество жизни, то, зачем ты живешь.
СВЯЩЕННИК: Что ж, я очень благодарен за возможность познакомиться с вами. Надеюсь, мне удастся заглянуть к вам сегодня вечером, перед уходом домой.
ПАЦИЕНТ: Мне тоже очень приятно… Э-э-э… (пациент не хочет расставаться) вы хотели задать мне какие-то вопросы, но так и не спросили.
ВРАЧ: Я собиралась?
ПАЦИЕНТ: Мне так показалось.
ВРАЧ: О чем же я забыла?..
ПАЦИЕНТ: Из того, что вы говорили, я понял, что вы возглавляете не только этот семинар, но и… ну, скажем так, что-то еще. Кто-то заинтересовался связью между религией и психиатрией.
ВРАЧ: Да. Я начинаю понимать. Понимаете, у людей складываются самые разные мнения о том, чем мы занимаемся. Меня больше всего интересуют беседы с больными и умирающими; мы хотим их получше понять. Научить персонал больниц тому, как им лучше помочь, и у нас есть только один способ узнать это: учиться у самих пациентов.
СВЯЩЕННИК: У вас возникли какие-то вопросы о связи религии с…
ПАЦИЕНТ: Да, пара вопросов. Вот, например, больные обычно обращаются только к священнику. Когда им плохо, они никогда не зовут психиатра.
ВРАЧ: Это правда.
ПАЦИЕНТ: Хорошо. Кто-то недавно задавал мне такой вопрос: какого я мнения о работе больничных священников. И я сказал, что был просто ошеломлен, когда попросил позвать священника посреди ночи, но выяснилось, что ночами тут нет священника. Я просто не мог в это поверить. Невероятно. Когда человеку нужен священник? Только ночью, поверьте мне. Когда ты сбрасываешь свои боксерские перчатки и остаешься наедине с собой. Именно тогда и нужен священник. Я бы сказал, чаще всего после полуночи…
ВРАЧ: И ранним утром.
ПАЦИЕНТ: Если бы кто-то строил графики, то пик, скорее всего, пришелся бы на три часа ночи. Так и должно быть. Нажимаешь кнопку звонка, приходит сестра. «Я хотел бы видеть священника» — и через пять минут он приходит и вы…
ВРАЧ: Можете поговорить по душам.
ПАЦИЕНТ: Точно.
ВРАЧ: Значит, вы ждали от меня этого вопроса: какого вы мнения о работе священника. Дело в том, что я уже спросила об этом, хотя и неявно. Я спрашивала, кто помог вам, был ли человек, который вам помог. И вы тогда ни словом не обмолвились о священнике…
ПАЦИЕНТ: Это беда всей церкви. Время, когда человеку нужен священник.
ВРАЧ: Верно.
ПАЦИЕНТ: А чаще всего он нужен ему в три часа ночи.
ВРАЧ: Ну, преподобный Н. сможет ответить на это, потому что вчера он всю ночь оставался на ногах, был рядом с пациентами.
СВЯЩЕННИК: Да, я не чувствую вины. Вчера мне удалось поспать всего два часа. Но я совсем не жалею, думаю, было высказано намного больше, чем обычно.
ПАЦИЕНТ: Мне кажется, нет ничего важнее этого.
СВЯЩЕННИК: Да, нет ничего важнее искренней заботы о том, кто просит помощи.
ПАЦИЕНТ: Конечно. Священник… пресвитерианский священник, который венчал моих родителей, был как раз таким человеком. И ему это ничуть не навредило. Я встретил его, когда ему было девяносто пять: он слышал, как в молодости, видел, как в молодости, и рукопожатие его было сильным, как у двадцатипятилетнего.
СВЯЩЕННИК: Это в очередной раз подчеркивает, какое разочарование вы испытали.
ВРАЧ: Выяснять подобные проблемы — часть семинара, это поможет нам работать лучше.
ПАЦИЕНТ: Вы правы. Что касается священников, то, по моим представлениям, встретиться с ними в нужную минуту труднее, чем с психиатром, — как это ни странно. Дело в том, что священник ничего не зарабатывает, а психиатр должен получить хоть какой-то гонорар. Выходит, тот, кто зарабатывает деньги, может сделать это и днем, и ночью, когда угодно. Конечно, вам еще нужно договориться с психотерапевтом, чтобы он пришел ночью. Но попробуйте поднять ночью священника!
СВЯЩЕННИК: Похоже, у вас уже был печальный опыт общения с духовенством.
ПАЦИЕНТ: Мой собственный священник очень хороший. Беда в том, что у него целая куча детей. Четверо, не меньше. Как он может уходить по ночам? А еще мне рассказывали, как трудно с молодежью в семинариях и все такое. Их действительно мало, мы даже не могли набрать достаточно молодых людей для работы над диссертацией на богословскую тему. Но я думаю, что если церковь действует, у нее не должно быть проблем с притоком молодежи.
СВЯЩЕННИК: Кажется, у нас будет что обсудить, хотя это и не входит в тематику семинара. Мы с вами поговорим как-нибудь о церкви и ее проблемах. Я отчасти согласен с тем, что вы сказали.
ВРАЧ: Да, но я все равно рада, что мы затронули эту тему. Это важно. Хорошо, а что вы можете сказать о работе медсестер?
ПАЦИЕНТ: Тут?
ВРАЧ: Да.
ПАЦИЕНТ: Почти каждый раз, когда я хотел встретиться со священником, причиной были медсестры. Здесь есть некоторые медсестры… они хорошие специалисты, но раздражают больных. Мой сосед по палате как-то сказал, что все делалось бы в два раза быстрее, если бы не такие сестры. Они экономят каждую секунду. Понимаете, о чем я? Ты подходишь и говоришь… ну, скажем, вы не могли бы дать мне поесть в другое время, потому что у меня язва, печень, то или это. Она отвечает, что мы, мол, очень заняты, так что сами за этим следите: хотите есть — ешьте, не хотите — не ешьте. Есть еще одна сестра, она, в общем-то, приятная и много помогает, но никогда не улыбается. А для такого человека, как я, который… понимаете, обычно улыбается и старается выглядеть отзывчивым… ну, мне довольно грустно на нее смотреть. Каждый вечер она входит — и на лице ни следа улыбки.
ВРАЧ: А как ваш сосед по палате?
ПАЦИЕНТ: Я не могу поговорить с ним с тех пор, как у него начались проблемы с дыханием, но, в целом, он, на мой взгляд, держится неплохо. Во всяком случае, у него не такой букет болячек, как у меня.
ВРАЧ: Помните, в начале вы планировали говорить с нами только пять-десять минут и сказали, что иначе очень устанете. Вам удобно сидеть?
ПАЦИЕНТ: Да, все в порядке.
ВРАЧ: Знаете, сколько мы уже говорим? Ровно час.
ПАЦИЕНТ: Никогда бы не подумал, что смогу продержаться целый час.
СВЯЩЕННИК: Мы сказали об этом, потому что не хотим вас утомлять.
ВРАЧ: Да, и я думаю, нам пора заканчивать.
ПАЦИЕНТ: Мне кажется, мы уже практически все обсудили.
СВЯЩЕННИК: Я загляну к вам после обеда, перед уходом домой, так что не прощаюсь.
ПАЦИЕНТ: В шесть часов?
СВЯЩЕННИК: Где-то между половиной пятого и шестью часами.
ПАЦИЕНТ: Замечательно. Возможно, поможете мне поесть, у меня не очень хорошая сиделка.
СВЯЩЕННИК: Конечно.
ВРАЧ: Спасибо вам, что пришли. Нам было очень приятно.
Разговор с г-ном Н. представляет собой хороший пример откровенной беседы.
Сотрудники больницы считали его хмурым, необщительным человеком. Они предсказывали, что он вообще не захочет разговаривать с нами. В начале беседы он предупредил, что может потерять сознание, если будет сидеть больше пяти минут, но даже через час не хотел уходить и неплохо себя чувствовал как физически, так и морально. Его мысли были заняты многочисленными личными утратами, самой скорбной из которых была смерть дочери вдали от родины. Однако больше всего его удручала потеря надежды. Вначале он выразил ее, пересказывая то, как лечащий врач сообщил ему весть о болезни: «…Мне не оставили никаких надежд… Лечащий врач сам рассказал, что его отец перенес такую же операцию в той же больнице, у того же хирурга и в таком же возрасте, но лечение не помогло, и через год он умер. И что мне остается только ждать горького конца…»
Но г-н Н. не сдался и добился перевода в другую больницу, где ему вернули надежду. Позже он еще раз выразил в беседе ощущение безнадежности, вызванное тем, что ему не удалось разделить с женой свои интересы и жизненные ценности. Она часто заставляла его чувствовать себя неудачником, обвиняла в том, что их дети не добились в жизни многого, что он не приносит домой достаточно денег. Пациент полностью понимал, что удовлетворять претензии жены и даже давать ей надежды на их исполнение уже слишком поздно. Он слабел, терял способность работать, и, оглядываясь в прошлое, все отчетливее сознавал расхождения между своими интересами и ценностями жены. Расстояние между ними казалось таким огромным, что откровенное общение было почти невозможным. Все это началось в скорбный период жизни, когда пациент потерял дочь и к нему вернулось горе, которое он испытывал после смерти родителей. Когда он рассказывал об этом, у нас возникло ощущение, что этот человек пережил слишком много горя и просто не может воспринять собственную трагедию. Самое главное, жизненно важное оставалось невысказанным, хотя именно разговор об этом, как мы наделись, должен был принести ему покой. Его депрессия была отмечена чувством гордости, ощущением собственного достоинства вопреки недостатку признания со стороны семьи. Нам оставалась только одна возможность помочь ему — стать посредниками и организовать окончательный разговор по душам между больным и его женой.
Теперь мы понимали, почему работники больницы не могли сказать, осознает ли г-н Н. серьезность своего состояния. Он просто не задумывался о раке, так как пересматривал смысл своей жизни и искал способы поделиться этими раздумьями с самым важным для него человеком, женой. Он пребывал в глубокой депрессии, но ее причиной была не смертельная болезнь, а неразрешенная скорбь по покойным родителям и дочери. Когда хранишь в себе столько боли, новые страдания уже не затрагивают так, как здорового и благополучного человека. Однако мы чувствовали, что эту боль можно унять. Нужно было только суметь объяснить все это г-же Н.
На следующее утро мы встретились с ней, сильной, здоровой и энергичной женщиной, точно такой, какой нам ее описали. Она почти дословно подтвердила слова г-на Н., сказанные накануне: «Он был слаб, не брался даже покосить траву на лужайке, потому что мог упасть в обморок. На нашей ферме мужчины были совсем другие, сильные, мускулистые. Они работали от рассвета до заката… Зарабатывать деньги — это его тоже не интересовало…» Да, она понимала, что ему не долго осталось жить, но просто не могла забрать его домой. У нее была мысль отдать его в частную лечебницу, под присмотр сиделок, а она бы его навещала… Все это г-жа Н. излагала тоном занятого человека, у которого масса других забот и которого попусту отвлекают. Возможно, в ту минуту я сама проявила нетерпение или заразилась ощущением безнадежности г-на Н… Так или иначе, я своими словами повторила г-же Н. суть ее собственных слов; заявила, что г-н Н. не соответствовал ее ожиданиям, что он действительно не очень хорошо справился со многими задачами и едва ли она будет оплакивать его после смерти. Оценивая его жизнь, любой поневоле должен задуматься, было ли в ней что-то примечательное…
Г-жа Н. изумленно посмотрела на меня и дрогнувшим голосом почти прокричала: «Что вы о нем знаете? Он самый порядочный и преданный человек на свете».
Мы присели и поговорили еще несколько минут. За это время я пересказала ей кое-что из того, что мы обсуждали в беседе с ним. Г-жа Н. призналась, что никогда не задумывалась об этом с такой точки зрения и готова отдать должное множеству его достоинств. Мы вместе отправились в палату пациента, и там г-жа Н. сама повторила все то, что говорила мне в кабинете. Мне никогда не забыть бледное лицо, прячущееся в подушках, выжидательный взгляд, выражающий сомнения в возможности откровенного разговора. Его глаза загорелись, когда он услышал, как его жена произносит: «…я сказала ей, что ты самый порядочный и преданный человек на свете, таких сейчас не найти. По дороге домой мы заедем в церковь и заберем часть твоей работы, ведь для тебя это очень важно. Тебе будет чем заняться в ближайшие дни…»
Собирая его вещи, она говорила с ним, и в ее голосе ощущалась искренняя сердечность. Когда я выходила из палаты, он сказал: «Я не забуду вас, пока живу». Мы оба понимали, что жизнь его будет недолгой, но в ту минуту это не имело никакого значения.
ГЛАВА VII.
ПЯТЫЙ ЭТАП: СМИРЕНИЕ
Прощайте, братья, мне пора! Примите мой поклон, я отправляюсь в дальнюю дорогу.
Вот ключ от моей двери, вот мой дом — зачем он мне теперь? От вас же я хочу услышать лишь несколько последних добрых слов.
Я долго был соседом с вами, но больше получал, чем отдавал. День новый занялся, и лампа в моей келье догорела. Я слышу зов — и я готов к ответу.
Тагор, «Гитанджали», XCIII
Если в распоряжении пациента достаточно много времени (то есть речь не идет о внезапной и неожиданной смерти) и ему помогают преодолеть описанные выше этапы, он достигнет той стадии, когда депрессия и гнев на «злой рок» отступают. Он уже выплеснул все прежние чувства: зависть к здоровым людям и раздражение теми, чей конец наступит еще не скоро. Он перестал оплакивать неминуемую утрату любимых людей и вещей и теперь начинает размышлять о грядущей смерти с определенной долей спокойного ожидания. Больной чувствует усталость и, в большинстве случаев, физическую слабость. Кроме того, у него появляется потребность в дремоте, частом сне через короткие интервалы времени, но эта сонливость отличается от длительного сна в период депрессии. Это не тот сон, который означает попытку побега от действительности или отдыха от болей, неудобств или зуда. Такая постепенно усиливающаяся потребность в сне во многом похожа на младенческую, только она развивается в обратном порядке. Это не безропотная и безусловная капитуляция, не настроение полной безнадежности («А какой в этом смысл?») или моральной усталости («Я уже не в силах с этим бороться»), хотя мы часто слышим и такие объяснения. Конечно, это указывает на то, что сопротивление начало ослабевать, но даже капитуляция сама по себе — это еще не смирение.
Смирение не следует считать этапом радости. Оно почти лишено чувств, как будто боль ушла, борьба закончена и наступает время «последней передышки перед дальней дорогой», как выразился один из наших пациентов. Кроме того, в это время помощь, понимание и поддержка больше нужны семье больного, чем самому пациенту. Когда умирающий отчасти обретает покой и покорность, круг его интересов резко сужается. Он хочет оставаться в одиночестве — во всяком случае, уже не желает вторжения новостей и проблем внешнего мира. Посетителей он часто встречает без радушия и вообще становится менее разговорчивым; нередко просит ограничить число посетителей и предпочитает короткие встречи. Именно на этом этапе он перестает включать телевизор. Наше общение все меньше нуждается в словах: пациент может просто жестом предложить нам немного посидеть рядом. Чаще всего он только протягивает нам руку и просит посидеть молча. Для тех, кто чувствует себя неловко в присутствии умирающего, такие минуты тишины могут стать самым значительным переживанием. Иногда достаточно вместе молча послушать пение птиц за окном. Для пациента наш приход служит свидетельством того, что мы будем рядом с ним до самого конца. Мы даем ему понять, что ничуть не против того, чтобы посидеть без слов, когда все важные вопросы уже решены и остается только ждать того мгновения, когда он навсегда сомкнет веки. Больного очень утешает, что его не забывают, хотя он почти все время молчит. Пожатие руки, взгляд, поправленная подушка — все это может сказать больше, чем поток «громких» слов.
Для таких встреч лучше всего выбирать вечернее время, устраивать их в конце дня. В это время суток сопричастность душ не нарушается больничным шумом, медсестры не обходят больных с градусниками, а уборщицы не моют полы — возникают недолгие минуты уединения, которыми лечащий врач может завершить свой рабочий день; в это время их никто не потревожит. Такие встречи не занимают много времени, но пациенту очень приятно знать, что о нем не забыли даже после того, когда уже не в силах для него что-либо сделать. Облагораживают они и посетителей — они начинают понимать, что смерть — не такое пугающее, ужасное событие, каким оно многим видится.
Некоторые пациенты сражаются до самого конца, упорствуют, таят надежду, которая мешает им достичь этапа смирения. Именно они рано или поздно признаются: «Я больше не в силах это выдержать», и в тот день, когда они прекращают сопротивление, схватка заканчивается. Иными словами, чем яростнее они противятся неизбежной смерти, чем дольше пытаются отрицать ее, тем труднее им достичь окончательной стадии смирения, покоя и величия. Семья и сотрудники больницы могут считать сопротивляющихся больных сильными и стойкими, они часто советуют им бороться до конца и даже откровенно заявляют, что покорность перед лицом неминуемого означает трусость, капитуляцию и, хуже того, предательство собственной семьи.
Как же определить, когда пациент сдается «преждевременно», хотя нам кажется, что упорство с его стороны в сочетании с медицинской помощью могут дать ему шанс прожить дольше? Как отличить этот случай от состояния смирения, при котором наше стремление продлить больному жизнь противоречит его собственному желанию отдохнуть и умереть спокойно? Если мы не научимся различать эти два этапа, то скорее навредим пациентам, чем поможем им. Бесцельные усилия вызовут у нас чувство разочарования, но, главное, сделают для больного смерть еще более мучительным переживанием. Описанный ниже случай г-жи У. представляет собой краткую историю подобных событий, когда провести такое различие удалось не сразу.
Г-жа У., замужняя женщина пятидесяти восьми лет, была госпитализирована со злокачественной опухолью в брюшине; опухоль причиняла больной сильные боли и много неудобств. Пациентка встретила свою болезнь с отвагой и достоинством. Она очень редко жаловалась и пыталась все делать самостоятельно, отказывалась от помощи, сколько могла. Персонал больницы и родные поражались ее бодрости и способности невозмутимо смотреть в глаза неминуемой смерти.
Вскоре после очередной госпитализации она неожиданно впала в депрессию. Сотрудники больницы были озадачены такой переменой настроения и обратились за помощью к психиатру. Мы не нашли пациентку в ее палате; отсутствовала она и через несколько часов, когда мы снова к ней заглянули. Наконец мы нашли ее в коридоре перед рентгеновским кабинетом, где она лежала на каталке. Не было сомнений, что ее мучили боли и дискомфорт. После короткого обмена репликами выяснилось, что она прошла два довольно долгих сеанса рентгена, а теперь ей приходится ждать, так как нужно сделать еще пару снимков. Нарыв на спине причинял ей большие неудобства; в течение нескольких часов она ничего не пила и не ела, но особый дискомфорт вызывала потребность сходить в туалет. Она объяснила все это шепотом и сказала, что «онемела от боли». Я предложила отвезти ее к ближайшему туалету, но пациентка взглянула на меня, впервые за все время вяло улыбнулась и ответила: «Нет, я ведь босая. Ничего, подожду, пока меня отвезут в палату».
Это замечание позволило нам понять одну из потребностей пациентки: как можно дольше самостоятельно заботиться о себе, сохранять достоинство и независимость. Она была взбешена тем, что, несмотря на выносливость, ее довели то такого состояния, когда она была готова стонать на виду у всех, освободиться от давления в кишечнике прямо посреди коридора, рыдать перед чужими людьми, «которые просто исполняли свои обязанности».
Несколько дней спустя, когда мы смогли поговорить с ней в более благоприятных условиях, нам стало понятно, что она очень устала и уже готова к смерти. Она коротко рассказала о детях и муже, которые, по ее словам, вполне смогут справиться и без нее. Она остро ощущала, что ее жизнь, в особенности семейная, была хорошей и осмысленной, так что ей мало чего оставалось желать. Пациентка просила, чтобы ей позволили умереть в покое, оставили наедине с собой — и даже пожелала, чтобы муж приходил к ней реже. Больная призналась: единственным, что заставляет ее продолжать бороться за жизнь, является тот факт, что муж не в силах смириться с неизбежностью ее смерти. Она сердилась на него, так как он не мог смело взглянуть в лицо правде и отчаянно цеплялся за то, от чего она сама была готова отказаться. Я откровенно предположила, что она хочет отстраниться от этого мира, пациентка благодарно кивнула, и я оставила ее одну.
В то время ни больная, ни я еще не знали, что лечащий врач и хирурги провели совещание, на котором присутствовал муж г-жи У. Хирурги считали, что еще одно вмешательство сможет продлить ей жизнь, а муж умолял, чтобы врачи сделали все, что в их силах, лишь бы «повернуть стрелки часов вспять». Он не мог смириться с мыслью об утрате жены, не мог понять, что она уже не испытывает потребности оставаться с ним. Ее стремление отрешиться от всего вокруг, чтобы скончаться в умиротворенном состоянии, муж истолковывал как отчуждение — и это было выше его понимания. Рядом не было никого, кто пояснил бы ему, что это естественный процесс, по существу, даже прогресс, — возможно, признак того, что умирающая обрела покой и готовится встретить смерть в одиночестве.
Консилиум принял решение оперировать больную через неделю. Стоило ей узнать об этом, как она сразу начала слабеть. Почти каждую ночь ей требовалась двойная доза обезболивающего. Она часто просила лекарство уже через минуту после того, как делали очередной укол. Она стала беспокойной и встревоженной, кричала и звала на помощь. Трудно было представить, что это та же пациентка, которую все видели несколько дней назад: исполненная чувства собственного достоинства дама, не решающаяся сходить в туалет из-за отсутствия тапочек!
Подобные перемены в поведении должны служить для нас сигналом тревоги. Пациент пытается что-то объяснить. Перед умоляющими лицами мужа и детей, не теряющих надежды, что их мать еще вернется домой, больная не могла прямо отказаться от операции, способной продлить ей жизнь. Наконец, мы не должны недооценивать и вспышки надежды у самого пациента, ведь человеку не свойственно окончательно мириться с предстоящей гибелью, не оставляя себе ни малейшей надежды. Таким образом, совершенно не достаточно прислушиваться только к явным словесным заявлениям пациентов. Г-жа У. недвусмысленно показала, что хочет, чтобы ее оставили в покое. После сообщения о плановой хирургической операции она страдала от болей и дискомфорта. По мере приближения дня операции ее тревога усиливалась. Отменить намеченное вмешательство было не в нашей власти. Мы просто выразили лечащему врачу свое мнение и сомнения в том, что больная выдержит эту операцию.
Г-жа У. не предпринимала попыток отказаться от операции и не скончалась до нее. В операционной она продемонстрировала настоящий психоз, дополненный манией преследования. Она так кричала, что ее вернули в палату за несколько минут до запланированного начала операции.
Пациентка явно страдала манией, зрительными галлюцинациями и параноидальными мыслями. Она выглядела напуганной, персонал больницы уже не понимал смысла ее слов. Однако даже это психотическое поведение включало определенную степень осознания происходящего и логику, которая по-прежнему впечатляла. Вернувшись в палату, пациентка попросила свидания со мной. На следующий день, когда я вошла в палату, она бросила взгляд на совершенно сбитого с толку мужа и сказала мне: «Поговорите с этим человеком, заставьте его понять», после чего повернулась к нам спиной, недвусмысленно показывая, что хочет остаться одна. Затем я провела первую беседу с ее мужем, который просто потерял дар речи. Он не мог понять «безумного» поведения супруги, которая всегда была такой величественной женщиной. Ему было очень нелегко свыкнуться со стремительно развивающейся болезнью жены, но ее «сумасшедшие поступки» стали для него совершенно непостижимыми.
Муж пациентки со слезами на глазах сказал, что эти неожиданные перемены его сильно озадачили. По его словам, их брак был очень счастливым, а смертельная болезнь жены стала совершенно неприемлемым событием. Раньше он надеялся, что очередная операция позволит им вновь «быть такими же близкими, как и прежде», на протяжении долгой и счастливой супружеской жизни. Отстраненность жены и, разумеется, ее психотическое поведение очень его беспокоили.
Когда я спросила у г-на У., чего, по его мнению, хочет пациентка, а не он сам, мужчина умолк. Он медленно начал осознавать, что никогда не прислушивался к ее потребностям, полагая, что они целиком и полностью совпадают с его собственными. Он и помыслить не мог, что рано или поздно больной достигает того момента, когда смерть превращается в огромное облегчение. Он не знал, что пациенту проще умереть, когда ему позволяют сделать это, помогают постепенно отрешиться от всех важных взаимоотношений.
Наш разговор продолжался. Постепенно многие вещи прояснились и стали на свои места. Он вспомнил массу эпизодов, подтверждавших ее попытки объяснить ему свои потребности и его неспособность понять ее, поскольку его потребности были совсем другими. Г-н У. явно чувствовал облегчение, когда мы прощались, и отклонил мое предложение вернуться вместе с ним в палату жены. Он готов был к откровенному разговору с женой о последней стадии ее болезни и почти доволен отменой операции в результате, как он выразился, «ее сопротивления». Теперь он иначе истолковывал ее психоз: «Боже мой, да она, оказывается, сильнее нас всех. Смотрите, ведь она же одурачила нас Она заставила-таки нас понять, что не хочет операции. Возможно, психоз был единственным ее способом не умереть, пока она к этому не готова».
Несколько дней спустя г-жа У. подтвердила, что она не может умереть, пока не будет уверена, что муж отпускает ее. Она желала, чтобы он разделил некоторые ее чувства, а не «делал все время вид, что скоро у меня все будет в порядке». Муж искренне старался позволить ей говорить об этом, хотя ему было чрезвычайно тяжело и он не раз «отступал». То он цеплялся за последнюю надежду на облучение, то пытался забрать ее домой, намереваясь нанять частную сиделку.
На протяжении следующих двух недель он часто приходил, чтобы поговорить о жене и о своих надеждах, но также и о неминуемой ее смерти. В конце концов он смирился с тем фактом, что жена становится все слабее и не может разделять с ним многих переживаний, столь важных в их прежней жизни.
Она оправилась от психоза, когда операцию окончательно отменили и муж признал неминуемость близкой смерти, разделяя таким образом состояние жены. Теперь она меньше мучилась и снова взяла на себя роль безупречной леди, которая сама делает все, что ей физически по силам. Постепенно и медицинский персонал стал более чутким к ее изысканной речи и отвечал на нее со всей тактичностью, не забывая о самой важной потребности этой женщины: прожить свои последние дни с достоинством.
Г-жа У. — типичный пример наших умирающих пациентов, хотя в моей практике она единственная прибегла к столь острому психотическому эпизоду. Я уверена, что это была защита, отчаянная попытка предотвратить вмешательство, которое направлено было на продление ее жизни, но пришло слишком поздно.
Как уже говорилось, лучше поступают те пациенты, которые изливают свою ярость, рыдают в подготовительной депрессии и рассказывают о своих страхах и фантазиях кому-нибудь, кто способен спокойно сидеть и слушать. Мы должны понимать огромную работу, которую необходимо проделать умирающему, чтобы достичь этой стадии смирения, когда начинается постепенное отрешение (декатексис) и общение перестает быть двусторонним.
Мы нашли два способа более легкого достижения этой цели. Один тип пациентов приходит к смирению с минимальной помощью извне, или даже без таковой; требуется лишь молчаливое выслушивание, без какого-либо вмешательства. Это — пожилые пациенты, понимающие, что жизнь свою они уже прожили, свое отработали и отстрадали, детей подняли — словом, свою задачу выполнили. Оглядываясь на прожитые трудовые годы, они видят смысл своей жизни и ощущают определенное удовлетворение.
Пациентам другого типа гораздо тяжелее, но и они могут достичь описанного состояния души и тела, если уделить им достаточное внимание и помочь приготовиться к смерти. Они больше нуждаются в помощи и понимании со стороны окружающих в течение всех предыдущих стадий борьбы. Большинство наших пациентов умирали на стадии смирения, не испытывая страха и отчаяния. Это, пожалуй, больше всего напоминает описание раннего детства у Беттельхайма:
«Поистине, это было время, когда от нас ничего не требовали, а все, что нам было нужно, давали. Психоанализ рассматривает раннее детство как время пассивности, как возраст первичного нарциссизма, когда мы ощущаем Я как Всё».
Так что, видимо, в конце жизни, все исполнив и все отдав, отстрадав и отрадовавшись, мы возвращаемся снова в то состояние, с которого начинали, и круг жизни замыкается.
Два следующих интервью характерны для супружеских пар, которые стремятся достичь стадии смирения.
Д-р Г., дантист, отец двадцатичетырехлетнего юноши, был глубоко религиозным человеком. Мы приводили этот пример в главе IV о гневе, когда возник вопрос «Почему именно я?» и больной вспоминал старого Джорджа, чья жизнь, казалось бы, должна быть унесена раньше, чем его. Вопреки общей картине смирения, которую он демонстрировал на протяжении разговора, он не скрывал и своей надежды. Его разум четко осознавал злокачественность заболевания, и, как медик-профессионал, он хорошо понимал, что его шансы на продолжение трудовой жизни весьма призрачны. И все же он не хотел — или не мог — вплоть до нашего разговора всерьез обсуждать вопрос о закрытии его кабинета. Он даже нанимал девушку, которая принимала звонки его клиентов, и жил в надежде, что Господь повторит чудо, которое явил ему на фронте, когда в него стреляли почти в упор и промахнулись: «Когда человек стреляет в тебя с двадцати футов и промазывает, то понимаешь, что тут дело не в твоей ловкости, тут вмешалась иная сила».
ВРАЧ: Не расскажете ли вы нам, как давно вы в больнице и что привело вас сюда?
ПАЦИЕНТ: Отчего ж. Я дантист, как вы, вероятно, знаете, и у меня уже немало лет практики. В конце июня я внезапно почувствовал эту странную боль и немедленно сделал рентген, а 7 июля в этом году мне сделали первую операцию.
ВРАЧ: В 1966?
ПАЦИЕНТ: Да, в 1966. Я понимал, что на девяносто шансов из ста это злокачественная опухоль, но не придал этому серьезного значения, потому что это со мной впервые, а раньше я вообще никогда не болел. Я очень хорошо выдержал операцию, быстро поправился, но вскоре у меня началась непроходимость кишечника, и пришлось снова ложиться на операцию, которую мне сделали 14 сентября. А 27 октября я почувствовал, что состояние мое не улучшается. Моя жена обратилась к здешнему врачу, и вот я здесь без перерыва с 27 октября. Вот, по-моему, и вся история моей госпитализации.
ВРАЧ: В какой период вашей болезни вы узнали правду о вашем состоянии?
ПАЦИЕНТ: Фактически, я понял это сразу же, когда увидел рентгеновский снимок, потому что 90% таких новообразований всегда злокачественны. Но, как я вам уже говорил, я не был сильно обеспокоен и продолжал заниматься своими делами как обычно. И потом, хирург мне не сказал ничего, но зато сразу же после операции они объяснили всю серьезность положения членам моей семьи. Вскоре после этого мы с сыном ехали в соседний городок; мы всегда были дружной семьей, и вот зашла речь о моем общем самочувствии, и сын спросил меня: «Мама тебе говорила, что у тебя на самом деле?» Я ответил, что нет. И тогда — я знаю, это ему было очень тяжело, — он сообщил мне, что еще после первой операции стало очевидно, что у меня не только злокачественная опухоль, но что она дала метастазы по всему телу, кроме печени и селезенки. Операция уже бесполезна, я и сам начинал чувствовать это. Мой сын шел к познанию Бога с десяти лет от роду, и мы собирались разделять с ним религиозный опыт по мере его взросления и учебы в колледже. В этой истории он повзрослел необычайно…
ВРАЧ: Сколько ему сейчас?
ПАЦИЕНТ: В это воскресенье ему исполнится двадцать четыре года. Я почувствовал его зрелость в полной мере только после этого разговора.
ВРАЧ: А как вы реагировали на сообщение сына?
ПАЦИЕНТ: Ну, если говорить откровенно, я и сам догадывался — просто по некоторым наблюдениям. Я ведь не совсем невежда в подобных вопросах; я уже лет двадцать связан с больницей, с медперсоналом, и видел всякое. Сын тогда же сообщил мне, что хирург сказал матери, что жить мне осталось от четырех до четырнадцати месяцев. Я не почувствовал ничего. С тех пор как я узнал обо всем, в моей душе царит полный мир. У меня не было периода депрессии. Пожалуй, каждый в моем положении смотрит на кого-нибудь другого и думает: «Почему я — не он?» И я не раз так думал, но всегда мимолетно. Вспоминаю, однажды мы пошли к моему офису, чтобы забрать почту, и встретили по дороге старика, которого я знаю с детства. Ему восемьдесят два года, и от него никакого проку на этой земле, насколько нам, смертным, дано судить. У него ревматизм, он парализован, грязен — словом, это вовсе не тот человек, каким хотелось бы быть. И меня пронзила мысль, что ведь вместо меня мог бы быть старый Джордж. Но эта мысль не особенно занимала меня. Кажется, это был единственный раз, когда я такое подумал. Я уже ожидаю встречи с Господом, но в то же время мне хотелось бы побыть на земле как можно дольше. Самое глубокое мое чувство — расставание с семьей.
ВРАЧ: Сколько у вас детей?
ПАЦИЕНТ: Только один.
ВРАЧ: Один сын.
ПАЦИЕНТ: Я говорил уже, мы всегда были очень дружной семьей.
ВРАЧ: Дружная семья, и вы дантист, вы почти уверены были, что это рак, когда увидели рентгенограмму, — как же вы ни разу не заговорили об этом ни с женой, ни с сыном?
ПАЦИЕНТ: Даже не знаю толком. Сейчас мне известно, что жена и сын твердо рассчитывали на то, что операция будет серьезной, но после недолгого дискомфорта нас всех ожидает благополучное завершение этой истории. Мне не хотелось донимать их расспросами. Я хорошо знаю, что правда стала для моей жены страшным ударом. Сын в этот период держался как могучая стена; в этом и проявилась его зрелость. Но мы с женой обсуждали положение очень откровенно, и мы продолжаем искать лечение, потому что я верю:
Бог исцеляет. Он может исцелить, и какой бы путь исцеления Он ни избрал, я принимаю его. Мы не знаем, на что способна медицина, мы не знаем, как происходят медицинские открытия. Как может человек выкопать из земли какой-то корень и сказать: «Это может помочь в лечении такой-то и такой-то болезни»? Но такое случается. В каждой больничной лаборатории вы можете видеть эти маленькие штучки, которые быстро разрастаются… чувствуется, что это имеет прямое отношение к исследованиям рака. Как можно прийти к подобному заключению? Это таинственно, и это чудесно, так я это воспринимаю. И я думаю, что все это — от Господа.
СВЯЩЕННИК: Я делаю вывод, что ваша вера очень много значила для вас, и не только в период болезни, но и раньше.
ПАЦИЕНТ: Да, это верно. Я достиг спасительного знания Господа Иисуса Христа около десяти лет назад. Я пришел к этому через Священное писание, но я еще не закончил его изучение. Я остановился на том, что я — грешник. Я не понял этого, потому что я — хороший человек, я всегда был хорошим человеком.
ВРАЧ: С чего у вас это началось десять лет назад?
ПАЦИЕНТ: Это началось еще раньше. Там, за океаном, я познакомился со священником, который очень серьезно обсуждал со мной подобные вопросы. Я не верю, что в человека могут стрелять, и не один раз, и не попасть, и что этот человек не поймет, что существует что-то иное и что оно стоит рядом с ним, особенно если расстояние не превышает двадцать футов. И я говорю вам, я всегда был хорошим человеком, я не богохульствовал, не произносил дурных слов, не пил, не курил, я об этом даже не думал. Я не ухаживал за женщинами — чрезмерно, то есть, — я всегда был настоящим хорошим парнем. Поэтому и не понимал, что я грешник, до той самой минуты во время его проповеди. Тогда собралось тысячи три слушателей. В конце проповеди — я уже не помню, о чем она была, — он попросил выступить вперед тех, кто хочет посвятить себя Господу. Я не знаю, почему я вышел вперед, но что-то меня заставило это сделать. Когда впоследствии я задавал себе вопрос о том моем решении, то вспоминал, что подобное состояние было у меня в детстве, когда мне исполнилось шесть лет. Когда этот день только приближался, я ожидал, что весь мир удивительно расцветет и что все изменится. И вот утром мама спустилась вниз по ступенькам, а я стою перед огромным зеркалом в нашей гостиной; мама говорит: «С днем рождения, Бобби». А потом еще: «Что ты здесь делаешь?» Я ответил, что смотрю на себя. «И что же ты видишь?» Я говорю ей:
«Мне уже шесть лет, но я на вид такой же, как был, и я чувствую себя так же, как и раньше, и, ей-богу, я какой был, такой и есть». Но последующий опыт показал мне, что я не остался тем же; я не мог терпеть такие вещи, которые терпел раньше.
ВРАЧ: Какие, например?
ПАЦИЕНТ: Например, ну, вы знаете, если вы общаетесь с людьми… есть что-то такое, что деловые люди практикуют постоянно… И вот, внезапно осознаешь, что очень много контактов происходит в баре. Перед профессиональным собранием многие забираются в бар мотеля или отеля, сидят там, попивают, заводят такую вроде мужскую дружбу… Меня это не особенно касалось. Я не пью, ну и пусть себе. Но потом это начало меня касаться — потому что я не верил в это. И я не мог полностью смириться с этим. Я уже не мог делать того, что делал раньше, и вот тут-то я понял, что я перестал быть тем, кем был. Я другой.
ВРАЧ: Скажите, помогает ли это вам теперь, когда вам пришлось столкнуться с собственной смертельной болезнью, когда вы умираете?
ПАЦИЕНТ: Да, и очень помогает. Как я уже говорил, я ощущал полный мир в душе, когда миновал наркоз после первой операции. Я был так спокоен, как вообще могу быть спокоен.
ВРАЧ: И вы совсем не боитесь?
ПАЦИЕНТ: Честно говоря, не боюсь.
ВРАЧ: Вы знаете, вы необыкновенный человек, доктор Г. Ведь очень редко приходится видеть человека, который не испытывает страха перед лицом собственной смерти.
ПАЦИЕНТ: Что ж, это потому, что я ожидаю, что когда умру, то буду у Господа дома.
ВРАЧ: С другой стороны, у вас все-таки остается надежда на исцеление или на некое медицинское открытие, правда ведь?
ПАЦИЕНТ: Да.
ВРАЧ: Помнится, вы именно это говорили чуть раньше.
ПАЦИЕНТ: Священное писание обещает исцеление, если мы обратимся к Господу. Я обращался к Господу и просил об исцелении. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы исполнилась Его воля. И это превыше всего, независимо от моих интересов.
ВРАЧ: Что вы изменили в вашей повседневной жизни с тех пор, как узнали о своей болезни? Изменилось ли что-либо в вашей жизни?
ПАЦИЕНТ: Вы имеете в виду деятельность? Вот через пару недель я выпишусь из больницы, но я не знаю, что будет дальше. А в больнице я просто жил, хуже или лучше, изо дня в день. Вы знаете больничные будни, что тут рассказывать…
СВЯЩЕННИК: Если я правильно услышал то, что вы говорили раньше, то мне это поразительно знакомо. Ведь вы сказали то же, что сказал Иисус перед крестом; «Не моя, но Твоя да исполнится воля».
ПАЦИЕНТ: Я не думал об этом.
СВЯЩЕННИК: Таково значение ваших слов. Вы желали, вы надеялись, если возможно, пусть это не будет ваш час, но это желание было побеждено более глубоким желанием: «Да будет воля Твоя».
ПАЦИЕНТ: Я знаю, что мне осталось очень недолго жить, может быть, несколько лет благодаря нынешнему лечению, а может быть, всего несколько месяцев. Конечно, никто из нас не может быть совершенно уверен, что вернется вечером домой.
ВРАЧ: У вас есть сколько-нибудь конкретное представление о том, как это будет происходить?
ПАЦИЕНТ: Нет. Я знаю, что все предопределено, об этом сказано в Писании, и на это я возлагаю свою надежду.
СВЯЩЕННИК: Мне кажется, нам пора заканчивать разговор. Д-р Г. не может сидеть так долго, еще две-три минуты, и достаточно.
ПАЦИЕНТ: Нет, я чувствую себя вполне хорошо.
СВЯЩЕННИК: В самом деле? А я говорил врачу, что вы долго не выдержите.
ВРАЧ: Давайте мы договоримся: как только вы почувствуете усталость, скажите нам сразу. Этот очень откровенный разговор, и на такую ужасную тему… скажите, доктор Г., как вы это переносите?
ПАЦИЕНТ: Знаете, я вовсе не считаю эту тему ужасной. После того как его преподобие И. и его преподобие Н. побывали утром в этой комнате, у меня было время для размышлений, и я понял, что никаким особенным образом эти разговоры на меня не влияют, разве что дают надежду, что я могу быть полезен кому-то еще, кто оказался в моем положении, но лишен моей веры.
ВРАЧ: Считаете ли вы, что в разговорах с умирающими и тяжелобольными пациентами мы можем научиться чему-то такому, что поможет нам более эффективно поддерживать перед лицом смерти других больных, особенно таких, у кого нет вашей веры? Потому что ваша вера действительно помогает вам, это очевидно.
ПАЦИЕНТ: Есть одна вещь, которую я немножко понял с тех пор, как болею. У меня такой характер, что я предпочитаю знать все, полный прогноз. Но есть люди, и их большинство, которые совершенно теряют самообладание, узнав о своей смертельной болезни. Поэтому, я считаю, только опыт может подсказать вам, что делать, когда вы встречаетесь с новым пациентом.
ВРАЧ: В этом одна из причин того, что интервью с пациентами мы берем в присутствии сиделок или другого больничного персонала, способного это выдержать. Наблюдать одного пациента за другим, выявлять тех, кто действительно хочет поговорить об этих вещах, а кто предпочитает даже не упоминать о них.
ПАЦИЕНТ: Ваши первые визиты, мне кажется, должны быть нейтрального характера, пока вы не выясните, насколько глубоко пациент чувствует самого себя, каков его опыт, как сильна его религиозность и его вера.
СВЯЩЕННИК: Мне кажется, д-р Р. считает, что д-ру Г. сопутствует удача; но я хочу обратить внимание на ваши слова об очень важных вещах, вытекающих из этого опыта, в частности о ваших отношениях с сыном — ведь это совсем другой уровень, и ваша оценка его возмужания идет именно отсюда.
ПАЦИЕНТ: Да, я тоже подумал, что нам с ним повезло. И я как раз собирался говорить об этом, потому что я чувствую, что речь не о везении или невезении. Познать Господа Спасителя нашего — это не вопрос удачи. Это очень глубокий и удивительный опыт, который, я думаю, подготавливает нас к превратностям реальной жизни, к испытаниям, которые нас ждут. Всех нас ждут испытания, всех ждут болезни. Но этот опыт подготавливает нас к тому, чтобы принять их, потому что, вы знаете, я уже только что рассказывал: если в вас стреляют с двадцати футов и промахиваются, то вы понимаете, что дело не в вашей особой ловкости, а что существует какая-то иная сила. Все вы слышали, и это правда, что в стрелковых окопах не бывает атеистов. Да, в окопах под огнем люди становятся очень близкими к Богу» да и не только в окопах, а при любой серьезной опасности, внезапно осознав ее, они автоматически призывают имя Бога. И это не вопрос удачи. Это соискание и обретение того, что Господь приберегает для нас.
ВРАЧ: Я имела в виду удачу не в смысле случайного счастливого события, а, скорее, как некое счастливое свойство.
ПАЦИЕНТ: Я понимаю вас. Да, это счастливый опыт. Удивительное чувство — переживать этот опыт в течение собственной болезни. Это как бы все молятся за тебя, и ты понимаешь, что они молятся за тебя. Это помогает необычайно. Мне это все время помогает.
СВЯЩЕННИК: Интересно, я уже говорил об этом д-ру Р., когда мы шли на этот семинар: не только вы ощущаете людей, которые помнят вас, но и ваша супруга поддерживает людей, чьи родственники умирают здесь и за кого она молится.
ПАЦИЕНТ: Это еще одна вещь, о которой я хотел сказать. Моя жена заметно изменилась за это время. Она стала намного сильнее. Раньше она всецело зависела от меня. Я, как вы, вероятно, догадываетесь, очень независимый человек; я уверен, что всегда сумею взять на себя ответственность, когда приходит время ее взять. Поэтому до сих пор у жены просто не было случая испытать себя в таких вещах, которые многим женщинам хорошо знакомы, — например, в семейном бюджете, бизнесе и тому подобное. Это и обусловило ее полную зависимость. Но сейчас она сильно изменилась. Она стала намного сильнее и… мудрее.
ВРАЧ: Как вы думаете, стоит ли нам немного поговорить с ней об этих вещах, или для нее это может быть слишком тяжело?
ПАЦИЕНТ: Нет, я не думаю, что это ее ранит. Она христианка, она знает, что Господь — ее Спаситель, и всегда, с самого детства была верующей. Еще ребенком она познала исцеление. Специалисты уже готовы были направить ее в больницу Сент-Луиса для удаления глаза, на котором развивалась язва. Она получила чудесное исцеление и, благодаря этому исцелению, привела к Господу еще нескольких человек, в том числе одного врача. Она всегда была убежденной проповедницей методистского учения, но этот опыт стал важным укрепляющим элементом. А тогда ей было всего десять лет, и история с тем врачом осталась для нее поддержкой на всю жизнь.
ВРАЧ: До вашей болезни, в молодые годы, не было ли у вас сильных потрясений или каких-то больших несчастий? Так чтобы вы могли сравнить, как вы воспринимали их тогда, с тем, как воспринимаете теперь.
ПАЦИЕНТ: Нет, не было. Я часто задумываюсь над тем, как мне удается это вынести. Я знаю: только благодаря помощи Господа. У меня ведь действительно никогда не было тяжелых, длительных стрессов, которые как-то повлияли бы на меня, за исключением опасности. Конечно, я был солдатом на передовой во время Второй мировой войны; то был мой первый стресс, первый раз в жизни, когда я видел смерть в лицо и знал, что это смерть, — стоит только оступиться.
ВРАЧ: Я думаю, нам все же пора заканчивать беседу, Быть может, мы еще будем заглядывать к вам иногда.
ПАЦИЕНТ: Мне будет приятно.
ВРАЧ: Большое спасибо за то, что вы пришли.
ПАЦИЕНТ: Я рад нашей встрече.
Госпожа Г., супруга д-ра Г., пришла в больницу к мужу как раз в тот момент, когда мы спускались с ним в холл для разговора. Священник, уже знакомый с ней по предыдущим визитам, объяснил ей вкратце нашу задачу. Она заинтересовалась, и мы пригласили ее на беседу после нашего разговора с мужем. Пока шел этот разговор, она ожидала в соседней комнате и, таким образом, имела возможность обдумать предстоящую беседу (мы всегда стараемся дать собеседнику возможность свободного выбора, для чего и нужен интервал между приглашением и собственно беседой). Когда муж ушел в свою палату, мы пригласили к себе его супругу.
ВРАЧ: Для вас было несколько неожиданным наше приглашение, когда вы пришли навестить мужа. Вы говорили со священником, о чем пойдет речь?
Г-жа Г.: Да, немного.
ВРАЧ: Как вы восприняли известие о совершенно неожиданной и серьезной болезни вашего мужа?
Г-жа Г.: Конечно, вначале я была потрясена.
ВРАЧ: Он был здоровым человеком до этого лета?
Г-жа Г.: Да, вполне.
ВРАЧ: Он никогда сильно не болел, не жаловался?
Г-жа Г.: Ну, вот только эти небольшие боли.
ВРАЧ: И что вы предприняли?
Г-жа Г.: Мы пошли к врачам, и кто-то предложил сделать рентген. А потом была операция. И только после нее я по-настоящему осознала, что ситуация очень серьезна.
ВРАЧ: Кто рассказал вам, и как это было рассказано?
Г-жа Г.: Наш врач — очень близкий друг нашей семьи. Еще перед операцией он отозвал меня в сторону и сказал, что, вероятно, это злокачественная опухоль. «О, нет», — сказала я. «К сожалению, я должен просто предупредить тебя», — сказал он. То есть я была уже немного подготовлена, но еще не понимала, что пришла беда. А затем хирург сказал: «Мы не все удалили». Это было первое, что я запомнила. Это был настоящий шок для меня, и я еще подумала тогда, что долго это не протянется. Кто-то из врачей сказал, что ему осталось месяца три или четыре, — как можно это сразу осознать? И первое, что я сделала, — я стала молиться. Я молилась все время, пока он находился в хирургическом отделении. Я посылала Богу очень эгоистичную молитву — я просила, чтобы опухоль не была злокачественной. Конечно, это было по-человечески. Человеку хочется, чтобы было так, как ему хочется. И пока я не отдала это на волю Божью, я не могла обрести покоя, который мне был так необходим. Конечно, день операции, как ни посмотри, был тяжелым днем. А потом та ужасная ночь. Но ночью я действительно нашла мир, мир, который дал мне мужество. Я нашла много мест в Библии, которые влили в меня силу. У нас дома есть семейный алтарь. Как раз перед тем, как это все случилось, мы изучали на память Священное писание, и мы часто повторяли место из Исаии.
ВРАЧ: Это было еще до того, как вы узнали об этой болезни?
Г-жа Г.: Недели за две. И знаете, это пришло прямо ко мне, и я постоянно повторяла это. И потом, я нашла так много слов в книге Иоанна, которые тоже пришли прямо ко мне. Что бы ни попросил ты именем Моим, будет исполнено. Но я хотела Божьей воли, и только через нее я нашла себя. Я смогла выдержать, потому что мы — глубоко верующие люди, и у нас только один сын. Сына тогда не было, он учился в колледже. В колледже дети заняты массой дел, но он приехал, он все время был со мной, и мы буквально перечитали все Писание в поисках помощи. Он сочинял вместе со мной такие хорошие молитвы, и потом были люди из нашей церкви, очень добрые люди. Они приходили к нам и показывали другие отрывки для чтения из Библии: я их читала раньше множество раз, но они никогда не говорили мне того, что говорят теперь.
СВЯЩЕННИК: В таких случаях кажется, будто они подхватывают и превращают в слова ваши чувства.
Г-жа Г.: Каждый раз, когда я открывала Библию, я сразу находила что-то такое, что как бы ожидало меня и прямо обращалось ко мне. Я дошла до такого состояния, когда я просто думала: ну вот, быть может, из этого получится что-то хорошее. Да, именно так я это воспринимала и в этом же черпала силу на каждый день. Мой муж — очень глубоко верующий, и когда ему сказали всю правду о его состоянии, он спросил меня: «Что бы ты делала, если бы тебе сказали, что тебе остается жить от четырех до четырнадцати месяцев?» Я бы просто отдала это в руки Господа и доверилась Ему. Конечно, в медицинской сфере я хотела, чтобы для него было сделано все возможное. Доктора говорили нам, что больше ничего нет, а я предлагала и кобальт, и это особое рентгеновское облучение, вы знаете. Они не соглашались с этим, они сказали, что болезнь смертельна. А мой муж тоже не из тех, кто так просто сдается. И тогда мы с ним все это обсудили, и я сказала: «Ты знаешь Бога, Бог действует только одним способом — через человека; это Он вдохновляет врачей. Ты помнишь эту маленькую заметку в журнале, сосед приносил?» Я даже не советовалась с мужем, я просто обратилась к тому врачу, здесь, в больнице.
ВРАЧ: Была какая-то заметка?
Г-жа Г.: Да, в журнале. Я подумала: что же, они добились большого успеха. Я считала, что это неизлечимо, но вот они добились успеха. Дай-ка я просто спрошу. Я написала письмо, отправила его специальной почтой, и в субботу утром он уже получил его, прямо за рабочим столом. Секретарши в этот момент не было, и он позвонил сам: «Меня очень заинтересовало ваше письмо, в нем все хорошо объяснено, но мне нужны результаты микроскопического анализа. Возьмите его у вашего врача и пришлите мне, как это письмо — вы отослали его вчера, а сегодня утром я его получил». Я так и сделала, послала ему анализы. Он позвонил тогда сразу и сказал: «Каждый день в этой области новинки». А сейчас он говорит: «Я не могу обещать вам что-то необыкновенное, но я определенно не согласен с этим фаталистическим отношением». Для меня это звучало чудесной музыкой: можно хоть что-то делать, а не сидеть и ждать сложа руки, как предлагают наши врачи.
Дальше все было довольно быстро. Мы приехали скорой помощью. Должна сказать, что в тот вечер, когда они обследовали его, мы не услышали ничего обнадеживающего. Нам даже захотелось повернуться и уйти домой. И снова я молилась. Я ушла в тот вечер к родным и осталась у них. Я не знала, что ожидает меня утром. Они предоставили нам самим решать, проходить ли у них лечение. Я опять ушла и молилась и сказала просто: надо сделать все, что мы можем сделать. И еще я решила, что принимать решение будет мой муж, а не я. Утром, когда я пришла в больницу, он сказал без колебаний: «Я готов к этому лечению». Они сказали, что он похудеет фунтов на сорок-шестьдесят, а он уже и так потерял много веса после двух операций. Я просто не знала, что делать. Но такой уж неожиданностью это не было, я понимала, что иначе нельзя. И когда они начали курс лечения, ему стало совсем плохо. Как я говорила, они и не давали нам больших обещаний, и мы просто держались за эту маленькую надежду: быть может, опухоль уменьшится и кишечник откроется. У нас была частичная закупорка кишечника, и здесь появилась какая-то надежда. За все это время у меня не раз опускались руки; но я часто разговариваю с пациентами этой больницы, с самыми тяжелобольными, и ловлю себя на том, что вот я их ободряю, и тогда я оглядываюсь на нашу беду. И просто — держусь. Так и живем. Я знаю, что в этой области продолжаются исследования, а главное, как сказано в Писании, с Богом нет ничего невозможного.
ВРАЧ: Хотя вы приняли вашу судьбу, у вас все же остается надежда, что что-то может произойти.
Г-жа Г.: Именно так.
ВРАЧ: Вы также все время употребляете местоимение мы: мы решили пройти лечение, у нас была операция. Очень похоже, что вы с мужем действительно все делаете в полном согласии.
Г-жа Г.: Я действительно верю, что если все это ему не поможет, если пришел его час, значит, такова Божья воля.
ВРАЧ: Сколько лет вашему мужу?
Г-жа Г.: Ему исполнилось пятьдесят в тот день, когда он пришел в эту больницу.
ВРАЧ: В тот самый день…
СВЯЩЕННИК: Считаете ли вы, что эти переживания сблизили, сплотили вашу семью?
Г-жа Г.: О да, конечно, сплотили. Как никогда раньше, мы осознали зависимость от Бога. Мы чувствуем себя вполне самодостаточными — так нам кажется; но приходит час, подобный этому, и выясняется, что не так уж много ты значишь. Я научилась быть зависимой и жить сегодняшним днем, не пытаясь планировать. У нас есть сегодня, но может не быть завтра. И я говорю: если болезнь мужа фатальна, то я чувствую, что на это есть воля Бога; быть может, через наш опыт кто-то другой укрепит свою силу и надежду на Бога.
СВЯЩЕННИК: У вас хорошие отношения с персоналом? Я знаю, что у вас приятные отношения с другими пациентами, потому что у нас были совместные беседы, когда мы хотели помочь родным некоторых пациентов. Я тогда тоже присутствовал и слушал эти беседы. И вот вы только что говорили, как вы ловите себя на том, что ободряете других людей. Скажите, как это воспринимает человек из другого города? Получали ли вы поддержку со стороны персонала, и какую? Что дает в этой ситуации опыт члена семьи, я имею в виду семью, в которой есть близкий к смерти человек, как ваш муж?
Г-жа Г.: Поскольку я сама работала сиделкой, то много разговаривала с сиделками. Я нашла здесь несколько глубоко верующих сиделок, и они говорят, что вера в Бога может сделать очень много, что нужно бороться, не сдаваться ни в коем случае. Можно сказать, что я нашла с ними общий язык. Мне очень нравится, что они совершенно открыты и искренни. И я считаю, что членам семьи нужно все объяснять как есть, пусть даже надежды совсем мало, по крайней мере они будут не так растеряны. Я думаю, что все одобряют это. И должна сказать, что это хорошая больница, очень сильный и приятный коллектив.
СВЯЩЕННИК: Вы говорите это не только по отношению к себе, но и к тем семьям, с которыми вы здесь познакомились?
Г-жа Г.: Да.
СВЯЩЕННИК: И они хотят все знать?
Г-жа Г.: Да. И очень многие семьи скажут вам, что это удивительная больница, а кому же еще это знать, как не им. Вот такое отношение я здесь нашла. Люди просто выходят из приемной и разговаривают с другими посетителями, и говорят, что здесь удивительное место. И они совершенно правы.
ВРАЧ: Можем ли мы что-то улучшить здесь?
Г-жа Г.: Я считаю, что мы всегда можем что-то улучшить. Вот я, например, вижу, что не хватает услуг сиделок. Иногда на звонок никто не откликается, даже когда это необходимо. В то же время, я знаю, это всеобщий бич. Что поделаешь, не хватает сиделок, хотя, если сравнить с тем, что было тридцать лет назад, когда я работала сиделкой, перемены очень большие. Конечно, больным в критическом состоянии уделяется достаточно много внимания и без специальных сиделок.
ВРАЧ: У вас есть какие-либо вопросы? Скажите, г-жа Г., кто сказал вашему мужу всю правду о его болезни?
Г-жа Г.: Я первая сказала ему.
ВРАЧ: Как и когда сказали вы ему об этом?
Г-жа Г.: Через три дня после первой операции, в больнице. Еще по дороге в больницу он сказал мне: «Если это окажется злокачественная опухоль, не сходи с катушек». Именно эти слова сказал. Я тогда ответила: «Не сойду, но у тебя все будет хорошо». Но еще через пару дней врач, наш друг, уехал в отпуск, это был уже июль, и я сказала ему. Он просто сидел и смотрел на меня, и я сказала: «Я думаю, ты хочешь знать, что они сделали». Он говорит: «Да, мне никто не говорил». Я сказала: «Они удалили у тебя сорок пять сантиметров толстого кишечника». «Сорок пять сантиметров?! — удивился он. — Ну, что же, значит они сшили здоровую ткань». Я тогда не стала продолжать разговор, и лишь спустя три недели, когда мы уже выписались из больницы и сидели как-то наедине у себя в гостиной, я решилась сказать ему всю правду. И он тогда сказал: «Что поделаешь, теперь нам остается наилучшим образом распорядиться тем временем, которое нам осталось». Вот так он отнесся к этому. А затем пошел на свою работу и еще два месяца работал. Потом мы взяли отпуск. У сына тоже наступили каникулы в колледже, и мы все поехали в Эстез-Парк. Мы просто чудесно провели это время. Он даже немного играл в гольф.
ВРАЧ: Там, в Колорадо?
Г-жа Г.: Да. Мой сын родился в Колорадо. Мы там жили, когда муж проходил службу. Мы очень любим те места и проводим там отпуск почти каждый год. И я так рада, что мы провели это время вместе, это на самом деле было замечательно. А через неделю после нашего возвращения у него опять возникла непроходимость кишечника. И опухоль снова выросла, в том самом месте, где ее удалили.
ВРАЧ: Он закрыл свой офис окончательно?
Г-жа Г.: Он закрыл его всего на пять недель. После первой операции он выписался домой и пошел работать, а потом снова открыл офис после отпуска. Но проработал там всего около недели. Всего шестнадцать дней он работал после операции 7 июля.
ВРАЧ: А что сейчас с его офисом?
Г-жа Г.: Кабинет сейчас закрыт. Но есть девушка, которая принимает телефонные звонки. Все хотят знать, когда он возобновит работу. Я уже дала объявление, мы хотим продать офис. Сейчас неподходящее для этого время года. В этом месяце один покупатель собирается прийти посмотреть. А муж настолько ослабел, что его включили в список критических больных. Я никуда не могу поехать, за всем нужно присматривать. Сын все это время ездит то туда, то сюда…
ВРАЧ: Что он изучает?
Г-жа Г.: Он уже закончил. Он начал стоматологическую практику, но сейчас оставил это и переключился на домашние проблемы. Он должен был идти в армию, но, когда отец оказался в критическом состоянии, призывная комиссия дала отсрочку на несколько месяцев. Сейчас он должен будет принимать решение, что делать дальше.
ВРАЧ: Я полагаю, нам пора заканчивать беседу. У вас есть какие-либо вопросы, г-жа Г.?
Г-жа Г.; Вы это все делаете в надежде что-то улучшить?
ВРАЧ: Тут есть много причин. Главная наша задача — узнать от самих тяжелобольных пациентов, что они переживают. Какие страхи, фантазии или одиночество они испытывают, как можем мы понять их и помочь им. У каждого пациента, с которым мы здесь беседуем, есть свои проблемы и конфликты. Иногда мы стараемся встретиться и с семьей больного, выяснить, как она справляется с ситуацией и чем персонал больницы может помочь ей.
Г-жа Г.: Мне не раз говорили: «Я не понимаю, как ты можешь этим заниматься». Дело в том, что я просто знаю, как часто в жизни отдельного человека бывает частица Бога. Я всегда это чувствую. Я прошла школу медицинских сестер, и мне всегда везло на хороших людей, христиан. Я много всякого читала и слышала, например, о кинозвездах. Если они веруют, если их вера в Бога крепка, то это всегда служит опорой. Я действительно так думаю; и считаю, что счастливый брак основывается именно на этом.
Супруга д-ра Г. дает хорошее описание реакции близкого члена семьи на такую неожиданную новость, как наличие злокачественной опухоли. За первой ее реакцией — шоковой — последовала короткая стадия отрицания: «Нет, этого не может быть». Затем она пытается найти какой-то смысл в этом смятении и находит утешение в Священном писании, которое всегда было источником вдохновения для всей семьи. Вопреки кажущемуся смирению, она питает надежду на то, что «исследования продолжаются», и молится о чуде. Эта перемена в семье углубила их религиозные надежды, но она же стала для г-жи Г. поводом осмыслить и укрепить свою самодостаточность и независимость.
Важнейшей особенностью этого двойного интервью являются, быть может, две различные версии рассказа о том, как была сообщена пациенту правда. Это очень типичное расхождение, и его нужно понимать, если мы не хотим ограничиваться поверхностным суждением.
Д-р Г. рассказывает, как возмужал его сын и как взял на себя ответственность, сообщив отцу дурную весть. Отец явно гордится сыном, видит в нем взрослого, зрелого мужчину, готового взять на себя ответственность, когда ему, отцу, приходится покидать зависимую, слабую супругу. Г-жа Г., со своей стороны, утверждает, что это она проявила мужество и силу, сообщив мужу о результатах операции и не доверив сыну этой тяжелой задачи. Позднее она несколько раз сама себе противоречит, так что ее версия не производит впечатления объективной. Тем не менее само ее желание сообщить мужу правду говорит нам кое-что и о ее потребности: она хочет быть сильной, встретить беду лицом к лицу, и хочет говорить об этом. Она хочет быть той, кто разделяет с мужем и счастье, и несчастье, кто ищет утешения и сил в Священном писании, чтобы принять все, что бы ни случилось. Такой семье лучше всего поможет спокойный, уверенный врач, который заверит их, что все возможное будет сделано, а также местный священник, который будет навещать больного и его семью как можно чаще и употреблять те же средства психологической защиты, которыми семья пользовалась и раньше.
ГЛАВА VIII.
НАДЕЖДА
В отчаянной надежде я мечусь по дому, заглядываю в каждый уголок — но нет ее нигде.
Мой домик мал, и если уж случается пропажа, то поиски всегда безрезультатны.
Но велика Твоя обитель, мой Господь, и в поисках любимой я приближаюсь к Твоим дверям.
Вот я стою под голубым шатром Твоих небес и обращаю к Тебе мой взор, мою мольбу.
Стою на грани вечности, где никогда ничто не пропадает; только и здесь не вижу ничего — ни счастья, ни надежды, ни милого лица за пеленою слез.
О, погрузи мою пустую жизнь в тот океан и утопи ее в пучине глубочайшей полноты; дай мне еще раз сладостно коснуться волшебной целости Твоей Вселенной.
Тагор, «Гитанджали», LXXXVII
До сих пор мы обсуждали различные этапы, которые проходит оказавшийся перед лицом трагической вести человек, — защитные механизмы, выражаясь психиатрическим языком, или механизмы поведения в экстремально трудных ситуациях. Эти механизмы действуют на протяжении различных периодов времени, сменяя друг друга, а иногда и сосуществуя. Единственный компонент, обычно присутствующий на всех этих этапах, — надежда. Годами не теряли надежды дети в бараках L318 и L417 концлагеря в Терезине, хотя из 15 000 ребятишек не старше пятнадцати лет живыми оттуда вышли только около сотни.
- Солнце окуталось золотою вуалью:
- Это так красиво, что даже больно.
- А сверху небо звенит синевой,
- Решив по ошибке, что я улыбаюсь.
- Весь мир в цвету и словно смеется.
- Я хочу улететь, но куда, в какую высь?
- Если всё цветет даже за колючей проволокой,
- То почему не могу я? Я не хочу умирать!
В разговорах с нашими смертельно больными пациентами мы всегда поражались тому, что даже самые реалистичные, самые смирившиеся среди них всегда допускают какую-то вероятность исцеления, открытия нового лекарства, «успех в последнюю минуту какого-то исследования», как выразился г-н Дж. (интервью с ним приводится дальше в этой главе). И этот слабый луч надежды поддерживает их на протяжении дней, недель и месяцев страданий. Их не покидает чувство, что все это имеет, должно иметь определенный смысл, что в конечном счете все образуется, нужно только немного продержаться. Неистребимая надежда подкрадывается и шепчет, что это ночной кошмар, это неправда, вот проснешься однажды утром, а тебе сообщают, что врачи уже готовы испытать новое лекарство, очень сильное, и выбрали для испытаний именно тебя, ты будешь особым, избранным пациентом, как был когда-то первый пациент для пересадки сердца… И у смертельно больного возникает чувство особой миссии в жизни, это укрепляет его дух, помогает ему выдерживать все более тяжелые испытания, все растущее напряжение; в определенном смысле для некоторых это даже становится оправданием их страданий; для других это остается формой временного, но необходимого им отрицания.
Не имеет значения, как мы назовем это состояние; важно, что все наши пациенты поддерживают его, а оно поддерживает их в самые трудные периоды. Наибольшее доверие они питают к тем врачам, которые позволяют им лелеять надежду — не важно, обоснованную или нет — и которые одобряют ее, когда она противопоставляется роковой вести. Это не означает, что врачи должны говорить больным неправду; это означает только, что мы разделяем надежду больных на то, что может произойти непредвиденное, может наступить ремиссия и они смогут жить дольше, чем предполагалось. Если пациент перестает выражать надежду, это обычно является знаком близкой смерти. В этот период он может сказать: «Доктор, кажется, это все», или: «Я думаю, что это конец», или, как выразился один наш пациент, который все время верил в чудо, а потом однажды утром встретил нас словами: «Я думаю, вот оно чудо: я готов и больше ничего не боюсь». Все такие пациенты умирали в течение двадцати четырех часов. Одобряя надежду больного, мы, тем не менее, переставали ее укреплять, когда видели, что сам он ее уже оставил и испытывает не отчаяние, а последнее смирение.
Мы наблюдали и конфликты, связанные с надеждой, — они возникают из двух основных источников. Первый и наиболее мучительный — передача чувства безнадежности больному от персонала или родственников в тот период, когда он еще нуждается в надежде. Второй источник страданий — неспособность родных принять терминальную (последнюю) стадию больного: они отчаянно цепляются за надежду, в то время когда сам обреченный уже готов к смерти и тяжело переживает из-за того, что родные не в состоянии смириться с этим фактом (мы показали выше такие примеры в случаях г-жи У. и г-на Г.).
Что происходит в том случае, когда «псевдотерминального» пациента оставляет его врач, но после этого, благодаря правильному лечению, наступает улучшение? Явно или неявно, этого пациента «вычеркнули». Ему могли сказать; «Мы больше ничем не можем вам помочь» или просто выписать домой с невысказанным диагнозом близкой смерти. Когда такого больного лечат всеми надлежащими средствами, то он склонен считать улучшение «чудом», «еще кусочком жизни в рассрочку» или «добавочным временем, о котором я не просил» — в зависимости от предшествовавшего обращения с ним и информированности. По этому поводу д-р Белл призывает дать каждому пациенту возможность наиболее эффективного из возможных лечений и не рассматривать каждого тяжело больного как терминального, тем самым фактически отказываясь от него. Я бы добавила к этому, что мы не должны отказываться ни от одного пациента, терминальный он или нет. Если мы теряем всякую надежду и бросаем пациента, то он и сам может капитулировать и последующая медицинская помощь окажется запоздалой, поскольку у него уже не будет ни готовности, ни силы духа, чтобы «попробовать еще раз». Значительно целесообразнее сказать: «Я сделал все, что умею и могу, чтобы помочь вам. Но я и дальше буду делать все, чтобы облегчить ваше состояние». Такому пациенту будет светить проблеск надежды, он и дальше будет смотреть на врача как на друга, который останется с ним до конца. Он не будет чувствовать себя брошенным и одиноким человеком, чье лечение врачи считают бесполезным.
У большинства наших пациентов наступало улучшение, в том или ином виде. Многие из них уже оставили надежду хотя бы с кем-нибудь поделиться своими переживаниями. Многие чувствовали себя изолированными и заброшенными, другие считали, что их лишили всякой возможности участвовать в принятии важных решений. Около половины наших пациентов были выписаны домой или в другие заведения, где им был обеспечен уход, с гарантией последующей повторной госпитализации. Все они выражали нам признательность за то, что мы разделяли с ними и их надежды, и тревоги по поводу серьезности заболевания. Они не считали, что беседы о смерти и подготовке к ней являются преждевременными или противопоказанными в связи с их «выздоровлением». Многие наши пациенты сообщали о большом облегчении и комфорте по возвращении домой, после того как они убедились, что их тревоги и чаяния для нас важнее, чем их выписка. Некоторые из них просили нас устроить совместную встречу с семьей перед выпиской, чтобы отбросить притворство и не отравлять лицемерием последние недели семейной жизни.
Было бы лучше, если бы больше людей могли разговаривать о смерти и умирании как о естественной стадии жизни — как не боятся упомянуть, что у кого-то ожидается прибавление в семье. Если бы это делалось чаще, то нам не приходилось бы спрашивать себя, следует ли нам обсудить эту тему с пациентом или нужно ждать последнего причастия. Мы не настолько непогрешимы, чтобы всегда безошибочно знать, какое причастие окажется последним, поэтому разумная практика позволила бы нам избегать этих проблем.
Было у нас несколько пациентов мрачных, неразговорчивых и сильно подавленных — пока мы не заговорили с ними о терминальной стадии их болезни. Они воспрянули духом, они снова начали принимать пищу, а некоторые даже были выписаны домой, к великому удивлению родных и медицинского персонала. Я убеждена, что, избегая этой темы, мы только усиливаем страдания больного, вместо того чтобы разделить их — а для этого достаточно время от времени посидеть рядом и послушать.
«Время от времени» не означает «случайно». Пациенты не отличаются от нормальных людей, в том смысле, что у каждого из нас бывают моменты, когда нужно поговорить о своих тяготах и несчастьях, а бывает и другое время, когда хочется думать о чем-то радостном, и не так уж важно, насколько это соответствует объективной реальности. Если пациенты знают, что мы готовы уделить им дополнительное время именно тогда, когда они испытывают потребность поговорить, знают, что мы видим и воспринимаем их нужды, — мы становимся свидетелями того, как большинство пациентов жаждут поделиться своими проблемами с другими человеческими существами и находят облегчение и новую надежду в таких разговорах.
Если эта книга послужит одной-единственной цели — обострить чуткость членов семьи к смертельно больному, а больничного персонала — к неявным, невысказанным желаниям умирающих, — то моя задача будет выполнена. Если мы, представители спасательских профессий, сумеем помочь пациенту и его семье «настроиться» на потребности друг друга и вместе прийти к приятию неминуемого, то тем самым избавим от ненужных тревог и страданий и умирающего, и — в еще большей мере — его осиротевшую семью.
Мы приводим ниже интервью с г-ном Дж. как пример стадии гнева, но также, временами в замаскированном виде, и неистребимой надежды.
Г-н Дж., пятидесятитрехлетний негр, был госпитализирован по поводу грибовидного микоза — злокачественного заболевания кожи, которое он детально описывает в дальнейшем разговоре. Болезнь вынудила его обратиться к органам страхования по нетрудоспособности; для течения этой болезни характерно чередование обострений и ремиссий.
Когда я пришла к нему за день до начала наших семинаров, он чувствовал одиночество и большое желание поговорить. Он очень быстро, ярко и драматично раскрыл мне многие аспекты этой неприятной болезни. Он никак не давал мне попрощаться и уйти, задерживая меня по всевозможным поводам. С этим незапланированным разговором сильно контрастировало его раздражение, иногда переходящее в ярость, во время следующего интервью за односторонним зеркалом. Если в первый раз он сам начал разговор о смерти и умирании, то теперь заявил другое: «Я не думаю о смерти, я думаю о жизни».
Я говорю об этом специально, потому что это важный момент в нашей работе с умирающими пациентами; у них бывают дни, часы или минуты, когда им хочется поговорить на эти темы. Они могут, подобно г-ну Дж. в первый день, охотно излагать свою философию жизни и смерти, а мы, в свою очередь, можем счесть их идеальными пациентами для наших учебных семинаров. Мы склонны забывать, что тот же самый пациент на следующий день может интересоваться только радостными сторонами жизни; и мы должны уважать его желания. Мы не следовали этому правилу в нашем интервью, мы пытались снова обсудить некоторые важные сведения, данные пациентом накануне.
Я должна сказать, что эта опасность возникает преимущественно тогда, когда интервью является частью учебной программы. Никогда не следует в подобных интервью форсировать вопросы и ответы в интересах обучения студентов. Личность всегда должна быть на первом месте, желания пациента всегда необходимо уважать, даже когда перед вами аудитория с пятью десятками студентов и пациент отсутствует.
ВРАЧ: Господин Дж„ скажите для начала, как давно вы в больнице?
ПАЦИЕНТ: В этот раз я здесь с 4 апреля текущего года.
ВРАЧ: Сколько вам лет?
ПАЦИЕНТ: Пятьдесят три.
ВРАЧ: Вам известно, как проходят наши семинары?
ПАЦИЕНТ: Да. Вы будете задавать мне вопросы, не так ли?
ВРАЧ: Да.
ПАЦИЕНТ: Хорошо, тогда начинайте, если вы готовы.
ВРАЧ: Мне хотелось бы составить себе более полное представление о вас, ведь я вас совсем мало знаю.
ПАЦИЕНТ: Я вижу.
ВРАЧ: Вы были здоровым мужчиной, работали, имели семью и…
ПАЦИЕНТ: Все правильно, и трое детей.
ВРАЧ: И трое детей. Когда вы заболели?
ПАЦИЕНТ: Нетрудоспособность у меня определена с 1963 года. А впервые с этой болезнью я встретился где-то году в 1948. Началось с мелких прыщей на левой стороне груди и под правой лопаткой. Сперва это ничем не отличалось от обычной сыпи, у каждого такая бывает. Я смазывал ее обычными мазями, лосьонами — всем, что в таких случаях предлагают в аптеке. Особого беспокойства эта сыпь мне не доставляла. Но постепенно, понемножку, кажется, это было уже в 1955 году, она перекочевала и на нижнюю часть тела. Появилась сухость, а потом чешуйчатость, и мне приходилось употреблять много жирных мазей и других препаратов, чтобы поддерживать необходимую влажность и комфорт. Я продолжал работать. Даже иногда на двух работах, потому что дочь поступала в колледж и я хотел быть уверенным, что она его сможет закончить. В 1957 году болезнь дошла до такой стадии, что мне пришлось знакомиться с врачами. Я ходил к доктору X. около трех месяцев, но он ничем не смог мне помочь. Сами по себе визиты стоили недорого, но рецепты обходились в 15—18 долларов еженедельно. Если вы содержите семью с тремя детьми на зарплату рабочего, то, даже работая на двух работах, долго в такой ситуации не продержитесь. Я пошел в клинику, и они кое-как обследовали меня, безрезультатно. Я даже не пошел туда второй раз. Я просто ничего не предпринимал, а между тем мне становилось все хуже и хуже, и в 1962 году д-р У. направил меня в больницу П., где я пробыл около пяти недель, тоже фактически безрезультатно. Я ушел оттуда и в конце концов снова вернулся в первую клинику. И вот в марте 1963 года они направили меня в эту больницу. Состояние мое стало уже настолько плохим, что я перешел на инвалидность.
ВРАЧ: Это произошло в 1963?
ПАЦИЕНТ: Да, в 1963.
ВРАЧ: Знали ли вы в то время, что у вас за болезнь?
ПАЦИЕНТ: Я знал, что это грибовидный микоз, да и все это знали.
ВРАЧ: И как давно вы знаете название вашей болезни?
ПАЦИЕНТ: Ну, какое-то время я подозревал, что это микоз, а потом это подтвердилось биопсией.
ВРАЧ: Как давно?
ПАЦИЕНТ: Да не очень давно, буквально за несколько месяцев до того, как был поставлен нынешний диагноз. Когда попадаешь в такое положение, то начинаешь читать все, что под руки попадается, слушаешь всех, узнаешь названия различных болезней. И из всего, что я читал, грибовидный микоз точно подходил, а потом и подтвердился. И этим я был просто убит. У меня начали распухать лодыжки, я постоянно потел, я был совершенно жалким человеком.
ВРАЧ: Вы именно это состояние называете «я был просто убит»? То, что вы почувствовали себя жалким человеком? Это вы имеете в виду?
ПАЦИЕНТ: Конечно. Я был именно жалким человеком — я все время чесался, я покрывался чешуей, беспрерывно потел, лодыжки болели… словом, совершенно, абсолютно жалкое человеческое существо. Конечно, в такое время становишься зол на всех. Ну почему это случилось со мной! А затем опомнишься и говоришь себе: «Ты ничем не лучше других, так почему с тобой этого не должно было случиться?» Это помогает немного утешиться; кого бы ни встретил, начинаешь рассматривать его кожу — нет ли на ней каких-либо пороков, признаков дерматита. Весь интерес в жизни как будто сводится к тому, есть ли у других подобные болячки, страдает ли еще кто-либо так, как ты. Да вы знаете все это. И я вижу, люди тоже смотрят на меня, потому что я сильно непохож на них…
ВРАЧ: Потому что это очевидная форма болезни.
ПАЦИЕНТ: Да, это очевидная форма болезни.
ВРАЧ: Что означает эта болезнь для вас? Что значит для вас грибовидный микоз?
ПАЦИЕНТ: Он значит для меня то, что по сегодняшний день от него еще никого не вылечили. Добиваются ремиссии на некоторые периоды времени. Добиваются ремиссии на неопределенное время. Это значит для меня, что где-то кто-то собирается провести исследования. Многие хорошие головы работают над этой проблемой. Они могут открыть средство лечения, даже работая над чем-то другим. И еще это значит для меня, что я стиснул зубы и коротаю день за днем в надежде, что однажды утром я буду сидеть на краю этой койки и придет доктор и скажет: «Попробуем с тобой вот этот укол». Это будет вакцина или что-то в этом роде. И через несколько дней вся моя кожа очистится.
ВРАЧ: То есть это будет действенное лекарство.
ПАЦИЕНТ: И я смогу вернуться на работу. Я люблю мою работу, я дослужился до контролера.
ВРАЧ: А какая у вас работа?
ПАЦИЕНТ: В последнее время я был старшим мастером в главном почтовом офисе, это здесь недалеко. Я уже стал начальником над мастерами. Семь или восемь мастеров каждый вечер отчитывались передо мной. И я уже не столько сам непосредственно работал, сколько контролировал их работу. У меня были хорошие перспективы на повышение, ведь работу я знал и любил, и я никогда не жалел времени, потраченного на работу. Я и жене всегда помогал, когда дети были маленькими. Мы надеялись, что они выйдут в люди и нам тоже достанется кое-что из того, о чем мы читали и слышали.
ВРАЧ: Например?
ПАЦИЕНТ: Например, путешествия. У нас никогда не было отпуска. Первый ребенок родился недоношенным и длительное время был на волосок от смерти. Домой его забрали, только когда ему был шестьдесят один день. У нас дома до сих пор хранится целая пачка рецептов из той больницы. Я платил тогда за нее по два доллара в неделю, а зарабатывал всего семнадцать. Каждый день я выскакивал из электрички, бежал в больницу с двумя бутылочками грудного молока моей жены, забирал пустые бутылочки, возвращался на станцию и ехал назад в город, на работу. Работал я целый день, а вечером приходил домой с теми пустыми бутылочками. А у нее молока было столько, что, думаю, хватило бы на всех недоношенных в той больнице. Мы очень хорошо их снабжали, а это значит, что мы сумели преодолеть все трудности. Вскоре я перешел на более высокую категорию оплаты труда, и нам уже не приходилось дрожать над каждым центом. Это значит, что мы стали теперь подумывать об отпуске. Конечно, мы не могли позволить себе любой маршрут, дитя должно иметь что положить на зуб. Вот что это значило для меня. Это значило несколько лет более-менее обеспеченной жизни.
ВРАЧ: После стольких лет труда и неприятностей.
ПАЦИЕНТ: Знаете, большинству людей приходится ишачить еще дольше и тяжелее. Я никогда не считал, что мне так уж тяжело. Вот я работал в той литейной, сдельная была работа. Я работал как дьявол. Мои приятели приходили ко мне домой и говорили моей жене, что я тяну слишком много. Ну, она сразу же набросилась на меня, и я объяснил ей, что тут все дело в ревности, когда работаешь с мускулистыми мужиками, то им не нравится, что у тебя крепче мускулы, чем у них, а у меня они таки крепче были, потому что когда я берусь за работу, то я работаю. И если где-то было возможно продвижение, то я делал его. Они даже вызывали меня в контору и сказали: когда нам понадобится чернокожий мастер, то это будешь ты. Я было обрадовался, но, когда вышел на улицу, подумал — они сказали когда, этого можно дожидаться до двухтысячного года. В общем, я поостыл немного, но продолжал работать на прежних условиях. И ничего трудного для меня в те времена не существовало. Я был молод, я был полон сил, я был совершенно уверен, что могу все.
ВРАЧ: Скажите мне, г-н Дж., теперь, когда вы уже не такой молодой и, вероятно, не в состоянии больше выполнять такую работу, как вы это воспринимаете? Представьте, что нет рядом врача со шприцом, нет медицинской помощи.
ПАЦИЕНТ: Да, вы правы. Этим вещам приходится учиться. Сначала приходит мысль, что, возможно, здоровье никогда больше не вернется.
ВРАЧ: И как это действует на вас?
ПАЦИЕНТ: Это сильная встряска, и вначале стараешься об этом не думать.
ВРАЧ: А вы об этом думали?
ПАЦИЕНТ: И не раз. Сколько уже было ночей, когда сон не идет, за такие ночи я передумал тысячи вещей. Но нельзя на этом заклиниваться. У меня было хорошее детство, моя мать еще жива. Она часто приходит сюда проведать меня. Я всегда могу порыться в памяти и вспомнить какой-нибудь случай. Мы любили сесть в старенький автомобиль и разъезжать на нем по окрестностям. Мы много ездили, хотя мощеных дорог тогда было мало, а все больше грунтовые. Заедешь в какую-нибудь дыру, попадешь на раскисшую дорогу и сядешь по самые оси, хочешь — тяни, хочешь — толкай. А в общем, детство бьмо очень хорошее, очень добрые родители. В доме никогда не было ни крика, ни плохого настроения. Наш дом был создан для счастливой жизни. Я счастливый человек; вообще, редкий человек приходит в этот мир только для страданий. Я смотрю вокруг и вижу, что и мне досталось несколько чудесных дней в жизни.
ВРАЧ: Вы говорите, что у вас была действительно полноценная жизнь. Но будет ли от этого легче умирать?
ПАЦИЕНТ: Я не думаю о смерти. Я думаю о жизни. Я вот, знаете, всегда говорил детям, когда они подрастали, и сейчас говорю: делайте все от вас зависящее в любых обстоятельствах, вы слишком много теряете. И еще я говорил им: помните, в этой жизни вы обязаны быть счастливыми.
Именно так я говорил, это мое любимое выражение. И себя я всегда считал счастливым. Я вспоминаю всех парней, с которыми меня судьба сводила и которые теперь кто в тюрьме, кто в розыске, кто под следствием. У меня были все шансы оказаться вместе с ними, но я не оказался. Каждый раз, когда я видел, что они затевают что-то дурное, я уходил от них. Из-за этого мне и драться не раз приходилось, они думали, что я трус. Но лучше от таких дел держаться подальше, лучше подраться за то, во что ты веришь, чем становиться соучастником. Потому что рано или поздно влезешь во что-то такое, что выбьет тебя из нормальной жизни, а назад ходу не будет. О, они тебе скажут, что можно вытащить себя, ухватившись за голенища сапог, но все равно ты попадаешь вроде как в черный список, и при первом же случае в твоем квартале — не важно, сколько тебе лет — тебя волокут в участок и начинают спрашивать, где ты был такой-то ночью. Мне очень повезло, я никогда не был замешан в подобных делах. И когда я оглядываюсь назад, я говорю, что я был счастливым человеком; и я собираюсь быть им и дальше. Немножко счастья у меня еще остается. Горькое счастье, скажете вы, но раньше или позже все наладится, я выйду отсюда, и вы меня не узнаете.
ВРАЧ: Это и удерживает вас от отчаяния?
ПАЦИЕНТ: Ничто не может удержать от отчаяния. Как себя ни настраивай, отчаяние приходит. Но я могу сказать, что это удерживает меня от надлома. Приходит отчаяние, и ты доходишь до такой точки, что уже не можешь спать. И тогда ты начинаешь с этим бороться. Чем яростнее борешься, тем крепче оно тебя сдавливает, это буквально как физическая схватка. Ты весь в поту, как от тяжелейшей работы, а ведь это все-таки чисто умственная борьба.
ВРАЧ: Как вы сражаетесь? Помогает ли вам религия? Помогают ли люди?
ПАЦИЕНТ: Я не считаю себя особенно религиозным.
ВРАЧ: Что же дает вам силу выдерживать это вот уже двадцать лет? Двадцать, не так ли?
ПАЦИЕНТ: Да, двадцать. Источников силы так много, и они такие разные, что это трудно описать. У моей матери вера глубокая и твердая. И когда я вкладываю в борьбу меньше сил, чем мог бы, я чувствую, что подвожу мать. Выходит, что мать мне помогает. Моя жена тоже глубоко и искренне верует, значит, и она мне помогает. И сестры. Мне кажется, женщины в семье всегда более религиозны; я думаю, что они наиболее искренни в молитве. На мой взгляд, обычный молящийся о чем-то просит. А я всегда был слишком горд, чтобы по-настоящему просить. Может быть, поэтому я не могу вложить все свои чувства в то, что говорю здесь. Не могу дать волю чувствам.
ВРАЧ: А к какой религии вы себя относите?
ПАЦИЕНТ: Теперь я католик, обращенный католик. Отец был баптистом, мать методистка. Они прекрасно ладили между собой.
ВРАЧ: Как вы стали католиком?
ПАЦИЕНТ: Мне кажется, это наилучшим образом соответствует моему представлению о том, какой должна быть религия.
ВРАЧ: Когда вы совершили эту перемену?
ПАЦИЕНТ: Когда дети еще были маленькие. Они как раз пошли в католическую школу… Кажется, это было в начале 50-х.
ВРАЧ: Это было как-то связано с вашей болезнью?
ПАЦИЕНТ: Нет, она меня еще не очень беспокоила, я считал, что вот, нужно как-то собраться и пойти к доктору и все будет в порядке, понимаете меня?
ВРАЧ: Понимаю…
ПАЦИЕНТ: Только не так все обернулось.
ВРАЧ: Ваша супруга тоже католичка?
ПАЦИЕНТ: Да, она обратилась вместе со мной.
ВРАЧ: Вчера вы сказали мне одну вещь — я не знаю, захотите ли вы к этому возвращаться. Я думаю, что это было бы полезно. Когда я спросила, как вы все это воспринимаете, вы нарисовали мне целую шкалу возможных состояний человека, вплоть до желания покончить со всем этим и убить себя, и тут же объяснили, почему это невозможно в вашем случае. Вы упомянули также о фаталистическом отношении. Можете повторить эти слова?
ПАЦИЕНТ: Да, я говорил, что один врач когда-то сказал мне: «Я не понимаю, как ты все это выдерживаешь, я бы убил себя».
ВРАЧ: Это был врач, это врач сказал?
ПАЦИЕНТ: Да. И я тогда сказал, что самоубийство исключено, я для этого слишком труслив. В общем, одна из возможностей уже исключается, о ней не стоит и размышлять. Я все время выбрасываю из головы всякий хлам, чтобы было как можно меньше материала для размышлений. Так я выбросил из головы и идею самоубийства ради устранения смерти. После этого я подумал: ну хорошо, что же теперь? Теперь ты можешь обернуться лицом к стене, и еще ты можешь плакать. Или ты можешь попробовать получить от жизни то удовольствие, ту маленькую радость, которые возможны в твоем состоянии. И вот что происходит. Ты смотришь хорошую телевизионную передачу или слушаешь интересный разговор, — и через несколько минут ты уже забыл про свой зуд и дискомфорт. Я называю такие эпизоды кусочками счастья, и мне кажется, что если бы в один прекрасный день этих кусочков набралось достаточное количество, то они слились бы в целое счастье, и счастье продолжалось бы дальше, до бесконечности, и каждый день стал бы прекрасным. Поэтому я не принимаю все так близко к сердцу. Когда у меня возникает моя беспросветная тоска, я просто развлекаю себя чем могу или стараюсь заснуть. В конце концов, сон — лучшее из всех существующих лекарств. А иногда я даже и не сплю, лежу себе тихонько. Учусь принимать эти вещи. А что делать? Можно прыгать, кричать, вопить, биться головой в стенку, но от этого только усиливается зуд и чувствуешь себя еще несчастнее.
ВРАЧ: У вас бывают боли?
ПАЦИЕНТ: До сих пор больше всего донимал меня зуд. А теперь еще подошвы ступней так болят, что даже прикоснуться к ним — пытка. Но раньше главной проблемой были зуд, сухость и чешуйки. С чешуйками у меня идет настоящая война. Очень забавно. Полная постель чешуек, ты берешь щетку, вот такую, как эта, и пытаешься все смести на пол. Чешуйки подпрыгивают на месте, цепляются за ткань, словно у них есть когти; приходится изрядно намучиться.
ВРАЧ: Чтобы избавиться от них?
ПАЦИЕНТ: Да, чтобы избавиться, иначе они загоняют тебя в угол. Сколько ни старайся, смотришь, их опять полно. Я даже подумывал о маленьком пылесосе, чтобы чистить себя. Чистота становится наваждением. Принимаешь ванну, после нее нужно намазывать себя всякой липкой дрянью, и чувствуешь себя таким грязным, словно тебе снова пора мыться. Так можно всю жизнь выходить из ванны и тут же снова влезать в нее.
ВРАЧ: Кто вам больше всех помогает с тех пор, как вы здесь?
ПАЦИЕНТ: Кто больше всех? Я не могу сказать, ведь каждый, кто видит мою беду, старается помочь. Они здорово помогают мне, иногда там, где я и не ожидал. Одна из девушек заметила, что мне трудно зажечь сигарету из-за боли в пальцах. Так я слышал, как она говорила другим сиделкам:
«Когда заходите сюда, спрашивайте его, не хочет ли он закурить». Что на это скажешь?
ВРАЧ: Это действительно хорошие сиделки.
ПАЦИЕНТ: Знаете, это удивительно, но где бы я ни бывал, и так всю мою жизнь, люди всегда хорошо относятся ко мне. И я им очень благодарен за это. Я смиренно благодарен. Я никогда не лезу со своей благодарностью и не люблю быть добрым дядей. Но я могу показать вам в этом городе сколько угодно людей, которым я тоже помог. Я даже не понимаю, как это происходит, это какое-то мое свойство, я облегчаю людям душу. Я с радостью стараюсь помочь человеку настроиться. И очень многие говорили своим знакомым, как здорово я им помог. И в то же время, все, кого я знал, помогали мне. Я не верю, что у меня во всем мире найдется хотя бы один враг. Я не верю, что хотя бы один человек в мире желает мне малейшего зла. Пару лет назад сюда приезжал мой приятель, с которым мы вместе учились, жили в одной комнате. Мы вспоминали школьные годы и наше общежитие. Там был такой обычай: в любую минуту кто-нибудь мог предложить собраться группой, ворваться в чью-то комнату, вышвырнуть оттуда ее хозяев и устроить там полный разгром. Грубое, скотское, но веселое развлечение. И он рассказывал своему сыну, как мы защищали от них нашу комнату, как мы складывали их штабелями в холле. Мы оба были крепкими ребятами, силы хватало. Мы действительно сложили их тогда, как поленья, в холле, им так и не удалось разгромить нашу комнату. У нас там был еще третий товарищ, член команды по легкой атлетике, он бегал на спринтерские дистанции; так он успел выскочить из комнаты перед их приходом и как припустил по коридору, а длина коридора около семидесяти метров, — если уж он стартовал, никто не мог догнать его. А когда позже он вернулся, всюду уже были чистота и порядок и мы спокойно легли спать.
ВРАЧ: Это один из тех кусочков счастья, о которых вы вспоминаете?
ПАЦИЕНТ: Я теперь вспоминаю об этом и думаю, какие же только глупости мы ни вытворяли! Однажды вечером к нам пришли знакомые парни, в комнате тогда было очень холодно. Зашла речь о том. кто из нас может выдержать самый большой холод. Разумеется, каждый считал, что он самый стойкий. Решили открыть окно. Отопление не работало, а на улице было семнадцать градусов мороза. Я помню, что натянул на голову какой-то шерстяной колпак, надел две пижамы, куртку, две пары носков. Да все мы там укутались, кто как мог. А когда утром проснулись, вся вода, все жидкости в комнате превратились в лед. К стенкам нельзя было притрагиваться — примерзали пальцы. Четыре дня прошло, прежде чем комната оттаяла и немного обогрелась. Вот такие идиотские штуки мы выкидывали. Иногда кто-нибудь смотрит на меня, видит дурацкую ухмылку на моем лице и думает: «Ну, готов парень, рехнулся». А я просто вспоминаю какой-то давний случай и получаю от этого огромное удовольствие. Вчера вы спросили меня, какую самую главную помощь могут оказать здесь пациенту доктора и персонал. Это очень сильно зависит от пациента. Все зависит от того, насколько он болен. Если вам действительно плохо, вы вообще не захотите, чтобы вас беспокоили. Вы просто будете лежать и мечтать, чтобы вас никто не тормошил, не измерял вам температуру или давление. И кажется, будто каждый раз, когда хочешь расслабиться, кому-то обязательно нужно тебя потревожить. Я думаю, что доктора и сиделки должны как можно меньше беспокоить больных. А когда вы почувствуете себя лучше, то поднимаете голову и начинаете интересоваться тем, что происходит вокруг. Это и есть самое время для них, пусть тогда приходят, утешают и ободряют.
ВРАЧ: Однако, г-н Дж., разве очень больному человеку не тоскливее и не страшнее, когда он остается в одиночестве?
ПАЦИЕНТ: Я так не думаю. Речь не о том, чтобы оставить человека в одиночестве, изолировать его или что-то в этом роде. Но вот вы лежите тихонько в своей палате, отдыхаете, и тут кто-то поправляет вам подушки, хотя вам это не нужно, вы лежите удобно. Но они хотят сделать вам лучше, и вы с этим как-то миритесь. Затем кто-то еще заходит и спрашивает: «Не хотите ли выпить стакан воды?» Если бы вы действительно хотели пить, то сами попросили бы об этом; но вам все равно наливают стакан воды. Они делают это от чистой доброты сердца, стараясь создать вам максимальный комфорт. Но бывает так, что вы бы чувствовали себя намного лучше, если бы вас на время оставили в покое.
ВРАЧ: Вы хотели бы, чтобы и вас сейчас оставили в покое?
ПАЦИЕНТ: Нет, не очень. Неделю назад я…
ВРАЧ: Я имею в виду сейчас, вот прямо сейчас. Чувствуете ли вы усталость?
ПАЦИЕНТ: Да, конечно, я устал. Я имею в виду, что мне хотелось бы пойти полежать немного. Но я знаю, что это мало что даст, через некоторое время все повторяется.
ВРАЧ: Вчера вы на эту тему говорили.
ПАЦИЕНТ: Да, я это говорю не просто так, потому что если бы вы увидели меня неделю назад, то даже не подумали бы брать у меня интервью. Я произносил по полфразы, я думал по полмысли, я не мог вспомнить своего имени. Но за эту неделю состояние изменилось.
СВЯЩЕННИК: Как же вы расцениваете то, что произошло за неделю? Это еще один кусочек вашего счастья?
ПАЦИЕНТ: Я вам скажу, что все это повторяется. Периодами, как будто какое-то большое колесо вращается. И я уже жду нового цикла. С каждым новым лекарством, которое они пробуют на мне, приходит и какая-то перемена, я уже предвижу ее. Я знаю, что мне станет лучше, а может быть, сначала станет хуже. Я терплю плохую фазу, а потом начинается хорошая, и я чувствую себя прекрасно, и так каждый раз. И так происходит, даже если я ничего не делаю и никакого лекарства не принимаю.
ВРАЧ: Итак, сейчас у вас началась хорошая фаза?
ПАЦИЕНТ: Я думаю, да.
ВРАЧ: Давайте мы теперь отведем вас в вашу палату, хорошо?
ПАЦИЕНТ: Спасибо.
ВРАЧ: Спасибо и вам, г-н Дж., за то, что пришли.
ПАЦИЕНТ: Всегда рад вас видеть.
Хотя за двадцать лет болезни и страданий г-н Дж. стал своеобразным философом, в его высказываниях мы видим много признаков скрытого гнева. Все его интервью сводится, по сути, к одной мысли: «Я же всегда был такой хороший, почему я?» Он рассказывает о том, каким он был здоровым и крепким в молодости, как выдерживал холод и всевозможные трудности, как заботился о детях и семье, как тяжело работал и не позволял плохим парням сбить себя с толку. После всей этой борьбы, когда его дети вырастут, он надеялся прожить несколько приятных лет — брать отпуск, путешествовать, наслаждаться плодами своего труда. В какой-то мере он понимает теперь, что эти надежды были напрасными. Все его силы уходят на борьбу с чесоткой, дискомфортом, болями, — он это достаточно ярко описал.
Он вспоминает свою борьбу и шаг за шагом исключает мысли, которые приходят ему в голову. Исключается самоубийство, но исключается также и радостная жизнь пенсионера. Его надежды и требования становятся все скромнее, а его возможности постепенно сужаются по мере развития болезни. Наконец он принимает тот факт, что жить ему остается лишь в ожидании следующей ремиссии. Когда становится совсем плохо, он предпочитает одиночество и пытается спать. Когда наступает улучшение, он дает понять, что готов к общению, он становится более разговорчивым. «Я счастливый человек» означает, что он надеется на еще одну ремиссию. Надеется он и на то, что изобретут новое средство, новое лекарство, которое избавит его от страданий.
С этой надеждой он не расставался до последнего дня.
ГЛАВА IX.
СЕМЬЯ ПАЦИЕНТА
Отец вернулся домой с похорон.
Семилетний сын стоял у окна, на шее его блестел золотой амулет, глаза были широко раскрыты и в них светилась мысль — непосильная для его возраста.
Отец взял сына на руки, и мальчик спросил:
— Где мама?
— На Небесах, — ответил отец, показав рукой на звезды.
Мальчик поднял глаза кверху и долго молча смотрел на небо. Его смущенный разум посылал в ночь один вопрос: «Где Небеса?»
Ответа не было; и звезды казались горючими слезами той невежественной темноты.
Тагор, «Беглец», часть II, XXI
Перемены в доме и их влияние на семью
Мы не сможем существенно помочь смертельно больному, если не подключим к нашей деятельности его семью. Семья играет значительную роль в течение всей болезни, и реакция ее членов существенно влияет на то, как пациент справляется со своей бедой. Например, серьезная болезнь и госпитализация главы семьи влечет за собой соответствующие изменения во всем семейном укладе, и жена должна к этому приспосабливаться. Она может растеряться, ощутив утрату надежности семейного быта и конец своей зависимости от мужа. Ей придется брать на себя те домашние обязанности, которые раньше выполнял он, и строить свой график дня сообразно новым требованиям, более высоким и непривычным. Возможно, ей нужно будет заняться бизнесом и финансовыми делами, которыми она никогда раньше не интересовалась. Когда потребуется навещать мужа в больнице, возникнут проблемы транспорта, а также ухода за детьми во время отсутствия матери. Перемены в быту и в самой домашней атмосфере могут быть драматическими или умеренными, но в любом случае дети реагируют на них, увеличивая и без того возросшую ответственность матери. Для нее может оказаться довольно неприятным тот факт, что теперь, по крайней мере временно, она является родителем-одиночкой.
Вместе с тревогой и заботами о муже, дополнительной работой и ответственностью приходит также чувство одиночества и — нередко — возмущения. Ожидаемая помощь от родственников и друзей может и не последовать или предлагаться в бестолковых и неприемлемых для жены формах. Советы соседей тоже могут не облегчать, а лишь усиливать бремя. С другой стороны, умные соседи придут не для того, чтобы узнать «что новенького», а чтобы помочь матери в работе, приготовить какую-то пищу, взять детей на прогулку — и это действительно ценная помощь. Подобный пример приводится в интервью с г-жой С.
Для мужа больной такая ситуация может оказаться еще тяжелее, поскольку обычно мужчина менее гибок и меньше осведомлен о положении дел у детей, о школьной и внешкольной их деятельности, о пище и одежде. Ощущение потери возникает по мере того, как жена слабеет или ее функции ограничиваются. Происходит некоторый обмен ролями, и мужчине он дается труднее, чем женщине. Он привык, что его обслуживают, теперь сам должен обслуживать жену. Вместо отдыха после долгого рабочего дня он видит свою жену, которая сидит в его кресле и смотрит телевизор. Сознательно или бессознательно, он протестует против этих перемен; не имеет значения, насколько глубоко понимает он необходимость происходящего. «Угораздило же ее свалиться на мою голову в такой момент, когда я только начинаю этот новый проект», — говорил один муж. Учитывая особенности нашего подсознания, его реакция типична и ее можно понять. Она похожа на реакцию ребенка на то, что его оставила мать. Мы плохо себе представляем, как много детского остается в каждом из нас. Такому мужу можно ощутимо помочь, если предоставить возможность дать волю своим чувствам, — например, найти ему подмену хотя бы на один вечер в неделю, чтобы он мог, скажем, пойти и всласть поиграть в кегли без угрызений совести; или каким-то другим способом «выпустить пар», чего он не может себе позволить дома при тяжело больном человеке.
Я считаю, что требовать от любого члена семьи постоянного присутствия — жестокость. Как неизбежно мы должны чередовать вдохи и выдохи, точно так же человеку необходимо периодически «перезаряжать батареи» за пределами комнаты больного, жить нормальной жизнью. Невозможно эффективно функционировать, если ни на секунду не забывать о болезни. Мне не раз приходилось слышать от родственников жалобы на отдельных членов семьи, которые позволяют себе развлекательные поездки в выходные дни или продолжают посещать театры и кино. Их обвиняют за то, что они наслаждаются жизнью, в то время как дома лежит смертельно больной. Я же считаю, что для пациента и его семьи важнее видеть, что болезнь не разрушила весь дом до основания, не лишила всех его обитателей какой бы то ни было радости; скорее, болезнь следует рассматривать как возможность постепенного приспособления и перемен в связи с новым семейным укладом, который неминуемо нужно будет создавать — уже без больного. Точно также, как безнадежно больной не может все время думать только о смерти, член семьи не может и не должен отказываться от всех других своих занятий ради того, чтобы неотрывно сидеть с обреченным. Ему тоже нужно время от времени отрицать печальную реальность или избегать ее, чтобы тем эффективнее с нею сразиться, когда его присутствие станет действительно необходимым.
Семейные проблемы все время меняются, приобретают все новые оттенки, начиная с момента установления болезни и потом еще длительное время после смерти больного. По этой причине все члены семьи должны экономно расходовать свою энергию и не истощать себя до такой степени, когда человек выходит из строя в самый ответственный период. Мудрый помощник тем и хорош, что помогает каждому члену семьи сохранить равновесие между обслуживанием больного и удовлетворением собственных нужд.
Проблемы общения
Часто о серьезности заболевания сообщают здоровому супругу. Ему же приходится решать, что из сказанного и когда передавать больному и остальным членам семьи, когда и как рассказать об этом детям. Последняя задача является, возможно, самой трудной, особенно если дети еще не взрослые.
В эти дни или недели тяжких испытаний многое зависит от структуры и прочности данной семьи, от ее способности к общению, от наличия надежных друзей. Не отягощенный эмоционально нейтральный человек со стороны может оказать неоценимую помощь, спокойно оценивая проблемы, пожелания и нужды семьи. Он может дать хорошие советы по юридическим вопросам, помочь в подготовке завещания, подумать об организации временного или постоянного ухода за детьми, остающимися без одного из родителей. Помимо такой практической работы, семья нередко нуждается в посреднике, как это видно из интервью с г-ном Г. (глава VI).
Проблемы умирающего заканчиваются с его смертью, но на этом не заканчиваются проблемы семьи. Многие из них можно обсудить еще до его смерти. К сожалению, бытует тенденция скрывать свои чувства от больного, изображать улыбки и бодрое настроение, которому, однако, рано или поздно приходит конец. В беседе с нами один умирающий сказал: «Я знаю, что мне недолго осталось жить, но только не говорите об этом жене, она не выдержит». После этой беседы мы случайно встретили его жену, она шла навестить его; и она почти слово в слово повторила ту же просьбу.
Она знала, и он знал, но ни одному из них не хватало мужества откровенно сказать правду другому, и это после тридцати лет совместной жизни! Им помог решиться на этот шаг молодой священник, которого больной попросил остаться в палате, когда пришла жена. Оба супруга почувствовали огромное облегчение, прекратив ненужное притворство, — теперь они могли обсудить стоявшие перед ними задачи, которые ни один из них не в состоянии был решить в одиночку. Через некоторое время они уже с улыбкой вспоминали эту, по их выражению, «детскую игру» и даже интересовались друг у друга, кто первый ее затеял и как долго она могла продолжаться без помощи со стороны.
Я считаю, что умирающий может значительно облегчить страдания родных, помочь им встретить его смерть. Для этого есть различные способы. Один из них — просто поделиться некоторыми своими мыслями и чувствами с другими членами семьи и тем самым поощрить их сделать то же самое. Если он способен преодолеть собственное страдание и показать семье пример самообладания перед лицом смерти, то родные будут помнить его мужество и сумеют нести собственное горе с большим достоинством.
Чувство вины, возможно, является самым неприятным компаньоном смерти. Когда устанавливается фатальный диагноз, члены семьи часто спрашивают себя, есть ли в этом и их вина. «Если бы я раньше заставила его пойти к врачу» или «Я же могла раньше заметить изменения и обратиться за помощью» — эти сентенции нередко можно услышать от жен смертельно больных пациентов. Очевидно, что друг семьи, семейный врач или священник могут оказать большую помощь такой женщине, избавить ее от необоснованного самобичевания, убедить ее, что она сделала практически все возможное, чтобы спасти мужа. Я не думаю, впрочем, что достаточно сказать ей: «Не упрекайте себя за свою вину, потому что вы не виноваты». Внимательно и терпеливо выслушивая таких жен, нам нередко удается выявить более реальную причину их вины. Чаще всего комплекс ложной вины у родственников возникает из-за вполне естественного гнева на умершего. Кому в минуту гнева не приходилось пожелать обидчику исчезнуть, умереть? Иногда это выражается даже словесно:
«Чтоб ты пропал!» Типичный пример тому являет мужчина из нашего интервью в главе XII. У него были достаточно веские причины для гнева на собственную жену: она оставила его и ушла к своему брату, которого он считал нацистом. Она бросила нашего пациента (еврея) и воспитала его единственного сына как христианина. Она умерла в его отсутствие — он винил ее также и в этом. К несчастью, у него не было даже возможности хотя бы рассказать кому-нибудь о своей глубокой обиде, и в конце концов его уныние и чувство вины перешли в настоящую тяжелую болезнь.
Значительная часть наблюдаемых в клиниках и частными врачами вдов и вдовцов страдают соматическими заболеваниями, которые развились на почве постоянного чувства вины и утраты. Если бы им была оказана помощь раньше, чем умер супруг (супруга), если бы тогда удалось перекинуть мост через разделявшую их пропасть, то половина бытвы была бы выиграна. Вполне понятно, что люди неохотно разговаривают о смерти и о подготовке к ней, особенно когда смерть внезапно становится личной проблемой, касается нас персонально, стоит у наших дверей. Немногие из тех, кто испытал кризис неотвратимой смерти, обнаружили, что общение представляет серьезные трудности только в первый раз, а затем, по мере опыта, становится легче. Вместо отчуждения и изоляции супруги открывают для себя возможности более глубокого и полного общения, они находят ту близость и взаимопонимание, которые может принести только страдание.
Еще один пример разобщенности между умирающей и ее семьей — история г-жи Ф.
Г-жа Ф., негритянка, больная в терминальной стадии, уже несколько недель находилась в очень тяжелом состоянии и лежала в постели без движения. Вид ее чернокожего тела среди белоснежных простыней по какой-то жуткой ассоциации напомнил мне корни дерева. Болезнь так обезобразила ее, что трудно было бы описать ее лицо или фигуру. Ее дочь, прожившая с ней всю жизнь, молча и так же недвижно сидела у изголовья. О помощи нас попросили медсестры, полагая, и не без основания, что помочь нужно не так больной, как ее дочери. Они заметили, как много часов дочь просиживает рядом с койкой; она даже оставила работу и практически все дни и ночи сидела возле умирающей матери, не говоря при этом ни слова.
Сестры не беспокоились бы так, если бы не странное противоречие между все более длительным дежурством дочери и полным отсутствием общения. У пациентки недавно был инсульт, она не могла ни разговаривать, ни шевельнугься; по-видимому, ее мозг тоже не работал больше. Дочь просто сидела молча, ни разу не сказав матери ни слова, не пытаясь речью или жестами проявить хотя бы малейшие знаки внимания. Только молчаливое присутствие.
Мы пришли в палату, чтобы пригласить дочь на небольшую беседу. Дочери было около сорока лет, она была одинока. Мы надеялись понять, чем объясняется ее почти беспрерывное дежурство возле матери, означающее в то же время постепенное отдаление от внешнего мира. Медсестры пытались предвидеть ее реакцию на близкую смерть матери, но она оказалась столь же неразговорчивой, как и мать, только по другим причинам.
Не знаю, что меня заставило, но я обернулась к больной, прежде чем выйти с дочерью из палаты. Быть может, это было чувство, что я отнимаю у нее сиделку, а возможно, сработала моя старая привычка информировать пациентов о том, что происходит. И я сказала ей, что мы уйдем с ее дочерью ненадолго, чтобы обсудить вопросы дежурства, когда дочь отсутствует. Мать смотрела на меня, и в эту минуту я поняла две вещи: во-первых, она полностью осознает все, что происходит вокруг нее, несмотря на ее кажущуюся неспособность к общению; во-вторых — и это стало для меня незабываемым уроком, — никогда никого нельзя относить к так называемой «растительной» категории, даже если кажется, что человек не реагирует на внешние стимулы.
Разговор с дочерью затянулся надолго. Она бросила работу, перестала встречаться со знакомыми и даже дома почти не появлялась — только ради того, чтобы проводить как можно больше времени возле умирающей матери. Она совершенно не задумывалась о том, что будет, когда мать умрет. Она считала своей обязанностью сидеть в палате день и ночь, и за последние две недели спала по три часа в сутки. Она настолько устала, что даже думать была не в состоянии. Она панически боялась выходить из палаты, опасаясь, что мать может умереть в это время. Она никогда не разговаривала с матерью на эти темы, хотя мать болеет давно, а способность говорить утратила лишь недавно. Под конец разговора дочь все-таки сказала несколько слов о своем чувстве вины, о раздвоенности чувств и о возмущении — и тем, что у нее такая одинокая жизнь, и, еще больше, что мать ее бросает. Мы посоветовали ей чаще выражать свои чувства, хотя бы изредка ходить на службу, чтобы поддерживать некоторые связи и занятия, и дали наши телефоны на тот случай, если у нее возникнет желание поговорить с кем-нибудь.
Возвратившись с нею в палату, я опять рассказала матери о нашем разговоре. Я просила ее одобрения на то, чтобы дочь приходила к ней только на часть дня. Мать напряженно слушала, не спуская с меня взгляда, а затем, вздохнув с облегчением, снова закрыла глаза. Сестра, присутствовавшая при этой сцене, была очень удивлена такой сильной реакцией. Она выразила нам живейшую благодарность, потому что весь младший персонал переживал за больную и чувствовал определенную тревогу из-за тихой беспомощности дочери и ее неумения выразить свои мысли или чувства.
Дочь вскоре нашла работу с неполным рабочим временем и — к радости персонала — сообщила эту новость матери. В ее визитах теперь стало больше уверенности, меньше долга и недовольства, а следовательно, и больше смысла. Кроме того, дочь начала общаться с некоторыми людьми в больнице и за ее стенами, у нее даже появились новые знакомые еще до смерти матери; тихая, незаметная кончина наступила несколькими днями позже.
Г-н И. — еще один человек, которого мы никогда не забудем: мы увидели муку, отчаяние и одиночество старика, теряющего свою жену после многих десятилетий счастливого брака.
Г-н И. был старый, жилистый, «непромокаемый» фермер, нога которого никогда не ступала на асфальт большого города. Он пахал свою землю, вырастил на ней несметное количество телят и поднял детей, которые теперь жили в разных концах страны. Уже много лет они с женой жили сами и, как он выразился, «срослись друг с другом». Ни один из супругов не мог вообразить своей жизни без другого.
Осенью 1967 года его жена серьезно заболела, и врач посоветовал старику обратиться за медицинской помощью в большой город. Некоторое время г-н И. отказывался категорически, но, видя, что жена слабеет и теряет вес, он отвез ее в «большую больницу», где она была помещена в блок интенсивной терапии. Тот, кто хоть раз побывал в таком блоке, может представить себе разницу между жизнью его обитателей и атмосферой импровизированной палаты в фермерском доме. На койках лежат пациенты в критическом состоянии, любых возрастов, от новорожденного до умирающего старика. Каждая койка обставлена со всех сторон самым современным оборудованием, какого наш фермер в жизни не видел. Со стоек по бокам свисают бутылочки, гудят отсасывающие машины, тикают таймеры, персонал беспрерывно занят приборами и наблюдением за важнейшими показателями. Много шумной суеты, ежеминутно принимаются безотлагательные и критические решения, люди входят и выходят… И нет даже места для старого фермера, который никогда не бывал в большом городе.
Старик настаивал, чтобы ему разрешили быть рядом с женой, но получил жесткий график: только пять минут через каждый час. Он стоял эти пять минут каждый час, просто глядя на ее побледневшее лицо, иногда брал ее за руку и бормотал несколько беспомощных слов, пока не раздавался неумолимый голос: «Пожалуйста, выйдите, ваше время истекло».
Его увидел один из наших студентов, увидел безмерное отчаяние его одинокой души, затерянной в джунглях большой больницы. Студент привел старика на наш семинар, и тот рассказал о своих мучениях; ему стало немного легче просто от возможности высказаться. Он снял на несколько дней комнату в интернациональном общежитии, заселенном преимущественно студентами; многие из них как раз возвращались, начинался новый семестр. Ему сказали, что комнату скоро придется освободить для студентов. Общежитие находилось не очень далеко от больницы, старик проходил это расстояние раз десять ежедневно. Ему нигде не было места, не было ни одного человека, с которым он мог бы поговорить, не было даже уверенности, что он найдет себе комнату, если его жена проживет дольше этих нескольких дней. И была неотступная мысль, что он действительно может потерять ее и что, возможно, придется возвращаться домой одному.
Чем дольше мы слушали его, тем сильнее становился его гнев. Он сердился на жестоких медсестер, которые не позволяли ему быть с женой больше пяти минут в час. Он чувствовал, что и в эти короткие минуты он им мешает. Ну разве можно так прощаться с женой, с которой он прожил почти пятьдесят лет? Как объяснить старому человеку, что блок интенсивной терапии только так и работает, что существуют законы и административные правила относительно посещений и что слишком много посетителей в таком блоке недопустимо — и для пациентов, и для чувствительных приборов? Немыслимо было сказать и что-то вроде: «Послушайте, вы любили вашу жену и вместе жили на ферме столько лет, дайте уже ей умереть». Он, вероятно, ответил бы, что они с женой — единое целое, как дерево и его корни, одно не может жить без другого. Большая больница обещает продлить ее жизнь, и он, старый фермер, решился привезти ее в это место ради крохотного проблеска надежды.
Мы мало чем могли помочь ему, разве что нашли жилище в пределах его финансовых возможностей да известили его сыновей о том, что он очень одинок и нуждается в их присутствии. Мы поговорили также с персоналом. Нам не удалось продлить интервалы свиданий, но мы убедили медсестер быть милосерднее к нему хотя бы в эти короткие минуты.
Незачем говорить, что подобное происходит ежедневно в каждой большой больнице. Следует постепенно улучшать организацию работы таких лечебных блоков, с тем чтобы облегчить участь членов семьи пациента. Рядом с блоком необходимо отводить отдельную комнату, где родственники могли бы сидеть, отдыхать, принимать пищу, где они делили бы свое одиночество и утешали друг друга в нескончаемые часы ожидания. С родственниками должны встречаться социальные работники и священники и уделять каждому из них достаточное время. Врачи и медсестры должны быть частыми гостями в такой комнате, чтобы давать консультации и отвечать на вопросы. Но на сегодняшний день родственники почти всюду предоставлены самим себе. Они часами томятся в холлах, кафетериях или бродят бесцельно вокруг больницы. Они предпринимают робкие попытки встретиться с врачом или расспросить медсестру, но чаще всего слышат, что врач занят, что он на операции или еще где-нибудь. Поскольку количество персонала, отвечающего за здоровье каждого пациента, неуклонно возрастает, то никто не знает пациента достаточно хорошо, как и пациент не знает имени своего врача. Часто случается так, что родственников посылают от одного врача к другому, пока их маршрут не заканчивается у священника, где они уже и не рассчитывают получить ответы на вопросы о пациенте, а лишь надеются найти хоть какое-то утешение и понимание их страданий.
Некоторые родственники могли бы оказать большую услугу и пациенту, и персоналу, если бы приходили реже и ненадолго. Я вспоминаю одну маму, которая никого не подпускала к своему двадцатидвухлетнему сыну и сама ухаживала за ним, как за младенцем. Молодой человек был вполне способен обойтись без ее помощи, но она мыла его в ванной, чистила ему зубы и даже подмывала после дефекации. В ее присутствии он постоянно проявлял недовольство и раздражение. Медсестры были от нее в ужасе и терпеть не могли. С ней пытался побеседовать социальный работник, но она выставила его, наговорив колкостей.
Что может заставить мать приносить столько вреда своей непомерной заботливостью? Мы пытались понять ее; мы искали способы и средства, чтобы ограничить ее присутствие, которое раздражало и вместе с тем унижало не только пациента, но и персонал. После разговора с персоналом мы, однако, заподозрили, что проецируем свои желания на пациента; а еще мы поняли, что он если и не провоцировал поведение матери, то способствовал ему. Предполагалось, что он пробудет в больнице несколько недель по поводу лечебного облучения, затем будет выписан домой и, вероятно, еще через несколько недель госпитализирован снова. Будет ли ему прок, если мы вмешаемся в его отношения с матерью, какими бы нездоровыми эти отношения нам ни казались? Не вызвано ли наше намерение нашей собственной злостью на сверхзаботливую мамашу, которая заставляла наших медсестер чувствовать себя «никудышными матерями» и тем самым побуждала всех к самозащите? После того как мы сумели все это осознать, наше возмущение немного улеглось; мы стали обращаться с молодым человеком как со взрослым, давая понять, что ему вполне по силам ставить ограничения, когда поведение матери становится слишком унизительным для него.
Я не знаю, произвело ли все это какой-либо эффект, так как он вскоре был выписан. Но я считаю, что случай этот достоин упоминания, поскольку он отчетливо показывает опасность ошибки, когда руководствуешься чувствами относительно того, что хорошо и что плохо для того или иного человека. Ведь может оказаться, что этот человек может вынести свою болезнь только при условии, что позволит себе регрессировать до уровня маленького ребенка, а мать получает некоторое утешение в том, что потакает этому его желанию. Я не думаю, что именно так было в этом случае, ведь пациент явно злился и возмущался, когда появлялась мать; но, с другой стороны, он крайне редко делал попытки остановить ее, хотя вполне способен был настоять на своем с другими членами семьи и с персоналом больницы.
Как справляется семья с реальностью смертельной болезни
Члены семьи проходят через различные стадии адаптации, подобные описанным ранее у пациентов. Сначала многие из них не верят. Они отрицают сам факт, что в их семье возможна такая болезнь, или носятся от врача к врачу в тщетной надежде, что диагноз окажется ошибочным. Они могут искать помощи и поддержки (в том, что все это неправда) у гадалок и «целителей верой». Они могут затевать дорогостоящие поездки в знаменитые клиники или к знаменитым врачам. И лишь постепенно приходит к ним прямое восприятие действительности, которая несет резкую перемену в их жизни. В зависимости от того, как относится к болезни сам пациент, в какой мере он осознает ситуацию и насколько способен к общению, вся семья, быстрее или медленнее, тоже проходит через несколько этапов. Если они способны обсуждать и принимать решения совместно, то самые важные проблемы будут взяты под контроль сразу, без потерь времени и без изнурительных эмоций. Если же все пытаются что-то скрыть друг от друга, то между родными людьми выстраиваются искусственные барьеры, сильно затрудняющие постепенную подготовку семьи и пациента к печальному событию. Конечный результат получается значительно более тяжким, чем в той семье, где умеют вместе поговорить и поплакать.
Как сам пациент переживает стадию гнева, точно так же и вся семья проходит через этот эмоциональный этап. Их гнев попеременно направляется то на врача, который раньше обследовал пациента и не заметил болезни, то на врача, который поставил их перед жестоким фактом. Они могут направить свой гнев на больничный персонал, который никогда не обеспечивает надлежащего ухода, — независимо от того, насколько это соответствует действительности. В такой реакции есть значительная доля ревности, поскольку члены семьи обычно чувствуют себя обманутыми и отстраненными от пациента, который нуждается в их помощи. Большую роль играет и чувство вины, желание исправить или искупить упущенные ранее возможности спасения. Чем эффективнее сумеем мы помочь родственникам выразить эти эмоции до кончины любимого человека, тем легче им будет впоследствии.
Когда гнев, возмущение и чувство вины преодолены, наступает стадия подготовительной скорби, так же как и у самого умирающего. Чем лучше удается выразить эту скорбь до смерти, тем легче будет вынести ее впоследствии. Нам часто приходится слышать от родных пациента гордые заявления о том, как они не расстаются с улыбкой в присутствии умирающего; но приходит день, когда они больше просто не в состоянии удерживать этот камуфляж. Им очень трудно понять, что искренние эмоции члена семьи больной воспринимает гораздо легче, чем лицемерную маску, которая его все равно не обманывает, а лишь демонстрирует желание утаить, а не разделить печальную реальность.
Если члены семьи способны переживать эти страдания совместно, то они постепенно осознают приближение неотвратимой разлуки и вместе принимают ее. Самым трудным для семьи является, пожалуй, терминальный этап, когда больной медленно отдаляется от всего мира, включая и родных: они не понимают, почему умирающий, обретя мир и принимая свою смерть, шаг за шагом отделяет себя от окружающих и даже от самых любимых. Каким образом сумеет он подготовиться к смерти, если будет продолжать поддерживать многочисленные и такие важные отношения? Когда пациент просит, чтобы к нему приходили лишь немногие друзья, а затем родные дети и, наконец, только жена, то следует понимать, что таким способом он постепенно отрешается от жизни.
Часто этот процесс неверно истолковывается как отвращение, и нам не раз доводилось наблюдать бурную реакцию мужа или жены на это нормальное, здоровое отделение. Я думаю, мы сослужим хорошую службу таким родственникам, если поможем им понять, что только тот пациент, который пережил и принял свое умирание, способен так отделиться от мира — постепенно и спокойно. Это должно быть для них источником утешения и комфорта, а не скорби и возмущения. Именно в этот период семья больше всего нуждается в поддержке, а пациент, возможно, меньше всего. Я не хочу сказать, что пациента следует оставить в полном одиночестве. Постоянный контакт с ним должен быть обеспечен, но когда он достигает этой стадии смирения и декатексиса, то обычно в личностном общении почти не нуждается. Если не объяснить семье смысл такого отдаления, то возникают затруднения, подобные описанным в истории г-жи У. (глава VII).
Возможно, самой трагической (кроме гибели совсем молодых людей) является смерть престарелых — если смотреть на это с точки зрения семьи. Независимо от того, живут ли разные поколения вместе или отдельно, каждое из них имеет свои потребности и право на их удовлетворение, право на собственную жизнь. Старики пережили, говоря современным экономическим языком, век своей рентабельности, но, с другой стороны, они заработали право доживать свои дни в покое и с достоинством. Пока они здоровы телом и душой, все это выглядит вполне нормально. Мы видим, однако, множество стариков и старух, превратившихся в физических или эмоциональных инвалидов, на достойное содержание которых требуются огромные суммы денег. Семья оказывается перед тяжелой задачей: необходимо мобилизовать все денежные запасы, включая займы и пенсионные сбережения других членов семьи, ради того, чтобы обеспечить надлежащее лечение и уход. Трагедия в том, что никакие финансовые жертвы не могут улучшить состояние больного и в лучшем случае позволяют поддерживать лишь некий минимальный уровень существования. В случае же осложнений расходы становятся непомерными, и семья нередко желает больному скорейшей и безболезненной смерти, но редко выражает это желание вслух. Нечего и говорить, что такие пожелания становятся впоследствии источником чувства вины.
Я вспоминаю одну престарелую женщину, которую положили в частную больницу на несколько недель; ей требовался интенсивный и очень дорогой уход квалифицированного персонала. Все ожидали, что она вот-вот умрет, но день шел за днем, а ее состояние не менялось. Ее дочь разрывалась между желанием отправить ее в дом престарелых и просьбами больной не выписывать ее из больницы. Зять злился из-за того, что все их сбережения ушли на лечение старухи, у него были бесконечные ссоры с женой, а та не могла забрать мать из больницы, мучаясь чувством вины. Когда я пришла к больной, она выглядела измученной и испуганной. Я просто спросила ее, чего она так боится. Она взглянула на меня и вдруг сказала то, чего не решалась произнести раньше, понимая бессмысленность своих страхов; «Я боюсь быть заживо съеденной червями». Пока я растерянно соображала, что могут означать эти слова, дочь выпалила: «Если это не дает тебе умереть, то мы сожжем тебя». Естественно, она имела в виду кремацию, которая исключила бы всякую возможность контакта с земляными червями. Весь ее подавленный гнев вылился в этой фразе.
Я посидела со старухой еще некоторое время. Мы спокойно поговорили о различных фобиях, которые переследовали ее в жизни, и о ее страхе смерти, выразившемся в этом ужасе перед червями, как будто после смерти это могло иметь для нее какое-то значение. Она почувствовала большое облегчение, когда рассказала об этом; она прекрасно понимала гнев дочери. Я посоветовала ей поделиться с дочерью этими чувствами, чтобы дочь не так переживала за свою вспышку.
Когда я увидела дочь в коридоре, я сказала ей, что мать все понимает; в итоге они поговорили обо всем, что их волновало, и решили вопрос с похоронами: будет кремация. Вместо сердитого молчания между ними установились спокойные отношения, они разговаривали и утешали друг друга. Мать умерла на следующий день. Если бы я не видела ее умиротворенного лица в последний день перед смертью, я думала бы, что ее убила вспышка гнева у дочери.
Часто во внимание не принимается еще один аспект: смертельные болезни бывают разного характера. Рак имеет свои особенности и формы протекания, совсем иные картины наблюдаются при сердечных заболеваниях. Если рак обычно тянется какое-то время и сопровождается болями, то сердце отказывает сразу, безболезненно и окончательно.
Я вижу большую разницу между тем, когда любимый человек умирает медленно и времени для подготовительной скорби достаточно для обеих сторон и коротким и страшным сообщением по телефону: «Все кончено, он умер».
О смерти и подготовке к ней с раковым больным говорить легче, чем с сердечником, которого недолго и испугать, спровоцировав тем самым коронарную недостаточность, а в результате — смерть. Поэтому и родственников ракового больного легче склонить к обсуждению проблем близкого конца, чем родственников сердечника, чья смерть может наступить в любую минуту, причем ее может спровоцировать и разговор — по крайней мере, так считали многие семьи, с которыми мы общались.
Я помню одну мать из Колорадо, которая не позволяла своему сыну, юноше, делать какие бы то ни было усилия, несмотря на советы и уговоры врачей. Чаще всего в разговоре от нее можно было услышать: «Если он перестарается, его смерть ляжет на мою совесть»; она как будто ожидала от сына враждебных действий против себя. Она совершенно не осознавала собственной враждебности, даже когда делилась с нами недовольством своим «таким слабеньким сыном», который, по ее мнению, пошел в отца — бездарность и неудачника. Понадобилось несколько месяцев терпеливого, внимательного выслушивания рассказов этой матери, прежде чем она смогла выразить некоторые деструктивные желания в отношении собственного сына. Она оправдывала их тем, что он ограничил ее профессиональную и общественную жизнь, отчего она оказалась такой же никчемой, как и ее муж.
Это была одна из тех запутанных семейных ситуаций, в которых один из членов семьи становится инвалидом из-за конфликтов родных ему людей. Если мы научимся относиться к такому члену семьи с сочувствием и пониманием, если не будем донимать его своими оценками и критикой, то поможем больному нести его увечье с меньшим трудом и большим достоинством.
Следующий пример показывает трудности, которые испытывает пациент, когда он уже готов отрешиться от мира, но семья не в состоянии принять реальность и только усиливает страдания больного. Мы всегда должны стремиться помочь пациенту и его семье взглянуть на кризисную ситуацию совместно и открыто, чтобы одновременно достичь смирения перед неотвратимой реальностью.
Г-ну П. было пятьдесят пять лет, но выглядел он лет на пятнадцать старше. Врачи предвидели, что он будет слабо поддаваться лечению из-за далеко зашедшего рака, а главное — из-за отсутствия «воли к сопротивлению». У него был удален пораженный раком желудок еще за пять лет до этой госпитализации. Вначале он воспринял свою болезнь вполне стойко и был полон надежды. По мере того как он худел и слабел, у него нарастала депрессия; наконец его снова госпитализировали, и рентгеновский снимок грудной клетки показал наличие метастатических опухолей в легких. Когда я впервые встретилась с ним, он еще не знал результатов биопсии. Дискутировался вопрос о возможности применять облучение или хирургическое вмешательство к столь ослабленному пациенту. Наша беседа растянулась на две встречи. В первый свой приходя представилась ему и объяснила, что он может рассчитывать на меня, если захочет поговорить о серьезности своей болезни и о проблемах, которые она может создать. Нас прервал телефонный звонок, и я ушла, попросив его подумать над этим. Я также сообщила ему, когда приду в следующий раз.
Когда я увидела его на следующий день, он показал рукой на кресло и приветливым жестом попросил меня сесть. Несмотря на постоянные помехи — замену бутылочек на капельницах, раздачу лекарств, измерения пульса и кровяного давления, — мы просидели больше часа. Г-н П. понимал, что ему предлагают, как он сказал, «раскрыть свои теневые стороны». Он не защищался и не уклонялся от трудных тем. Это был человек, чьи дни сочтены и кому жаль терять драгоценное время; ему явно хотелось поделиться своими мыслями и переживаниями с кем-нибудь, кто стал бы его слушать.
Накануне он сказал: «Я хочу спать, спать, спать и не просыпаться». В этот раз он повторил свое заявление, но добавил слово «но». Я взглянула на него вопросительно, и тогда он сказал мне усталым голосом, что к нему приходила его жена. Она уверяла, что он справится со всем этим, и ждала его домой, где он будет ухаживать за садом и цветами. Она напомнила ему также его обещание скоро выйти на пенсию, съездить, возможно, в Аризону, прожить еще несколько приятных лет…
С большой теплотой и любовью он рассказывал о дочери. Ей двадцать один год, на студенческие каникулы она приезжала навестить его и была шокирована, увидев, в каком он состоянии. Он рассказывал об этих вещах стаким видом, словно был виноват в том, что разочаровал свою семью, не оправдал ее надежд.
Я сказала ему об этом, и он кивнул головой в знак согласия. Первые годы брака у него пошли на накопление материального достатка, он старался «создать для них хороший дом», поэтому почти все время работал вне дома и семьи. Когда обнаружился рак, он стремился проводить с родными каждую свободную минуту, но было уже слишком поздно. Дочь уезжала на учебу, и у нее было много своих друзей. А когда она была маленькой и просила его быть с ней и действительно нуждалась в нем, он был слишком занят добыванием денег.
Когда зашла речь о его нынешнем состоянии, он сказал:
«Единственное облегчение — сон. Как только просыпаешься, начинается мучение, чистое мучение. Беспросветное. Я с завистью вспоминаю двух мужчин, чью казнь я наблюдал. Я сидел прямо напротив первого во время исполнения приговора. Я ничего не почувствовал. Сейчас я думаю, что ему повезло. Он заслуживал смерти. Он совершенно не страдал, все произошло быстро и безболезненно. А я здесь лежу в постели, и каждый день, каждый час — мучение».
Г-н П. не столько страдал от боли и физического дискомфорта, сколько от угрызений совести из-за несбывшихся надежд семьи; он считал себя неудачником. Больше всего терзало его противоречие между желанием «лечь в постель и спать, спать, спать», с одной стороны, и непрерывным потоком надежд и требований извне — с другой: «Медсестры приходят ко мне и требуют, чтобы я больше ел, иначе ослабею, врачи приходят и объявляют о новом методе лечения, который они будут пробовать на мне, и рассчитывают, что меня это обрадует, потом приходит жена и рассказывает о работе, которую я буду делать, когда выберусь отсюда, потом приходит дочь и говорит мне, что я обязательно должен поправиться, — ну разве под этим обстрелом можно спокойно умереть?»
Он остановился на минуту, даже улыбнулся, затем снова продолжил: «Хорошо, я приму новое лечение и еще раз выпишусь домой. На следующий день я снова пойду на службу и заработаю еще немного денег. Страховая компания оплатит учебу моей дочери в любом случае, но дочери еще немножко нужен и сам отец. Но вы знаете, и я знаю, что я просто не в состоянии все это выдержать. Быть может, им следует научиться воспринимать действительность? Тогда умирать стало бы намного легче!»
Пример г-на П., как и г-жи У. (глава VII), показывает, как трудно бывает пациентам встречать близкую и неотвратимую смерть, когда родные не готовы «отпустить» их и явно и неявно препятствуют, не дают им отрешиться от земных интересов. Муж г-жи У. просто стоял у ее изголовья и напоминал ей о счастливых временах их брака, которые не должны закончиться, и старался вместе с врачами сделать все, что в человеческих силах, чтобы не дать ей умереть. Жена г-на П. напоминала ему о невыполненных обещаниях и незаконченных работах, требуя все того же: чтобы он еще много лет был в ее распоряжении. Я не могу сказать, что каждый из этих супругов (здоровых) впадал в отрицание. Оба они хорошо понимали реальность состояния умирающих. И все же оба, исходя из собственных потребностей, отворачивались от этой реальности. Они признавали ее в разговорах с третьими людьми, но отрицали перед самими пациентами. Но именно пациентам необходимо было услышать, что родные осознают серьезность их, пациентов, состояния и готовы смириться, принять реальность. Без этого, как выразился г-н П., «каждый раз, как только просыпаешься, начинается мучение». Наша беседа закончилась словами надежды, что родным и окружающим лучше бы понять реальность его умирания, чем выражать надежды на продолжение его жизни.
Этот человек был готов отделиться от мира. Он дошел до заключительной стадии, когда нет сил поддерживать жизнь и смерть кажется более привлекательной. Возникает спорный вопрос: уместно ли в подобных обстоятельствах пускать в ход все медицинские средства и силы? Применяя достаточное количество инфузий и трансфузий, витаминов, стимуляторов, химических антидепрессантов, а также психотерапию и симптоматическое лечение, можно многим пациентам дать некоторую «отсрочку». По поводу такого «дополнительного времени» мне довелось услышать больше проклятий, чем благодарностей, и я повторяю: я глубоко убеждена, что пациент имеет право умереть спокойно и с достоинством. Недопустимо использовать его для удовлетворения наших желаний в ущерб его собственным. Я говорю о пациентах, находящихся в тяжелом физическом состоянии, но достаточно здоровых умственно и способных принимать решения в отношении себя самих. Их желания и мнения необходимо уважать, их нужно выслушивать, с ними нужно советоваться. Если желания пациента противоречат нашим интересам или убеждениям, то мы должны выражать это противоречие открыто и оставлять пациенту право принимать окончательное решение относительно дальнейшего лечения или хирургического вмешательства. У большинства больных терминальной стадии, с которыми мне до сих пор приходилось беседовать, я не наблюдала никакой иррациональности в поведении или непомерных требований; среди этих больных — и две описанные ранее женщины с психозами. Обе они проходили лечение, причем одна — несмотря на почти полное отрицание свой болезни раньше.
Семья после смерти родного человека
Когда больной умирает, я считаю жестоким и неуместным говорить о любви к Богу. Теряя родного или очень близкого человека, особенно когда не было или было очень мало времени приготовиться к этой потере, люди часто впадают в гнев, ярость, отчаяние; им следует дать возможность выразить эти чувства. Нередко ближайшие родственники, оставленные в одиночестве после того, как они дали согласие на вскрытие трупа, ходят по коридорам больницы, убитые горем, ошеломленные, не в состоянии осознать и обдумать произошедшее. Первые несколько дней их могут отвлекать похоронные заботы, формальности и приехавшие родственники и близкие. Пустота и одиночество наваливаются после похорон и отъезда родственников. Обычно именно в этот период члены семьи нуждаются в ком-то, с кем можно поговорить, особенно если этот человек был знаком и общался в последнее время с умершим и может поделиться воспоминаниями о недавних их встречах. Это помогает семье пережить потрясение и постепенно привыкнуть к утрате.
Многие родственники настолько увлекаются воспоминаниями, что это переходит в форму фантазий, даже разговоров с усопшим, как если бы он был еще жив. Они не только изолируют себя от живых, но и сами себе затрудняют осознание грубой реальности. Для некоторых, впрочем, это единственный способ пережить потерю, и было бы жестокостью высмеивать и разубеждать их или ежедневно сталкивать с неприемлемой действительностью. Более гуманно будет понять их состояние и помочь постепенно выйти из этой изоляции. Я наблюдала такое поведение чаще всего у молодых вдов, потерявших мужа рано и не будучи к этому подготовленными. Кажется, это более вероятно в военные времена, когда молодые люди погибают повсеместно, хотя, с другой стороны, во время войны люди вообще более готовы к внезапной смерти — во всяком случае больше, чем, например, к быстро прогрессирующей болезни у молодого человека.
Несколько слов следует сказать о детях. Нередко о них забывают. Не до такой степени, чтобы совсем их забросить, а часто даже наоборот. Но лишь немногие люди способны спокойно поговорить с детьми о смерти. Дети воспринимают смерть по-разному, и это необходимо принимать во внимание, когда мы хотим поговорить с ними и понять их высказывания. До трехлетнего возраста ребенок воспринимает только отделение, удаление другого существа; позже появляется страх увечья, физического разрушения. Это возраст первых самостоятельных действий, вылазок в окружающий мир, первых путешествий по тротуару на трехколесном велосипеде. В этот период ребенок может впервые увидеть, как автомобиль переехал четвероногого друга или как кошка растерзала воробья. Именно в этом возрасте ребенок уже осознает целостность своего тела и способен представить, что нечто подобное может случиться и с ним самим.
Смерть, как уже говорилось в главе I, не является вечным фактом для трех-пятилетнего малыша. Это такое же временное явление, как закапывание цветочного корнеплода в землю осенью, с тем чтобы весной из него снова вырос тот же цветок.
После пяти лет смерть обычно представляется в виде человека, страшного призрака, который приходит и забирает людей с собой. Смерть мыслится как вторжение извне.
На девятом-десятом году жизни у ребенка формируется более или менее реалистичное понятие о смерти как о неминуемом биологическом процессе.
На смерть отца или матери дети могут реагировать совершенно различно, от тихого молчаливого уединения до отчаянных рыданий и криков, которые привлекают внимание и тем самым способствуют замене, замещению любимого и необходимого объекта. Поскольку у ребенка нет четкого различия между желанием и действием (см. главу I), то он может испытывать сильные угрызения совести и чувство вины. Он может чувствовать себя виноватым в убийстве отца (матери) и ожидать страшной кары за это. В другом случае малыш может воспринять утрату относительно спокойно, утешая себя фразами вроде: «Она возвратится перед летними каникулами» или время от времени откладывая для нее яблоко, чтобы ей хватило еды в далеком путешествии. Если взрослые, и без того в этот период выбитые из колеи, не поймут такого ребенка и станут ему выговаривать или даже прибегнут к наказанию, то он затаится со своим переживанием траура, но в дальнейшем это нередко становится первоначальной причиной эмоциональных отклонений.
Проблемы у подростка уже мало чем отличаются от проблем взрослого. Естественно, отрочество само по себе является трудным периодом, и если к нему прибавляется смерть одного из родителей, то для юной души это может оказаться непосильным испытанием. Таких ребят необходимо выслушивать и давать им возможность выразить свои чувства, независимо от того, будут ли это чувства вины, ярости или безутешной печали.
Разрешение скорби и гнева
Здесь я хочу еще раз подчеркнуть, что родным умершего нужно дать возможность выговориться, поплакать, а при необходимости — просто покричать. Дайте им поделиться горем, разрядить напряжение; и не оставляйте их в одиночестве. Когда все проблемы умершего решены, у осиротевшего близкого только начинается период скорби и боли. Помощь и сочувствие ему необходимы не только после подтверждения рокового диагноза, но и долгие месяцы после смерти родного человека.
Я вовсе не имею в виду какую-то профессиональную опеку или консультации; большинство людей не в состоянии оплатить такие услуги, да в них и нет необходимости. Но есть необходимость в человеческом существе; а будет это врач, друг, медсестра или священник — не так важно. Очень серьезную роль может сыграть сиделка из социальной службы, если, например, она помогала устроить больную в дом присмотра за престарелыми и если семья желает поговорить о матери в этот последний период ее жизни, тем более если родственники испытывают чувство вины за то, что выставили умирающую из дома. Иногда такие семьи продолжают навещать и опекать кого-нибудь из престарелых в том же доме присмотра — в какой-то мере здесь может действовать механизм отрицания, а возможно, они просто хотят сделать людям добро как компенсацию за упущенные возможности в отношении бабушки. Независимо от скрытых причин такого поведения, мы должны понять состояние родственников и помочь им направить усилия на конструктивную работу, уменьшить чувство вины, стыда или страха возмездия. Самая значительная помощь, которую мы можем оказать родственникам, как взрослым, так и детям, состоит в том, чтобы разделить их чувства в период приближения смерти, а затем облегчить их переживания после похорон, независимо от того, насколько эти переживания иррациональны.
Когда мы допускаем и терпим их гнев, будь он направлен на нас, на усопшего или на Бога, то помогаем им сделать большой шаг к смирению без чувства вины. Если же мы обвиняем их за проявление таких антисоциальных настроений, то сами становимся виновными в продлении их скорби, чувства стыда и вины, которые часто становятся причиной ухудшения физического и душевного здоровья.
ГЛАВА X.
НЕКОТОРЫЕ БЕСЕДЫ С УМИРАЮЩИМИ
Тагор, «Гитанджали», LXXXVI
- Смерть, Твой слуга, уже стоит под моей дверью. Преодолев незримый океан, готов он в дом войти и передать мне Твой призыв.
- Ночь так темна, и страх сжимает сердце.; но я зажгу фонарь, и дверь открою, и Твоему посланцу поклонюсь — пусть входит.
- Я поклонюсь ему, смиренно руки на груди сложив и не скрывая слез. Я поклонюсь — и положу к его стопам сокровища моей души.
- И он уйдет, когда исполнит свою задачу; но ночи мрак не сгинет перед утром, а в опустевшем доме останется покинутое Я — Тебе мой дар последний.
В предыдущих главах мы пытались раскрыть причины нарастающих трудностей общения у пациентов в период тяжелой или, возможно, фатальной болезни. Мы обобщили некоторые наши наблюдения и постарались описать методы, позволяющие выявить уровень осознания, интересы, проблемы и желания пациента. Нам кажется целесообразным включить в эту книгу еще несколько произвольно выбранных бесед такого направления, поскольку они дают более широкую картину разнообразных реакций и откликов, демонстрируемых как самим пациентом, так и ведущим беседу человеком. Необходимо помнить, что пациент очень редко бывает знаком с ведущим; оба встречаются заранее лишь на несколько минут, чтобы договориться о беседе.
Я выбрала один разговор с пациентом, чья мать приходила навестить его в тот же день, что и мы, и изъявила желание встретиться с нами, чтобы обсудить свою линию поведения. Я считаю, что это хорошая демонстрация того, как разные члены семьи ведут себя в период терминальной стадии болезни и как иногда разительно непохожими бывают их воспоминания об одном и том же событии. После каждого интервью мы даем краткий итог, соотносящий эту беседу с материалами предыдущих глав. Эти оригинальные интервью говорят сами за себя. Мы сознательно не редактировали и не сокращали их, чтобы показать и те эпизоды, когда мы воспринимали явные и неявные сообщения пациента, и другие моменты, когда мы не были столь чуткими. Существует и такая часть беседы, которую невозможно передать читателю, — интенсивное общение без слов, существующее между пациентом и врачом, врачом и священником, пациентом и священником; невозможно передать вздохи, влажные глаза, улыбки, жесты рук, пустые глаза, удивленные взгляды, протянутые руки — все те важные сообщения, которые поступают помимо слов.
Хотя следующие ниже беседы происходили, за незначительными исключениями, во время наших первых встреч с каждым пациентом, они в большинстве случаев не были единственными. Мы посещали этих пациентов так часто, как это указано в тексте, вплоть до их смерти. Многие из них были выписаны домой и либо там и умирали, либо снова были госпитализированы позднее. Во время пребывания дома они не раз просили разрешения прийти к нам или вызывали кого-нибудь из участников беседы, «чтобы пообщаться». Иногда в наш офис заходил кто-нибудь из родственников с неформальным визитом — либо разобраться в поведении больного и попросить понимания и поддержки, либо поделиться с нами воспоминаниями о пациенте уже после его смерти. Мы старались быть для них такими же доступными, какими были для пациента в период госпитализации и после нее. Следующие беседы можно изучать как примеры поведения родственников в самый трудный период времени.
Г-жу С. бросил ее муж, и о ее смертельной болезни он узнал лишь через третьих лиц, которым о ней рассказали оставленные им маленькие дети. Самую важную роль в терминальной стадии болезни сыграла их соседка и приятельница, хотя больная надеялась, что заботу о детях после ее смерти возьмут на себя бывший муж и его вторая жена.
Семнадцатилетняя девушка проявляет настоящее мужество перед лицом трагедии. После беседы с ней следует интервью с ее матерью; обе они говорят сами за себя.
Г-жа К. оказалась не в силах принять собственную смерть, потому что чувствовала себя обязанной нести дальше семейную ношу. Здесь мы также видим хороший пример того, насколько важен семейный совет, когда о больном, зависимом или престарелом человеке должен заботиться пациент.
Г-жа Л., ставшая глазами своего ослепшего мужа, использовала эту роль для доказательства того, что она еще нужна и полезна, и оба они, муж и жена, проявляли частичное отрицание в течение их кризиса.
Г-жа С., сорокавосьмилетняя протестантка, сама воспитывала двух сыновей. Она выразила желание поговорить с кем-нибудь, и мы пригласили ее на наш семинар. Она пришла с неохотой и даже с некоторым беспокойством, но после семинара почувствовала огромное облегчение. Пока мы шли в комнату для бесед, она несколько раз начинала говорить о сыновьях, и было очевидно, что это главная причина ее тревоги.
ВРАЧ: Г-жа С., мы фактически ничего о вас не знаем, кроме того, что вы рассказали несколько минут назад. Сколько вам лет?
ПАЦИЕНТКА: Сейчас скажу. В это воскресенье будет сорок восемь.
ВРАЧ: Вот как? Надо не забыть. Кажется, вы уже второй раз в больнице? А когда была первая госпитализация?
ПАЦИЕНТКА: В апреле.
ВРАЧ: По какому поводу?
ПАЦИЕНТКА: По поводу вот этой опухоли на груди.
ВРАЧ: А что это за опухоль?
ПАЦИЕНТКА: Не могу вам сказать точно. Я не настолько разбираюсь в этих болезнях, чтобы отличать одну опухоль от другой.
ВРАЧ: А что вы о ней думаете? Вам же каким-то образом сообщили, какая у вас болезнь?
ПАЦИЕНТКА: Да, когда я пришла в больницу, у меня взяли биопсию, а через два дня мой семейный врач сказал, что видел результаты и что это злокачественная опухоль. А какого она типа, я не…
ВРАЧ: Но все-таки вам сказали, что она злокачественная.
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Когда это было?
ПАЦИЕНТКА: Это было в… по-моему, это было в самом конце марта.
ВРАЧ: Этого года? А до этого времени вы были здоровы?
ПАЦИЕНТКА: Какое там! У меня была скрытая форма туберкулеза, и я время от времени проводила по нескольку месяцев в санатории.
ВРАЧ: Понятно. Это здесь, в Колорадо? Где вы бывали в санаториях?
ПАЦИЕНТКА: В Иллинойсе.
ВРАЧ: Оказывается, вы много болели в вашей жизни.
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Можно сказать, что вы почти привыкли к больницам?
ПАЦИЕНТКА: Нет уж. Я думаю, к ним никогда нельзя привыкнуть.
ВРАЧ: Скажите, а как начиналась эта болезнь? Вы можете вспомнить начало?
ПАЦИЕНТКА: Сначала был маленький бугорок, вроде чирей. Вот здесь. Постепенно он становился крупнее и болезненнее, а я думала, мало ли у кого бывают всякие бугорки, и не хотела обращаться к врачу, все откладывала, пока не поняла, что дальше будет хуже и что пора мне кому-то показаться. Как раз за несколько месяцев перед этим умер наш семейный доктор, и я не знала, к кому мне пойти. Мужа у меня, вы знаете, уже не было. Мы прожили с ним двадцать два года, и он решил, что ему нужна другая женщина. Мы с мальчишками остались одни, и я почувствовала, как я нужна им. Я думаю, это была главная причина, почему я и мысли не допускала, что это может оказаться чем-то очень серьезным, я просто говорила себе, что этого не может быть. Поэтому и откладывала визит к врачам. А когда пошла, опухоль уже бьма большая и так болела, что я больше не могла терпеть. Я пришла к семейному врачу, и он сразу сказал, что в своем кабинете он ничего не сможет определить, нужно ложиться в больницу. Пришлось послушаться, и дней через пять меня госпитализировали. И нашли также опухоль на яичнике.
ВРАЧ: Сразу же и обнаружили?
ПАЦИЕНТКА: Да. И, мне кажется, он собирался что-то предпринимать, когда я ложилась в больницу, но после этой биопсии, когда выяснилось, что и на яичнике опухоль злокачественная, он не взялся за операцию. Он сказал, что здесь он ничего не может сделать для меня и что мне следует искать другое место.
ВРАЧ: Имелась в виду другая больница?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: И тогда вы выбрали эту больницу?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: А почему именно эту?
ПАЦИЕНТКА: Ну, у нас есть один друг, он когда-то тоже лежал здесь. Так он очень хвалил это место, и врачей, и персонал. Он говорил, что врачи здесь настоящие специалисты и что уход за больными безупречный.
ВРАЧ: И каково ваше мнение?
ПАЦИЕНТКА: Это правда.
ВРАЧ: Мне хотелось бы знать, как вы это восприняли. Когда вам сказали о злокачественной опухоли, как вы к этому отнеслись, после того как все откладывали и откладывали, боясь услышать правду? И вот вам пришлось услышать ее, и вы не можете быть дома и заботиться о детях, — как вы себя после этого почувствовали?
ПАЦИЕНТКА: Когда я услышала это в первый раз, я была совершенно парализована.
ВРАЧ: Как парализованы?
ПАЦИЕНТКА: Эмоционально.
ВРАЧ: Депрессия, плач?
ПАЦИЕНТКА: Конечно. Я всегда считала, что со мной ничего подобного случиться не может. А потом, когда я поняла, насколько все это серьезно, то подумала, что с этим придется считаться, что депрессии и слезы ничего не дадут и чем быстрее я найду кого-то, кто сможет помочь мне, тем лучше.
ВРАЧ: Вы рассказали все вашим детям?
ПАЦИЕНТКА: Да. Я сказала им обоим. Конечно, я на самом деле не уверена, насколько глубоко они все это осознают. То есть они знают, что это что-то очень серьезное, но насколько они это понимают — не знаю.
СВЯЩЕННИК: А что другие ваши родственники? Вы им говорили? У вас есть еще кто-то из близких?
ПАЦИЕНТКА: У меня есть друг, с которым мы встречаемся вот уже пять лет. Он очень хороший человек, очень добр ко мне. И к мальчишкам очень хорошо относится, вот с тех пор, как меня нет дома, он постоянно заглядывает к ним, заботится, чтобы кто-то был с ними, готовит им ужин. Так что они не совсем одни. Конечно, старший достаточно серьезный, но все-таки он слишком молод, ему еще нет и двадцати одного года.
СВЯЩЕННИК: Вам намного легче, когда вы знаете, что с ними кто-то есть.
ПАЦИЕНТКА: Конечно. А кроме того, у нас там есть соседка. Это двухквартирный дом, и она живет на второй половине. Она заходит к нам каждый день по нескольку раз. Она очень много помогала мне в те два месяца, когда я была дома после первой госпитализации. Она ухаживала за мной, помогала мыться в ванной, следила, чтобы у меня было достаточно еды. Очень хорошая женщина. Она очень религиозна, у нее своя вера. Она очень много для меня сделала.
ВРАЧ: А какая у нее вера?
ПАЦИЕНТКА: Вот видите, я даже не знаю, в какую церковь она ходит.
СВЯЩЕННИК: Может быть, в протестантскую?
ПАЦИЕНТКА: Да, в протестантскую.
СВЯЩЕННИК: А другие близкие или родственники у вас…
ПАЦИЕНТКА: У меня есть еще брат, он здесь живет.
СВЯЩЕННИК: Но он не так близок с вами, как…
ПАЦИЕНТКА: Да, мы с ним не очень близки. А вот соседка, за то короткое время, когда мы знакомы, стала для меня действительно самым близким человеком. Я имею в виду, что я могу говорить с ней, и она говорит со мной, и от этого мне становится легче.
ВРАЧ: Да, вам и вправду повезло.
ПАЦИЕНТКА: Она замечательная. Я таких людей никогда не встречала. Я почти каждый день получаю от нее почтовую открытку, какие-то несколько строчек; может быть, это глупо, а может, и серьезно, но я уже жду не дождусь следующей весточки от нее.
ВРАЧ: Чтобы просто знать, что кто-то о вас думает.
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Как давно ушел от вас муж?
ПАЦИЕНТКА: В 1959 году.
ВРАЧ: В 59-м. Тогда у вас начался туберкулез?
ПАЦИЕНТКА: В первый раз это было в 1946 году. У меня как раз умерла дочурка, ей было два с половиной года. Мой муж тогда был на военной службе. Она сильно заболела, и мы отдали ее в специальную больницу. Хуже всего было то, что я не могла ее видеть, пока она была там. У нее началась кома, и она из нее так и не вышла. Они спросили, не возражаю ли я против вскрытия, и я дала согласие — быть может, когда-нибудь это кому-то поможет. И они сделали вскрытие и сказали мне, что это был милиарный туберкулез. Это было в ее крови. А когда мой муж уходил на службу, то ко мне перешел жить мой отец. После смерти дочери мы все прошли обследование, и у отца обнаружилась большая каверна на одном легком, а у меня тоже были поражения, но меньше. Мы оба тогда попали в санаторий. Никакой операции мне не делали, я пробыла там около трех месяцев, и единственным лечением был постельный режим и уколы. А впоследствии я там лежала каждый раз перед родами и после них. Так что после рождения младшего, в 53-м году, я лежала там в последний раз.
ВРАЧ: А дочь была вашим первым ребенком?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: И это была единственная ваша девочка. Наверное, это было нелегко. Как вы оправились от этого?
ПАЦИЕНТКА: Да, это было очень тяжело.
ВРАЧ: Что дало вам силу?
ПАЦИЕНТКА: Молитва, возможно, более, чем все другое. Были только дочурка и я, то есть у меня никого и ничего не было, кроме нее. Ей было три месяца, когда муж уехал на службу. Она была просто… ну, вы понимаете, я жила только ради нее. Я не верила, что вынесу это. Но вынесла.
ВРАЧ: А теперь, когда от вас ушел муж, вы живете ради сыновей.
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Должно быть, вам очень тяжело. Что же вас спасает, когда у вас меланхолия или депрессия из-за болезни, — религия, молитвы? Что вам помогает?
ПАЦИЕНТКА: Молитвы, я думаю, в первую очередь.
ВРАЧ: Думаете ли вы или разговариваете с кем-нибудь о том, что будет, если вы умрете от этой болезни, или… вы о таких вещах не думаете?
ПАЦИЕНТКА: Правду сказать, не часто. Кроме этой женщины, моей подруги; мы с ней обо всем говорим, о самом серьезном; а больше ни с кем я не разговариваю.
СВЯЩЕННИК: Приходит ли вас навещать ваш священник или вы ходите в церковь?
ПАЦИЕНТКА: Ну, в церковь я ходила раньше. А потом я стала чувствовать себя плохо; я еще за несколько месяцев до того, как поступила сюда, перестала ходить в церковь. Слишком трудно это было. Но…
СВЯЩЕННИК: А к вам священник приходит?
ПАЦИЕНТКА: Священник приходил ко мне, когда я была еще в той больнице, дома, перед тем как сюда попасть. А потом он приходил еще раз. Я как-то неожиданно решилась приехать сюда, так что он не успел навестить меня перед отъездом. А здесь, недели через две или три после госпитализации ко мне приходил отец Д.
СВЯЩЕННИК: Ваша вера, однако, питалась главным образом от вашего частного, домашнего источника. Вы ведь не имели возможности поговорить с кем-нибудь в церкви?
ПАЦИЕНТКА: Не имела.
СВЯЩЕННИК: Но эту роль играла ваша подруга.
ВРАЧ: По вашим словам можно было предположить, что она стала вашей подругой сравнительно недавно. Наверное, вы переехали в этот двухквартирный дом, или это она переехала?
ПАЦИЕНТКА: Я знакома с ней… около… да, около полутора лет.
ВРАЧ: Только и всего? Это удивительно! Как же вы так быстро подружились?
ПАЦИЕНТКА: Да я и сама не знаю. Это и вправду трудно объяснить. Она сказала мне, что всю свою жизнь мечтала о сестре, а я и говорю ей, что мне тоже всегда хотелось иметь сестру; что у меня только брат. Она тогда и говорит: «Что ж, кажется, мы нашли друг друга, и теперь у тебя есть сестра, и у меня тоже». Ей достаточно просто войти в комнату, и мне становится хорошо, да, я чувствую себя с ней как дома.
ВРАЧ: А сестры у вас никогда не было?
ПАЦИЕНТКА: Нет. Только брат и я.
ВРАЧ: Только один брат. А какие у вас были родители?
ПАЦИЕНТКА: Отец с матерью развелись, когда мы были совсем маленькие.
ВРАЧ: Как, совсем маленькие?
ПАЦИЕНТКА: Мне было два с половиной, а брату около трех с половиной лет. Нас воспитывали дядя и тетя.
ВРАЧ: Как они к вам относились?
ПАЦИЕНТКА: Замечательно.
ВРАЧ: Что же ваши настоящие родители?
ПАЦИЕНТКА: Мама еще жива. Она живет в нашем городе, а отец умер вскоре после того санатория.
ВРАЧ: То есть он умер от туберкулеза?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Понятно. А кто вам ближе всех, как вы считаете?
ПАЦИЕНТКА: Пожалуй, дядя и тетя, они были мне настоящими отцом и матерью. Мы жили у них с самого детства. И никогда… понимаете, они говорили, что они нам дядя и тетя, но на самом деле они были как родители.
ВРАЧ: В этом нет никакой фальши. Они были искренни.
ПАЦИЕНТКА: Да, конечно.
СВЯЩЕННИК: Они сейчас живы?
ПАЦИЕНТКА: Нет. Дядя умер несколько лет назад. А тетушка еще жива. Ей восемьдесят пять лет.
СВЯЩЕННИК: Она знает о вашей болезни?
ПАЦИЕНТКА: Да.
СВЯЩЕННИК: Вы поддерживаете с ней контакты?
ПАЦИЕНТКА: Да, конечно, поддерживаю. Она-то сама не очень здорова. В прошлом году из-за артрита позвоночника она лежала в больнице. Я даже не уверена была, что она выздоровеет. Но она справилась с болезнью и сейчас неплохо себя чувствует. У нее своя маленькая квартирка, она живет там сама и обходится без чьей-либо помощи. Я считаю, что она молодец.
ВРАЧ: Восемьдесят четыре?
ПАЦИЕНТКА: Восемьдесят пять.
ВРАЧ: Скажите, какие у вас средства? Вы работаете?
ПАЦИЕНТКА: Я работала неполный рабочий день, пока не поступила сюда.
ВРАЧ: Это было в апреле?
ПАЦИЕНТКА: Да. Но муж хорошо нас обеспечивает.
ВРАЧ: То есть вы не зависите от своего заработка?
ПАЦИЕНТКА: Нет.
ВРАЧ: Ваш муж с вами как-то общается?
ПАЦИЕНТКА: Ну, он навещает мальчиков, когда хочет, и это всегда… ну, я всегда чувствую, что, когда он хочет их навестить, это ему нужно. Он тоже живет в нашем городе.
ВРАЧ: Он женился второй раз?
ПАЦИЕНТКА: Да, он женился второй раз где-то через год после того, как ушел.
ВРАЧ: Он знает о вашей болезни?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Все знает?
ПАЦИЕНТКА: Я, по правде сказать, не уверена. Я думаю, он ничего не знает, кроме того, что рассказывают сыновья.
ВРАЧ: А у вас с ним разговоров не бывает.
ПАЦИЕНТКА: Не бывает.
ВРАЧ: Понятно. Так вы его и не видели ни разу?
ПАЦИЕНТКА: Не говорила с ним. И не… не видела его.
ВРАЧ: Скажите, какие еще части вашего тела сейчас поражены?
ПАЦИЕНТКА: Вот здесь есть опухоль, и вот в этом месте на печени. И очень большая опухоль на ноге, она разрушила почти всю кость, и они поставили мне стержень в ногу.
ВРАЧ: Это было весной или летом?
ПАЦИЕНТКА: В июле. А кроме того, у меня же еще опухоль на яичнике; и они до сих пор не могут установить, где это началось.
ВРАЧ. Я понимаю. Они знают, что опухоли теперь есть в разных местах, но не знают, в каком месте была первая. Понятно. Что является для вас самым худшим в этой злокачественной болезни? Насколько она мешает нормальной жизни и деятельности? Например, можете ли вы ходить хоть немного?
ПАЦИЕНТКА: Не могу. Только с костылями.
ВРАЧ: Вы можете ходить по дому на костылях?
ПАЦИЕНТКА: Могу, но и только. Если нужно что-то делать, например приготовить еду, то это очень трудно.
ВРАЧ: Чем еще это плохо?
ПАЦИЕНТКА: Ну, я даже не знаю…
ВРАЧ: Кажется, вы говорили наверху, что у вас бывали сильные боли.
ПАЦИЕНТКА: Бывали.
ВРАЧ: И теперь бывают?
ПАЦИЕНТКА: Знаете, когда проходит столько месяцев, то просто научишься жить с этой болью. Когда болит так, что нельзя выдержать, то я прошу дать мне что-нибудь. Но вообще я никогда не любила принимать лекарства.
ВРАЧ: Г-жа С. производит на меня впечатление человека, который вытерпит долгую и мучительную боль, прежде чем попросит помощи. Точно так же она длительное время ждала и смотрела, как растет опухоль, прежде чем обратилась к врачу.
ПАЦИЕНТКА: Это всегда было для меня самой трудной проблемой.
ВРАЧ: У вас есть недоразумения с сестрами? Говорите ли вы им, когда вам что-то нужно? И знаете ли вы, какая у вас репутация как у пациента?
ПАЦИЕНТ (шутливо): По-моему, вам лучше спросить об этом у сестер.
СВЯЩЕННИК: О, это легко; но мы интересуемся вашим мнением.
ПАЦИЕНТКА: Я, правда, не знаю. Мне кажется, что я могу ужиться с каждым.
ВРАЧ: Я тоже так думаю. Но, быть может, вы слишком мало просите.
ПАЦИЕНТКА: Я не прошу больше того, что мне полагается.
ВРАЧ: А как вы это определяете?
ПАЦИЕНТКА: Не знаю. Видите ли, разные люди, они разные и есть. Что касается меня, то я всегда радовалась, что сама могу позаботиться о себе, сделать домашние работы, все приготовить для мальчиков. Это для меня самое важное, главная моя забота. А теперь я вижу, что кто-то должен обо мне заботиться, и мне очень тяжело с этим смириться.
ВРАЧ: Хуже всего то, что болезнь прогрессирует, так ведь? И вы не в состоянии давать что-то другим.
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Что можно дать другим, когда физическая деятельность невозможна?
ПАЦИЕНТКА: Можно вспоминать их, когда молишься.
ВРАЧ: Что вы и делаете в настоящее время.
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Считаете ли вы, что это помогает каким-то другим пациентам?
ПАЦИЕНТКА: Да, я считаю, что помогает. Надеюсь, что помогает.
ВРАЧ: Какую еще помощь, по-вашему, можем мы оказать? Вот когда умираешь, как это воспринимается? Что это означает для вас?
ПАЦИЕНТКА: Я не боюсь умереть.
ВРАЧ: Не боитесь?
ПАЦИЕНТКА: Не боюсь.
ВРАЧ: И в этом нет ничего плохого?
ПАЦИЕНТКА: Я не имела этого в виду. Конечно, каждому хочется жить как можно дольше.
ВРАЧ: И это естественно.
ПАЦИЕНТКА: Но умирать я не боюсь.
ВРАЧ: Как вы себе это представляете?
СВЯЩЕННИК: Меня это тоже интересует, потому что мы говорим обо всем, только не о настоящих проблемах. Думаете ли вы о том, что будет происходить, если дело дойдет до смерти? Думали ли вы об этом раньше? Вы упомянули о беседах с вашей подругой.
ПАЦИЕНТКА: Да, мы с ней об этом говорили.
СВЯЩЕННИК: Вы не могли бы немного рассказать нам о ваших беседах?
ПАЦИЕНТКА: Это мне не легко, понимаете, передать разговор…
СВЯЩЕННИК: Вам проще говорить с ней на эти темы, чем с кем-то еще…
ПАЦИЕНТКА: С кем-то знакомым.
СВЯЩЕННИК: Разрешите мне задать вам связанный с этим вопрос: как ваша болезнь — а это уже вторая ваша болезнь, ведь у вас был туберкулез, и потеря дочери, — как эти события повлияли на ваше отношение к жизни, на ваши религиозные представления?
ПАЦИЕНТКА: Я думаю, они приблизили меня к Богу.
СВЯЩЕННИК: Каким образом? Вы ощутили Его помощь, или…
ПАЦИЕНТКА: Да. Я просто почувствовала, что отдаю себя в Его руки. Ему решать, быть ли мне снова здоровой и вести нормальную жизнь.
СВЯЩЕННИК: Вы говорили о том, что тяжело быть зависимой от других, и все же вы признаете, что ваша подруга оказывает вам большую помощь. Тяжело ли быть зависимой от Бога?
ПАЦИЕНТКА: Нет.
СВЯЩЕННИК: Это как бы помощь от вашей подруги, правда?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: Но если я правильно поняла, ваша по друга так же нуждается в помощи, как и вы. Ей тоже нужна сестра, и получается как бы взаимный обмен, это не просто милостыня.
ПАЦИЕНТКА: У нее в жизни есть свои печали и трудности, может быть, поэтому она и сблизилась так со мной.
ВРАЧ: Она одинока?
ПАЦИЕНТКА: Она умеет понимать. Она замужем, но у нее никогда не было своих детей, а она любит детей. Своих нет, так она всех детей любит. Она и ее муж работают здесь, в детском доме, воспитателями. Вокруг них все время дети. И к моим мальчикам они очень добры.
ВРАЧ: Кто будет заботиться о них, если вы задержитесь в больнице надолго или если умрете?
ПАЦИЕНТКА: Я считаю, если бы что-то случилось со мной, то было бы естественно взяться за них отцу. Это его долг…
ВРАЧ: А как вы к такому варианту относитесь?
ПАЦИЕНТКА: По-моему, это было бы наилучшее решение.
ВРАЧ: Для мальчиков.
ПАЦИЕНТКА: Я не знаю, как для мальчиков, но…
ВРАЧ: А как они ладят с его второй женой? Кто реально стал бы им второй матерью?
ПАЦИЕНТКА: Ну, они в ней фактически не нуждаются.
ВРАЧ: Как это?
ПАЦИЕНТКА: Видите ли, я не знаю, как она к ним относится, возможно, не выносит их. Не знаю. Но думаю, что отец в глубине души их любит и, кажется, всегда любил. Если до этого дойдет, я думаю, он все для них сделает.
СВЯЩЕННИК: Ваши мальчики уже довольно большие. Младшему тринадцать?
ПАЦИЕНТКА: Тринадцать. Он сейчас в восьмом классе.
ВРАЧ: Тринадцать и восемнадцать, так?
ПАЦИЕНТКА: Старший в прошлом году закончил школу. Как раз в сентябре ему было восемнадцать. Ему пришлось расписаться в призывном листе, он от этого не в восторге; мне тоже это не нравится. Я не думаю об этом. Стараюсь не думать, но не получается.
ВРАЧ: В такое время, как у вас сейчас, наверное, очень тяжело об этом думать. Скажите, действительно ли отдельные люди на вашем этаже и больница в целом помогают вам, делают все, что в их силах, или у вас есть предложения по улучшению обслуживания пациентов вроде вас — ведь, я уверена, у вас масса проблем, конфликтов и тревог и вам не так легко об этом рассказать?
ПАЦИЕНТКА: О, конечно, я бы хотела, чтобы врачи немного больше мне рассказывали, что со мной происходит. Понимаете, я чувствую себя как бы во тьме, я ничего не знаю. Может быть, есть люди, которые не хотят знать, насколько они больны, но есть и такие, что хотят. Если мне осталось недолго жить, то я бы хотела знать об этом.
ВРАЧ: Вы просили об этом вашего врача?
ПАЦИЕНТКА: Нет. Вы же знаете, врачи вечно спешат…
ВРАЧ: Почему бы вам в следующий раз не ухватить его за рукав и не спросить прямо?
ПАЦИЕНТКА: Я понимаю, что у них каждая минута на счету. То есть я не…
СВЯЩЕННИК: Это мало чем отличается от того, что она рассказывала о других ее отношениях. Она никому не навязывается, а занимать чье-то время — тоже навязывание, если только это не близкий друг.
ВРАЧ: Если бы опухоль не стала такой большой, а боль невыносимой, вы не обратились бы за помощью, правда? А с каким врачом вы хотели бы поговорить? У вас несколько врачей? С кем из них вы наиболее свободно себя чувствуете?
ПАЦИЕНТКА: Я очень доверяю доктору К.; когда он приходит в палату, я… я чувствую, что все, что он говорит мне, все это правда.
ВРАЧ: Быть может, он просто ждет, чтобы вы его спросили?
ПАЦИЕНТКА: У меня всегда к нему такое чувство.
ВРАЧ: Как вы думаете, может такое быть, что он просто ждет случая, когда вы его спросите?
ПАЦИЕНТКА: Ну, этого я не знаю. Я не… вероятно, он говорит мне все, что считает необходимым.
ВРАЧ: Но для вас этого недостаточно.
СВЯЩЕННИК: Смотрите, она утверждает, что ей хотелось бы знать больше, например: «Если мне осталось недолго жить…» Тогда у меня возникает вопрос: речь идет о том, чем вы действительно обеспокоены? Вы действительно так думаете, как говорите?
ВРАЧ: Что означает «недолго жить», г-жа С.? Это ведь очень относительно…
ПАЦИЕНТКА: Ох, я не знаю. Может, полгода, может, год.
СВЯЩЕННИК: А если бы вы не были в этом состоянии, вам так же сильно хотелось бы знать? Я имею в виду ваше сравнение с темнотой…
ПАЦИЕНТКА: В каком бы я состоянии ни была, это мое состояние, и мне просто хочется все знать. А люди разные бывают, одним можно сказать, другим не следует.
ВРАЧ: А что это изменило бы для вас?
ПАЦИЕНТКА: Не знаю. Может быть, я просто больше радовалась бы каждому дню, если мне…
ВРАЧ: Вы понимаете, никакой доктор не может сказать, сколько осталось времени. Понимаете, он этого не знает… Но некоторые врачи хотят помочь и дают приблизительную оценку. И после этого многие пациенты впадают в сильную депрессию и уже не радуются ни одному дню. Что вы об этом думаете?
ПАЦИЕНТКА: Для меня это не имеет значения.
ВРАЧ: Но вы понимаете, почему многие врачи так уклончивы?
ПАЦИЕНТКА: Да. Я знаю, есть такие больные, что могут побежать и выпрыгнуть из окна или… еще что-нибудь выкинуть.
ВРАЧ: Да, есть и такие люди. Но вы, очевидно, давно размышляете об этих вещах, вы знаете, в каком состоянии находитесь. Я думаю, вам следует поговорить с доктором, сказать ему все. Просто откройте дверь и посмотрите, как далеко вы можете пойти.
ПАЦИЕНТКА: Он может не поверить, что я действительно хочу все знать о себе. То есть я хочу сказать…
СВЯЩЕННИК: Вы это увидите.
ВРАЧ: Вы просто задавайте вопрос и слушайте ответ.
ПАЦИЕНТКА: Мой первый врач, с которым я встретилась, когда пришла сюда в первый раз, на первые анализы… я ему очень доверяла, с первой встречи.
СВЯЩЕННИК: Я думаю, это оправданное доверие.
ВРАЧ: И это очень важно.
ПАЦИЕНТКА: А потом я вернулась домой, у меня был семейный врач, очень близкий нам человек…
ВРАЧ: И его вы тоже потом потеряли?
ПАЦИЕНТКА: Да, и это было очень тяжело, потому что он был замечательный человек. Ему надо было жить долго-долго. Ему еще и шестидесяти не было. Вы знаете, конечно, что у врача жизнь нелегкая. И я думаю, он просто не заботился о себе как следует. Для него пациенты всегда были на первом месте.
ВРАЧ: Но вы ведь такая же! Ваши сыновья всегда на первом месте…
ПАЦИЕНТКА: Так всегда было.
ВРАЧ: Скажите, вам очень трудно было сюда прийти? Я имею в виду, что вы неохотно шли сюда, на нашу встречу.
ПАЦИЕНТКА: Ну, я действительно особого энтузиазма не испытывала.
ВРАЧ: Это было видно.
ПАЦИЕНТКА: А потом я подумала… в общем, решила, что должна пойти.
СВЯЩЕННИК: Как вы относитесь к нашей встрече теперь?
ПАЦИЕНТКА: Я рада, что пришла.
ВРАЧ: Это оказалось не так страшно, правда? Знаете, вы вот сказали, что не умеете говорить. А я думаю, вы здорово с нами поговорили.
СВЯЩЕННИК: Я тоже это подтверждаю. Меня, правда, интересовало, есть ли у вас вопросы к нам, — я еще раньше понял, что врачи не дают себе времени выслушивать вопросы пациента. А мы не спешим, у вас есть возможность задать нам любые вопросы.
ПАЦИЕНТКА: Знаете, когда вы только пришли и сказали об этом, я не очень-то поняла, к чему эта встреча, что она может дать, в чем ее главная идея.
СВЯЩЕННИК: А теперь, после нашей встречи, вы получили ответ?
ПАЦИЕНТКА: Да, частично.
ВРАЧ: Видите ли, наша главная задача — научиться у пациентов практически, каким образом нам следует разговаривать с совершенно незнакомыми людьми, с которыми мы встречаемся впервые и совсем не знаем друг друга; каким образом познакомиться с пациентом, чтобы он откровенно рассказал о своих потребностях и желаниях. Все это нам понадобится в дальнейшем; вот я сегодня очень многое узнала от вас — вы достаточно хорошо знаете, что представляет собой ваша болезнь, знаете, что это болезнь тяжелая, что она поразила уже несколько органов. Я не думаю, что кто-то может сказать вам, как долго она будет тянуться. Они сейчас пробуют новую диету, которую, по-моему, мало кому предлагают, но они очень надеются на ее эффективность. Я знаю, что для вас эта диета невыносимо трудна. Но каждый старается сделать все, что в его силах…
ПАЦИЕНТКА: Если они считают, что это может мне помочь, то я согласна попробовать.
ВРАЧ: Они рассчитывают на это. Поэтому и дают ее вам. Но, насколько я вас понимаю, вам хотелось бы иногда посидеть с врачом и поговорить об этом. Даже если он не сможет ответить вам на все вопросы. Да и никто, я думаю, не сможет. Но хотя бы посидеть и поговорить. Как это у вас было с семейным доктором; или как мы сейчас стараемся поговорить.
ПАЦИЕНТКА: Я вовсе не нервничаю с вами, а я этого боялась вначале. Мне даже приятно.
СВЯЩЕННИК: Мне кажется, вы просто отдохнули, пока сидели с нами.
ПАЦИЕНТКА: Когда я только пришла, я немного нервничала.
СВЯЩЕННИК: Вы говорили об этом.
ВРАЧ: Давайте, мы теперь отведем вас обратно. И мы еще будем приходить к вам время от времени, хорошо?
ПАЦИЕНТКА: Конечно.
ВРАЧ: Спасибо вам за то, что пришли.
Подводя итог, заметим, что это был типичный пример пациентки, которая испытала много утрат в своей жизни и теперь нуждалась в человеке, с которым она могла бы поделиться своими горестями и заботами. Высказав свои чувства людям, которые ей сочувствовали, она испытала большое облегчение.
Г-же С. было два с половиной года, когда ее родители развелись; воспитывали ее родственники. Ее единственная дочь умерла от туберкулеза в возрасте двух с половиной лет, когда ее муж служил в армии, и у г-жи С. не было никого близкого. Ее отец умер вскоре после этого в санатории, и она сама вынуждена была лечь в больницу по поводу туберкулеза. После двадцати двух лет совместной жизни ее муж ушел к другой женщине, оставив ее с двумя мальчишками. Их семейный врач, которому она очень доверяла, умер как раз тогда, когда она больше всего нуждалась в его помощи — когда заметила подозрительный бугорок, который впоследствии оказался злокачественной опухолью. Она сама растила сыновей, поэтому откладывала лечение до последней возможности, пока боль не сделалась нестерпимой, а опухоль не дала метастазы. При всей своей бедности и одиночестве, она, однако, всегда находила настоящих друзей, с которыми делилась своими тревогами. Все это тоже были замены — тетя и дядя заменили ей родителей; друг заменил ей мужа, а соседка — сестру, которой у нее никогда не было. Соседка оказалась самым важным ее другом: она стала матерью и для пациентки, и для ее детей, когда болезнь достигла кульминации. Этой преданной службой соседка удовлетворяла и собственную потребность; она помогала больной ненавязчиво и деликатно.
В дальнейшей судьбе этой пациентки важнейшую роль играл социальный работник, а также врач, которого мы информировали о ее желании делиться с ним своими переживаниями.
Ниже приводится беседа с семнадцатилетней девушкой, страдавшей от апластической анемии; она попросила, чтобы встреча происходила в присутствии студентов. Сразу после этого следует интервью с ее матерью, а затем дискуссия с участием студентов-медиков, присутствовавшего врача и персонала, обслуживавшего больную.
ВРАЧ: Я постараюсь, чтобы вам было удобно, и, пожалуйста, если вам станет больно или вы почувствуете усталость, скажите нам. Не хотите ли рассказать группе, как давно вы болеете и с чего это началось?
ПАЦИЕНТКА: Это просто свалилось на меня.
ВРАЧ: Как свалилось?
ПАЦИЕНТКА: Мы тогда были на церковном съезде в X., это небольшой городок недалеко от нашего, и я ходила на все собрания. Мы пришли в школьную столовую пообедать, я взяла свою порцию и села за стол. И тут мне стало холодно, очень холодно, у меня начался сильный озноб и острая боль в левом боку. Меня отвели в дом священника и уложили в постель. Боль становилась все сильнее, мне было нестерпимо холодно. Тогда священник вызвал своего семейного врача, тот пришел и сказал, что у меня приступ аппендицита. Меня отвезли в больницу, и там боль вроде бы прошла; она исчезла сама собой. Они сделали массу анализов и увидели, что мой аппендикс тут ни при чем, и меня отправили домой вместе с друзьями. Две недели все было совершенно нормально, и я снова пошла в школу.
СТУДЕНТ: Что же, по-вашему, у вас было?
ПАЦИЕНТКА: Я тогда не знала. Я ходила в школу еще недели две, а затем однажды мне стало совсем плохо, я упала со стула и даже потеряла сознание. Вызвали нашего домашнего врача, он пришел и сказал мне, что у меня анемия. Он отвез меня в больницу и влил мне три пинты крови. Потом у меня начались эти боли, вот здесь. Очень неприятные боли, и врачи решили, что, вероятно, это селезенка. Они собирались удалить ее. Мне делали рентгеновское облучение и много других процедур, но мне по-прежнему было очень плохо, и они не знали, что делать. Обратились за консультацией к доктору И., меня перевели сюда для обследования, я была в больнице десять дней. Они очень много анализов сделали и, наконец, определили, что у меня апластическая анемия.
СТУДЕНТ: Когда это было?
ПАЦИЕНТКА: Это бьмо в середине мая.
ВРАЧ: Как вы это восприняли?
ПАЦИЕНТКА: Знаете, мне хотелось знать точно, что это такое; я слишком много пропустила в школе. Меня донимала боль, и, вы понимаете, просто хотелось знать, что со мной. Поэтому я осталась в больнице на десять дней, и они сделали все анализы и тесты и после этого сказали, что у меня. И сказали, что ничего ужасного нет. Но они понятия не имели, откуда взялась моя болезнь.
ВРАЧ: Они сказали вам, что ничего ужасного?
ПАЦИЕНТКА: Ну, они все сказали моим родителям. Родители спросили меня, хочу ли я знать правду, я ответила, что хочу, и они мне все рассказали.
СТУДЕНТ: Как вы восприняли это?
ПАЦИЕНТКА: Вначале я не знала, а затем решила для себя, что это воля Бога, чтобы я заболела, потому что все произошло так внезапно, а раньше я никогда не болела. И я решила, что Богу нужно, чтобы я заболела, и что я под Его защитой и Он позаботится обо мне, поэтому мне незачем тревожиться. И с той минуты я просто полагаюсь на Него и думаю, что благодаря этому я еще жива. Я знаю это.
СТУДЕНТ: У вас бывает депрессия в связи с этим?
ПАЦИЕНТКА: Нет.
СТУДЕНТ: А у других больных, как вы думаете?
ПАЦИЕНТКА: Другие могут быть действительно тяжело больны. Я понимаю, здесь не может быть полной уверенности; но я думаю, каждый, кто серьезно заболел, испытывает время от времени что-то подобное.
СТУДЕНТ: Бывает ли у вас сожаление, что вам об этом сказали родители? Быть может, вам было бы лучше, если бы сказал врач?
ПАЦИЕНТКА: Нет, я считаю, лучше, что сказали родители. Да, очень хорошо, что они мне сказали; но мне было бы очень приятно… если бы и врач рассказал… (Здесь она проявляет неуверенность относительно того, что лучше было узнать правду от родителей, чем от врача.)
СТУДЕНТ: Как вы считаете, окружающие вас люди — врачи, медсестры, няни — избегали этой темы?
ПАЦИЕНТКА: Они никогда ничего мне не говорили, почти все мне сказали родители. Они и должны были сказать.
СТУДЕНТ: Как вам кажется, изменилось ли ваше отношение к исходу вашей болезни после того, как вы впервые узнали о ней?
ПАЦИЕНТКА: Нет, оно остается одним и тем же.
СТУДЕНТ: Вы над этим много размышляли?
ПАЦИЕНТКА: Да.
СТУДЕНТ: И ваше отношение не изменилось?
ПАЦИЕНТКА: Нет. Были очень тяжелые периоды; вот и сейчас они не могут найти у меня вену. Чего только они не делают со мной из-за разных осложнений, но мне не остается ничего другого, как просто сохранять веру.
СТУДЕНТ: Чувствуете ли вы, что ваша вера за этот период укрепилась?
ПАЦИЕНТКА: Да, я действительно это чувствую.
СТУДЕНТ: Выходит, что в этом отношении вы изменились? И в таком случае вера — самое главное, что помогает вам выстоять?
ПАЦИЕНТКА: Не знаю. Говорят, что я могу не выдержать, но если Он хочет, чтобы я была здорова, то я буду здорова.
СТУДЕНТ: Изменились ли вы как личность? Замечаете ли вы ежедневные перемены в себе?
ПАЦИЕНТКА: Да, конечно, ведь я постоянно встречаюсь с другими людьми. Да, почти все. время. Я поднимаюсь и иду, навещаю некоторых пациентов и помогаю им. У меня хорошие отношения с соседями по палате, мы с ними разговариваем. Знаете, когда наваливается депрессия, очень помогает разговор с кем-нибудь.
ВРАЧ: Часто ли вы испытываете депрессию? Раньше вас было двое в этой комнате, а сейчас вы совсем одна?
ПАЦИЕНТКА: Думаю, это было потому, что я была совершенно истощена. Я неделю даже из комнаты не выходила.
ВРАЧ: А сейчас вы не устали? Когда почувствуете усталость, скажите мне, и мы закончим нашу беседу.
ПАЦИЕНТКА: Нет, все в порядке.
СТУДЕНТ: Заметили ли вы какие-либо перемены в вашей семье, среди друзей, в их отношении к вам?
ПАЦИЕНТКА: Я стала намного ближе к семье. Нам очень хорошо вместе. Мой брат и я были очень дружны в детстве. Ему сейчас восемнадцать лет, а мне семнадцать, четырнадцать месяцев разницы. А с сестрой мы всегда были настоящими подружками. А теперь мы и с родителями ближе стали, я могу больше им рассказать всего, а они… я не знаю, ну, это просто ощущение большей близости.
СТУДЕНТ: Ваши отношения с родителями углубились, обогатились — правильно я понимаю?
ПАЦИЕНТКА: Да. И с ребятами тоже.
СТУДЕНТ: Дает ли это вам ощущение поддержки в борьбе с болезнью?
ПАЦИЕНТКА: Конечно. Я не думаю, что выдержала бы все это без поддержки семьи и друзей.
СТУДЕНТ: Они стремятся помочь вам всеми возможными способами. А ведь вы им тоже некоторым образом помогаете?
ПАЦИЕНТКА: Я стараюсь. Каждый раз, когда они приходят ко мне, я стараюсь, чтобы они чувствовали себя свободно, чтобы домой уходили в хорошем настроении и тому подобное…
СТУДЕНТ: А когда вы остаетесь одна, бывает ли у вас сильная депрессия?
ПАЦИЕНТКА: Да, бывает настоящая паника, потому что я люблю людей, люблю быть в компании, хотя бы с кем-нибудь одним… Не знаю, когда я остаюсь одна, сразу все проблемы наваливаются. Иногда депрессия усиливается оттого, что никого нет, не с кем поговорить.
СТУДЕНТ: Есть что-нибудь такое, что особенно чувствуется, когда вы одна, из-за чего вы и боитесь остаться одна?
ПАЦИЕНТКА: Нет, просто сознание, что никого нет, не с кем поговорить.
ВРАЧ: Какой вы были до болезни? Общительной или предпочитали уединение?
ПАЦИЕНТКА: О, я была очень общительной. Занималась спортом, ездила в разные места, любила коллективные игры, собрания…
ВРАЧ: Приходилось ли вам какое-то время оставаться в одиночестве еще до болезни?
ПАЦИЕНТКА: Нет.
СТУДЕНТ: Если бы все начать сначала, не лучше ли было бы, чтобы родители подождали, не сразу сказали вам?
ПАЦИЕНТКА: Нет, я рада, что все знаю с самого начала. То есть я предпочитаю сразу все узнать, знать, что я умираю, и чтобы они не боялись смотреть мне в глаза.
СТУДЕНТ: С чем вам предстоит встретиться лицом к лицу, как вы представляете себе смерть?
ПАЦИЕНТКА: Я думаю, что это прекрасно, потому что я приду домой, в свой другой дом, к Богу; и я не боюсь умирать.
ВРАЧ: Есть ли у вас зрительное или иное представление о «другом доме»? Понимаете, у всех нас есть какие-то фантазии на этот счет, но мы никогда об этом не разговариваем. Вы не против такого разговора?
ПАЦИЕНТКА: Ну, я просто думаю, что это вроде как все собираются вместе, и всем по-настоящему хорошо, и еще там есть кто-то особенный… и, в общем, там все иначе.
ВРАЧ: Что еще могли бы вы сказать об этом? Что вы чувствуете?
ПАЦИЕНТКА: О, я бы сказала, что это удивительное чувство, никаких проблем, просто ты там находишься и больше не бывает одиночества.
ВРАЧ: Просто все хорошо?
ПАЦИЕНТКА: Просто хорошо, да,
ВРАЧ: И не нужна пища, чтобы оставаться сильной?
ПАЦИЕНТКА: Нет, я не так представляю. Сила будет внутри меня.
ВРАЧ: Вам не захочется разных земных вещей?
ПАЦИЕНТКА: Нет.
ВРАЧ: Понятно. Но скажите, откуда у вас эта сила, откуда мужество, с которым вы с самого начала смотрите в лицо реальности? Знаете, религиозных людей много, но в то же время очень немногие принимают свою судьбу так смело, как вы. Вы всегда были такой?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: И вы никогда не ощущали глубокой враждебности…
ПАЦИЕНТКА: Нет.
ВРАЧ: …или озлобления против здоровых людей?
ПАЦИЕНТКА: Нет. Я думаю, я много получила от моих родителей: они два года были миссионерами в С.
ВРАЧ: Понятно.
ПАЦИЕНТКА: Оба они были замечательными работниками церкви. Они буквально воспитывали нас в христианском доме, и это сыграло большую роль.
ВРАЧ: Считаете ли вы, что нам, врачам, следует беседовать со смертельно больными об их будущем? Чему бы вы учили нас, если бы ваша миссия состояла именно в этом — научить нас помогать умирающим?
ПАЦИЕНТКА: Знаете, доктор обычно приходит, смотрит поверх тебя, говорит «Ну, как ты сегодня?» или что-нибудь в этом роде — чистейшую фальшь. Именно из-за этого я ненавижу быть больной — они никогда с тобой не разговаривают. Или еще — входят в палату с таким видом, как будто они совсем другие люди. И таких большинство из тех, кого я знаю. Вот они приходят, поговорят со мной немножко, спросят о самочувствии, посидят. Что-нибудь скажут о моей прическе или что сегодня я выгляжу лучше. Некоторые пробуют мне что-то объяснить. Им это трудно, потому что я несовершеннолетняя и им не положено все мне рассказывать, считается, что они должны разговаривать с родителями. Поэтому я считаю, что разговор с пациентом — это очень важно; если ты ощущаешь этот холод со стороны врачей, то с ужасом ожидаешь их прихода, с этим их безразличием и таким занятым видом. А если врач обращается к тебе по-человечески, с теплотой, — это совсем другое дело. Это очень важно.
ВРАЧ: А не возникло ли у вас чувство дискомфорта или неприязни в связи с нашим приходом и этим разговором?
ПАЦИЕНТКА: Нет, я не имею ничего против.
СТУДЕНТ: А как в этом отношении ведет себя младший персонал?
ПАЦИЕНТКА: Большинство сестер — замечательные люди, мы часто разговариваем, и я знаю их почти всех очень хорошо.
ВРАЧ: Не считаете ли вы, что сестры выполняют эту задачу в некотором смысле лучше, чем врачи?
ПАЦИЕНТКА: Именно так и есть, потому что они здесь бывают чаще и дольше и помогают больше, чем врачи.
ВРАЧ: Быть может, они просто приятнее в обращении?
ПАЦИЕНТКА: Несомненно.
СТУДЕНТ: Позвольте спросить, умирал ли кто-нибудь из ваших родственников, когда вы уже были взрослой?
ПАЦИЕНТКА: Да, мой дядя, брат отца. Я была на его похоронах.
СТУДЕНТ: Как вы себя там чувствовали?
ПАЦИЕНТКА: Да я и не помню. Он выглядел странно, не так, как всегда. Но это был вообще первый покойник в моей жизни.
ВРАЧ: Сколько лет вам тогда было?
ПАЦИЕНТКА: Кажется, двенадцать. Или тринадцать.
ВРАЧ: Вы сказали «Он выглядел странно», и вы улыбнулись.
ПАЦИЕНТКА: Да, он был не такой, каким я привыкла его видеть; особенно эти совсем бесцветные руки, такие неподвижные… А потом умерла моя бабушка, но я туда не ездила. Умер и мой дедушка по матери, но я тоже не была на похоронах, просто не пошла. А вот недавно умерла тетя, но я уже была больна, и мы не ходили туда.
ВРАЧ: Каждый раз это бывает по-другому, правда?
ПАЦИЕНТКА: Да. Вот дядю я любила больше других. Когда кто-то умирает, плакать, по правде, не следует, потому что он отправляется на небеса и за него можно радоваться, ведь он попадет в рай.
ВРАЧ: Кто-нибудь из них говорил с вами об этом?
ПАЦИЕНТКА: Недавно, месяц с небольшим назад, умер мой очень большой друг, настоящий друг, и мы вместе с его женой бьми на похоронах. Это было очень важно для меня, потому что это был удивительный человек, и он так много сделал для меня, когда я заболела. С ним каждый чувствовал себя так хорошо и свободно…
ВРАЧ: Итак, вы считаете, что нужно немножко больше понимания и больше времени для разговора с пациентами.
Дальше следует интервью с матерью этой девушки. Мы встретились с ней сразу после разговора с дочерью.
ВРАЧ: Очень немногие родители приходят к нам поговорить об их тяжелобольных детях, так что ваш визит для нас довольно необычен.
МАТЬ: Да, я сама попросила о встрече.
ВРАЧ: Мы говорили с вашей дочерью о том, как она себя чувствует и как она смотрит на смерть. На нас произвело сильное впечатление ее спокойствие, отсутствие тревоги в то время, когда она не в одиночестве.
МАТЬ: Она много говорила сегодня?
ВРАЧ: Да.
МАТЬ: У нее сегодня сильные боли и она крайне плохо себя чувствует.
ВРАЧ: Она очень много говорила, значительно больше, чем утром.
МАТЬ: А я-то боялась, что она придет сюда и вообще говорить не будет.
ВРАЧ: Мы вас надолго не задержим, а я буду вам благодарна, если вы позволите этим молодым врачам задать вам несколько вопросов.
СТУДЕНТ: Когда вы впервые узнали о состоянии вашей дочери, узнали, что болезнь неизлечима, как вы реагировали на это?
МАТЬ: В общем, очень хорошо.
СТУДЕНТ: И вы, и ваш муж?
МАТЬ: Мужа в тот день не было со мной, и мне было довольно плохо от того, как я узнала эту новость. Мы просто знали, что она больна, и только поэтому, когда я пришла ее навестить в тот день, я спросила врача, как она себя чувствует. Врач ответил: «У нее плохи дела. Я должен сообщить вам неприятную новость». Он отвел меня в маленькую комнату и сказал совершенно откровенно: «У нее апластическая анемия, это неизлечимо. Это все». Еще он сказал: «Ничего сделать нельзя, мы не знаем причин этой болезни, мы не знаем средств лечения». Тогда я говорю: «Позвольте мне задать вам один вопрос». Он говорит: «Пожалуйста, если хотите». И я спросила: «Доктор, сколько ей осталось жить, год?» «Нет, нет, что вы». И тогда я сказала: «Ну что ж, в этом нам повезло». Вот и все, что он мне сказал, хотя у меня было множество вопросов.
ВРАЧ: Это происходило в мае?
МАТЬ: Да, 26 мая. И еще он сказал: «Она не одна, есть много людей с этой болезнью. Это неизлечимо, вот и все, что тут можно сказать. Она должна просто смириться с этим». И вышел из комнаты. Очень тяжело мне было в первые минуты, когда я возвращалась в ее палату. Я даже заблудилась, это было похоже на панику. Стою и думаю: «Боже мой, да ведь это означает, что она не будет жить». Я не знала, как мне идти к дочери. Но потом я все-таки собралась с силами, вернулась в палату и поговорила с ней. Сначала я боялась идти и говорить ей, насколько она больна, я не была уверена, что выдержу и не расплачусь. Поэтому я держалась изо всех сил, когда шла к ней. Для меня самой это был сильный удар, тем более что я была одна, да еще — как это было сказано! Если бы он предложил мне сесть, мне кажется, я бы восприняла это немного легче.
СТУДЕНТ: Уточните, как бы вы хотели, чтобы он вам это рассказал?
МАТЬ: Ну, он мог хотя бы подождать: мы всегда приходили вдвоем с мужем, это был первый раз, когда я была одна; он мог бы вызвать нас обоих и сообщить, что у нашей дочери неизлечимая болезнь. Он должен был говорить об этом откровенно, но мог при этом проявить немного сочувствия, никакой нужды в такой сухости не было. Я имею в виду то, как он выразился: «Вы не одни такие в мире».
ВРАЧ: Вы знаете, я много раз с этим сталкивалась, и это всегда тяжело. Вам не казалось, что у этого врача самого есть какие-то эмоциональные трудности в связи с такими ситуациями?
МАТЬ: Да, я думала об этом, но от этого не легче.
ВРАЧ: Иногда единственный способ сообщить подобную весть — сухой, холодный тон.
МАТЬ: Конечно, вы правы. Врач не может, да, наверное, и не должен давать волю эмоциям в таких делах. Но… я не знаю… должны существовать более мягкие способы.
СТУДЕНТ: Изменились ли ваши чувства к дочери?
МАТЬ: Нет. Я только по-настоящему благодарна за каждый день, проведенный с нею. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этих дней было больше, хотя понимаю, что это неправильно. Она ведь воспитана с такой верой, что смерть может быть прекрасна, поэтому нет смысла отчаиваться. Я знаю, когда придет ее час, она будет так же мужественна. Только раз я видела, как она не выдержала и заплакала, она тогда сказала мне: «Мама, ты выглядишь отчаявшейся». И добавила: «Не отчаивайся, мама, мне не страшно. Мой Господь ждет меня, Он обо мне позаботится, поэтому и ты не бойся». А потом говорит: «Я немножко боюсь, это тебя тревожит?» А я ответила: «Нет, я думаю, что все боятся. А тебе следует держаться так, как ты и держишься. Если тебе хочется поплакать, то и поплачь, все ведь плачут». А она отвечает: «Нет, плакать не о чем». Так что, я вижу, она приняла это, смирилась, и мы тоже смирились.
ВРАЧ: Это было десять месяцев назад, не так ли?
МАТЬ: Да.
ВРАЧ: Совсем недавно вам дали всего «двадцать четыре часа».
МАТЬ: В минувший вторник врач сказал нам, что хорошо, если она проживет еще от двенадцати до двадцати четырех часов. Он хотел дать ей морфин, чтобы сократить этот срок и уменьшить боль. Мы попросили его дать нам подумать об этом минуту, а он говорит: «Я не понимаю, почему вы не хотите сделать это и прекратить страдания». Потом он вышел. И тогда мы решили, что для нее будет лучше, если мы дадим согласие и он сделает свое дело. Мы сказали дежурному врачу, что мы согласны, пусть он передаст это нашему врачу. Больше мы нашего врача ни разу не видели, и укол ей никто не делал. Потом ей стало лучше на несколько дней, потом снова хуже, а в общем, все это к одному идет. И те же проблемы, что и у других таких пациентов.
ВРАЧ: Что вы имеете в виду?
МАТЬ: Я знаю об этих больных. Моя мать работала в П., там таких пациентов до двухсот, и она всего насмотрелась. Она рассказывала, что в последние дни у них болит все, и болит так, что нельзя притронуться. Их даже приподнимать опасно — ломаются кости. Вот уже неделю дочь не хочет есть, и у нее тоже это все начинается. Еще до первого марта она ходила по всему этажу вместе с медсестрами, помогала ухаживать за другими больными, ободряла их.
ВРАЧ: Да, последний месяц самый трудный.
СТУДЕНТ: Изменились ли как-нибудь за это время ваши отношения с другими вашими детьми?
МАТЬ: Нет, конечно, нет. Они постоянно ссорились, и она тоже ссорилась с ними, а потом она всегда говорила: «Когда поругаешься, становится легче». Они и теперь ссорятся, но не больше, я думаю, чем другие дети. Между ними никогда не было ненависти, и вообще (со смехом), они очень приятные дети.
СТУДЕНТ: Как они воспринимают все это?
МАТЬ: О, они сознательно не сюсюкают. Обращаются с ней точно так же, как всегда. И хорошо делают, это не дает ей повода жалеть себя; они пикируются с ней и все такое. Если у них какие-то свои дела, они ей прямо говорят: «В эту субботу я к тебе не приду, но потом буду всю неделю, ладно?» А она отвечает: «Ладно, беги, гуляй». Она понимает их. И они знают, что каждый их визит может оказаться последним. Мы постоянно держим друг друга в курсе, кто где находится и как кого найти в случае, если…
ВРАЧ: Говорите ли вы детям о возможном конце?
МАТЬ: Да, конечно.
ВРАЧ: Вы говорите об этом открыто?
МАТЬ: Да. Мы всегда были религиозной семьей. Каждое утро, перед тем как они идут в школу, мы молимся все вместе, и я думаю, что это им очень помогает, потому что семье, особенно с подростками, трудно собраться и поговорить о каждом, о важных событиях — все они ведь вечно бегут куда-то, заняты чем-то; а вот эти утренние минуты как раз и собирают всех вместе и посвящаются семейным проблемам. Мы не раз обсуждали и эту тему, и наша дочь уже сделала свои распоряжения относительно ее похорон.
ВРАЧ: Вы не могли бы рассказать нам об этом?
МАТЬ: Да, мы говорим об этих вещах. Не так давно в нашей общине, у прихожан нашей церкви, родился слепой ребенок. Было ему месяцев шесть, когда дочь — она тогда лежала в другой больнице — сказала мне: «Мама, я бы хотела отдать ему мои глаза, когда умру». А я говорю ей: «Хорошо, мы узнаем, что можно сделать, я не уверена, что это возможно». Я и раньше говорила им, что мы действительно должны обдумывать и обсуждать подобные вещи, все должны, потому что никто не знает, когда придет папин или мой час, с нами может все случиться, и вы, дети, останетесь одни. И вот дочь мне сказала: «Да, мы должны обо всем этом договориться. Давай, мама, мы с тобой облегчим эту задачу для всех: мы напишем, как мы хотим, чтобы было сделано, и попросим их тоже написать, как они хотят, чтобы было сделано». Так она облегчила и мою задачу, она сказала: «Я начну первая, а потом скажешь ты мне». Я просто записала то, что она говорила, и нам стало легче. Но она всегда старается поступать так, чтобы другим было легче.
СТУДЕНТ: Не было ли у вас раньше какого-то подозрения, еще перед тем, как вам сказали, что болезнь неизлечима? Вы говорили, что ваш муж раньше всегда приходил вместе с вами, но именно в тот раз получилось так, что вы пришли к дочери одна. Была ли какая-нибудь особая причина, почему он не пришел с вами?
МАТЬ: Я стараюсь приходить в больницу всегда, когда у меня есть возможность. А он был нездоров. И у него меньше свободного времени, чем у меня. Но он приходит со мной почти всегда.
СТУДЕНТ: Ваша дочь рассказала нам, что он был миссионером в С. и что вы тоже активно занимаетесь церковными делами. В этом одна из причин глубоких религиозных устоев вашей семьи. Какого характера была его миссионерская работа? Почему он перестал ею заниматься?
МАТЬ: Он был раньше мормоном. И они всегда оплачивали все его заработки, все доходы и тому подобное. И когда мы только поженились, я ходила в церковь уже около года. Он начал ходить вместе со мной, и вот уже семнадцать лет ходит каждое воскресенье, со мной и детьми. Четыре или пять лет назад он перешел в нашу церковь и стал рабочим — он там работает и до сих пор.
СТУДЕНТ: Мне хотелось бы знать, поскольку у вашей дочери такая болезнь, причина которой и средства лечения неизвестны, не бывало ли у вас иррационального чувства вины? МАТЬ: Конечно, бывало. Сколько раз мы обсуждали тот факт, что я никогда не давала детям витаминов. Семейный врач всегда говорил, что им это не нужно, а я говорила, что, может быть, нужно, иногда покупала, а потом вспоминала об этом при всякой оказии. У нее был приступ в минувшую Пасху. Нам сказали, что причиной могла быть кость. Что любое повреждение кости может стать причиной. Но здесь врачи сказали, что это не так, что это должно было случиться несколькими месяцами раньше. У нее бывают очень сильные боли, но она мужественно терпит их. Нет, мы всегда молимся «Да свершится воля Твоя» и понимаем, что если Он захочет ее забрать, то заберет, а если не захочет, то сотворит чудо. Но мы почти не надеемся на чудо, хотя говорят, что никогда нельзя оставлять надежду. Мы знаем, что свершится то, что должно свершиться, и это будет наилучшим исходом. И мы попросили ее — это уже другое дело. Нам сказали, чтобы мы ничего ей не говорили.
Она очень повзрослела за этот год. Она общалась с самыми разными женщинами — одна хотела совершить самоубийство, другие рассказывали о своих проблемах с мужьями, о беременности. Нет секретов, о которых она не знает, нет людей, с которыми она не общалась бы. И у нее есть огромный запас выдержки и терпения. Единственное, чего она не любит, — когда от нее что-то скрывают. Она хочет знать все. Поэтому мы ей все рассказали. Мы обсудили все и со всех сторон, когда ей стало совсем плохо на минувшей неделе и мы думали, что это конец. Врач сказал нам об этом в вестибюле, и она немедленно спросила: «Что он сказал? Что я умираю?» Я ответила ей: «Это неизвестно. Он сказал, что ты в очень плохом состоянии». Тогда она спрашивает: «Хорошо, а что он хочет дать мне?» Я, конечно, не могла сказать правду, я ответила: «Это чтобы снять боль». Она сразу: «Это наркотик, я не хочу наркотика». Я говорю ей: «Это снимет тебе боль». Она свое: «Я лучше перетерплю. Я не хочу привыкать к наркотику». Я говорю ей: «Ты не привыкнешь», а она смотрит на меня и говорит: «Мать, ты меня просто смешишь». Она ни разу не сдавалась, у нее всегда есть надежда, что ей станет лучше.
ВРАЧ: Не хотите ли вы закончить беседу? У нас осталось несколько минут. Быть может, вы, как мать умирающего ребенка, скажете несколько слов студентам о том, как вы оцениваете лечение в этой больнице? Естественно, вы стараетесь быть с дочерью как можно больше. Помогают ли вам здесь?
МАТЬ: В предыдущей больнице это было очень хорошо поставлено, там все относились к нам очень тепло. Здесь же все такие занятые, а обслуживание больных не столь хорошее. Они всегда дают мне почувствовать, что я им мешаю, когда нахожусь здесь. Особенно врачи-интерны и стажеры. Всегда я лишняя, я уже привыкла нырять в сторону, когда встречаю их в холле. Я чувствую себя воровкой; каждый раз, когда они меня видят, их глаза как будто говорят: «Как, ты опять здесь?» Они проносятся мимо, не говоря ни слова. Я чувствую себя незваной гостьей, меня здесь не должно быть. Но я хочу быть здесь, и единственная тому причина — меня об этом просит моя дочь, она никогда раньше меня об этом не просила. И я остаюсь и стараюсь никому не мешать. По правде говоря, я не хочу себе льстить, но я очень много помогаю. В первые две или три ночи, когда ей стало совсем плохо, я не знаю, что было бы, потому что сестры разбежались, они избегали ее и старой женщины, которая лежит вместе с ней в палате. У этой женщины был сердечный приступ, она даже подкладное судно не могла себе подложить, я ей помогала несколько ночей. А у дочери была сильная рвота, за ней надо было смотреть, ее надо было обмывать — они просто ничего этого не делали. Но кто-то должен это делать…
СТУДЕНТ: Где вы спите?
МАТЬ: Прямо там, в кресле. В первую ночь я не взяла с собой ни одеяла, ни подушки, ничего. Одна из пациенток не спала, она настояла на том, чтобы я взяла у нее подушку; а укрылась я своим пальто. На следующую ночь я принесла собственную постель. Наверное, мне не следует рассказывать об этом, но (смеется) один из вахтеров иногда приносит мне чашечку кофе.
ВРАЧ: Хороший человек.
МАТЬ: Я чувствую, что не должна рассказывать такие вещи, но очень хочется снять это все с души.
ВРАЧ: Я считаю, что подобные вещи следует рассказывать. Обдумывать и обсуждать их, а не делать вид, что все в порядке; это важно.
МАТЬ: Я уже говорила, отношение врачей и медсестер совсем иное, чем членов семьи и других пациентов.
ВРАЧ: Но, надеюсь, вы видели здесь не только плохое.
МАТЬ: Я вам скажу. Здесь есть одна девушка, она работает в ночное время. У больных есть разные домашние вещи, и вот от некоторых пациентов стали поступать жалобы, но никакой реакции не последовало. Она и сейчас еще работает, и пациенты в ее смену не спят, ждут, когда она придет, потому что боятся, что вещи будут украдены. А когда она приходит, то ведет себя так грубо, просто по-хамски, а ведь она всего лишь няня. В другой раз пришел высокий чернокожий юноша, открыл дверь и говорит: «Добрый вечер. Я здесь для того, чтобы ночью вам бьмо веселее». Очень приятный молодой человек. И всю ночь он приходил на каждый мой звонок. Удивительный парень. Утром обе пациентки чувствовали себя на все сто процентов лучше, и весь следующий день им было хорошо.
ВРАЧ: Спасибо вам, г-жа М.
МАТЬ: Надеюсь, я не слишком вас заговорила.
Ниже приводится текст беседы с г-жой К., которая не могла спокойно умереть из-за невыполненных семейных обязанностей.
ВРАЧ: Вы сказали, что у вас слишком много мыслей, когда вы пытаетесь полежать одна и спокойно подумать. Мы предложили вам посидеть некоторое время вместе, просто послушать. Один из самых мучительных вопросов касается ваших детей. Правильно я говорю?
ПАЦИЕНТКА: Да. Больше всего меня беспокоит моя маленькая дочь. Кроме нее у меня есть еще трое сыновей.
ВРАЧ: Но они уже почти взрослые, не так ли?
ПАЦИЕНТКА: Да, но я знаю, как реагируют дети на тяжело больных родителей, особенно если это мать. Вы знаете, в детстве это очень важно. Мне бы очень хотелось знать, как это все на нее повлияет в дальнейшем. Когда она вырастет и будет вспоминать эти события.
ВРАЧ: Какие события вы имеете в виду?
ПАЦИЕНТКА: Прежде всего то, что ее мать стала бездеятельной. Совсем бездеятельной, не сравнить с предыдущей работой в школе или в церкви. Кроме того, я теперь больше переживаю из-за того, что некому позаботиться о моей семье. Когда я была дома, даже когда уже не работала, я не так боялась. Чаще всего друзья не знают ничего, никому не хочется говорить об этом. Поэтому я рассказала другим людям, кто-то же должен знать правду. И вот еще я думаю, правильно ли я сделала? Правильно ли поступила, что рассказала об этом дочурке, она ведь совсем еще дитя, может быть, следовало это сделать позднее?
ВРАЧ: Как вы рассказали ей?
ПАЦИЕНТКА: Вы понимаете, дети очень прямолинейны в своих вопросах. Я совершенно честно отвечала ей. Но я выразила в то же время и свои чувства. У меня всегда есть чувство надежды. Я надеюсь, что откроют какое-то новое средство, что у меня еще может быть шанс на спасение. У меня нет чувства страха, и я считаю, что у нее его не должно быть тоже. Если болезнь будет прогрессировать, даже наступит безнадежное состояние, когда я стану совсем беспомощной, чистой обузой, я за себя все равно не боюсь. Я надеюсь также, что работа в воскресной школе и разовьет, и закалит ее. Если бы только у меня была уверенность, что она справится сама, что для нее это не будет трагедией! Мне бы этого очень не хотелось. Я в этом не вижу трагедии, и разговаривала я с ней именно в таком духе. Обычно я стараюсь держаться при ней бодро, а она думает, что меня здесь подлечили. И вот в этот раз — она снова решила, что я выздоравливаю!
ВРАЧ: У вас есть некоторая надежда, но явно не такая большая, как у вашей семьи. Правильно я вас поняла? И, возможно, из-за этой разницы в осознании все становится труднее?
ПАЦИЕНТКА: Никто не знает, как долго это может тянуться. Конечно, я всегда буду надеяться, но на сегодняшний день я в худшем состоянии, чем когда бы то ни было в жизни. Врачи мне ничего не объяснили. Они не сказали, что нашли у меня во время операции. Впрочем, все понятно и без их слов. Я потеряла в весе больше, чем когда-либо, аппетит почти пропал. Они говорят, что у меня какая-то инфекция, которую они не могут обнаружить. Когда у вас лейкемия, то худшее, что может случиться, — схватить еще и инфекцию.
ВРАЧ: Вчера, когда я пришла навестить вас, вы были вне себя. Вам делали облучение толстой кишки, и вы чувствовали себя так, словно у вас отняли часть вашего мозга.
ПАЦИЕНТКА: Точно. Знаете, когда человек болен и слаб, на него действуют мелочи. Почему они не разговаривают со мной? Почему они ничего не скажут перед тем, как делать определенную процедуру? Почему они дадут вам зайти в ванную только после того, как заберут вас из палаты, словно вещь, а не как человека?
ВРАЧ: Из-за чего же все-таки вы были так расстроены вчера утром?
ПАЦИЕНТКА: В общем, это все очень личное, но я вам расскажу без обиняков. Почему они не выдают еще одну пижаму, когда ведут на рентгеновское облучение толстой кишки? После процедуры все тело испачкано, а тут нужно садиться в кресло. Никакого желания садиться нет, потому что потом, когда поднимешься, все будет в этом белом мелу, это очень неприятно. Почему они обращаются со мной так деликатно наверху, в моей палате, а здесь я себя чувствую не человеком, а номером? Они делают эту странную процедуру, и потом в этом состоянии очень неприятно возвращаться. Я не знаю почему, но это происходит каждый раз. Этого не должно быть. Я считаю, они должны предупреждать пациента заранее. Я чувствовала себя плохо и очень устала. Сестра подняла меня сюда, наверх, и решила, что дальше, в палату, я пойду сама. Я говорю: «Ладно, если вы считаете, что я могу ходить, то я попробую». После того как я прошла всю процедуру облучения, взбиралась на этот стол, я так ослабела, что не была уверена, доберусь ли я до своей палаты.
ВРАЧ: От этого вы должны были чувствовать раздражение и подавленность.
ПАЦИЕНТКА: Я редко бываю раздражена. Кажется, последний раз это было, когда мой старший сын ушел, а муж тогда был на работе. Некому было запереть дом, и я, конечно, не могла спокойно уснуть, зная, что дом не заперт. Мы живем у перекрестка. На углу есть уличный фонарь. Я так и не заснула, пока не узнала, что дом уже заперт. Я с ним столько раз об этом говорила, и он обычно звонил мне и сообщал, но в эту ночь не позвонил.
ВРАЧ: Ваш старший сын — трудный юноша, не так ли? Вчера вы сказали мимоходом, что он эмоционально неуравновешен и у него задержанное развитие, правильно?
ПАЦИЕНТКА: Так и есть. Он четыре года находился в больнице штата.
ВРАЧ: А теперь он дома?
ПАЦИЕНТКА: Дома.
ВРАЧ: Вы считаете, что его необходимо контролировать, и вы обеспокоены тем, что контролировать некому и он остается без присмотра, как ваш дом в ту ночь.
ПАЦИЕНТКА: Именно так, и я вижу, что я одна отвечаю, я ответственна за столько всего, и почти ничего не могу делать в моем состоянии.
ВРАЧ: Что произойдет, если вы совсем ничего не сможете контролировать?
ПАЦИЕНТКА: Мы надеемся, что, быть может, это немного откроет ему глаза, потому что он многих вещей не понимает. В нем очень много хорошего, но он нуждается в помощи. Сам он никогда не сможет жить.
ВРАЧ: Кто может помочь ему?
ПАЦИЕНТКА: В этом-то и проблема.
ВРАЧ: Есть ли в вашем доме кто-нибудь, кто мог бы помочь?
ПАЦИЕНТКА: Конечно. Пока жив его отец, он мог бы помогать ему. Но это не просто, потому что отец работает и подолгу отсутствует. Есть еще бабушка и дедушка, но и это не решает дела.
ВРАЧ: Чьи бабушка и дедушка?
ПАЦИЕНТКА: Отец моего мужа и моя мать.
ВРАЧ: Они здоровы?
ПАЦИЕНТКА: Нет, они не очень здоровы. У мамы болезнь Паркинсона, а у свекра сердце в плохом состоянии.
ВРАЧ: Все это вместе взятое, да еще ваша двенадцатилетняя дочь… У вас есть старший сын, у него проблемы. У вас есть мать с болезнью Паркинсона; пытаясь помочь кому-нибудь, она, видимо, начинает трястись. Дальше, отец мужа с его слабым сердцем. И сами вы нездоровы. Кто-то должен быть в доме и заботиться обо всех этих людях. Это все, насколько я поняла, и не дает вам покоя.
ПАЦИЕНТКА: Совершенно верно. Мы стараемся найти друзей и надеемся, что ситуация не выйдет из-под контроля. Мы живем изо дня в день. Каждый день кое-как все устраивается, но, если посмотреть наперед, то ничем нельзя помочь, только ждешь и переживаешь. И самое неприятное вдобавок ко всему — моя болезнь. Так что неизвестно, что лучше — смириться и спокойно встречать каждый день или резко все поменять.
ВРАЧ: Поменять?
ПАЦИЕНТКА: Да, одно время мой муж все говорил: «Нужно что-то менять». Старики должны уйти. Моей матери следовало бы перебраться к другой дочери, а свекру — в дом престарелых. Необходимо просто стать бесчувственными и отправить всю семью по заведениям. Даже мой семейный врач считает, что я должна передать старшего сына в какое-то заведение. Но я никак не могу смириться с таким положением вещей. В конце концов я пошла к ним и сказала: «Нет, мне будет еще хуже, если вы уйдете, поэтому оставайтесь дома. Если это неминуемо, если не будет выхода, тогда вернемся к этому вопросу. Если же вы уйдете, будет хуже». Я посоветовала им держаться нашего гнезда.
ВРАЧ: Вы чувствовали бы себя виноватой, если бы они перешли в дома присмотра?
ПАЦИЕНТКА: Пожалуй, нет, если дело доходит до того, что для них просто опасно подниматься и спускаться по лестнице; или вот, я чувствую, что моей матери уже небезопасно стоять возле плиты.
ВРАЧ: Вы так привыкли заботиться о других, что теперь вам будет нелегко заботиться о самой себе.
ПАЦИЕНТКА: Да, это все не так просто. Моя мать всегда старается помочь мне, она из тех матерей, для которых их дети важнее всего на свете. Это тоже не лучший вариант, вы понимаете, у каждого должны быть и другие интересы. А она всегда была совершенно предана своей семье. Это ее жизнь; вот она все что-то шьет, что-то делает для моей сестры, которая живет по-соседству. Я рада этому, потому что и моя дочь ходит туда, учится у нее. И я очень рада, что мы с сестрой соседи: мать ходит к ней и довольна, потому что для нее это хоть небольшая перемена обстановки.
ВРАЧ: Таким образом, всем немного легче. Г-жа К., вы не могли бы нам рассказать еще о себе? Вы сказали, что сейчас вы чувствуете себя хуже, чем когда-либо, что вы сильно сбавили в весе. Когда вы лежите в постели, в одиночестве, о чем вы думаете и что вам больше всего помогает?
ПАЦИЕНТКА: Видите ли, мы с мужем из таких семей и так воспитаны, что оба знаем: если мы вступаем в брак и создаем семью, то нам должна помогать внешняя сила, помимо наших рук. Он был лидером бойскаутов. У его родителей были конфликты, и они в конце концов разошлись. Это бьм второй брак у моего отца, у него было трое детей. Он был женат на совсем молоденькой официантке, брак оказался совершенно неудачным, на них жалко было смотреть; кому они только не раздавали своих детей. Но когда он женился на моей матери, дети не пришли к нему жить. Отец был очень темпераментный человек, вечно взвинченный и раздраженный. Я теперь часто вспоминаю и удивляюсь, как я это выдерживала. И еще когда мы там жили, я познакомилась в церкви с моим мужем. Мы поженились. И мы знали: для того, чтобы наш брак был удачным, нам необходима сторонняя сила. Мы всегда это чувствовали. Мы всегда были активистами в церкви; я стала учительницей в воскресной школе, когда мне было только шестнадцать. В богадельне нужна была няня, и я с удовольствием пошла туда. Я работала учительницей до тех пор, пока не родился второй сын. Я работала с радостью, я часто молилась в церкви и рассказывала, как много значит для меня церковь, что значит для меня мой Бог. Поэтому я знаю, что, если что-то случится, нельзя так просто выбросить все это за борт. И я не теряю веры, я знаю: что должно случиться, то случится.
ВРАЧ: Это и теперь вам помогает?
ПАЦИЕНТКА: Да. И когда мы с мужем говорим об этих вещах, то чувствуем, что мы их понимаем одинаково. Я говорила священнику, отцу К., что мы никогда не устанем беседовать об этом с другими людьми. Я говорила ему также, что наша любовь после двадцати девяти лет брака так же сильна, как и в день свадьбы. Это еще одна моя величайшая ценность. У нас были и трудные дни, но мы сумели выстоять. Он замечательный человек, просто удивительный!
ВРАЧ: Вы мужественно и умело справляетесь с проблемами. Наверное, самая трудная из них — ваш сын?
ПАЦИЕНТКА: Мы делаем все, что можем. Я не считаю, что это только случай для родителя проявить свои способности. Обстоятельства складываются таким образом, что действительно неизвестно, что нужно делать. Сначала кажется, что это упрямство, но на самом деле никто не знает, как быть.
ВРАЧ: Сколько ему было лет, когда вы заметили, что у него не все в порядке?
ПАЦИЕНТКА: Понимаете, это мне казалось обычным делом. Ребенок не может ездить на трехколесном велосипеде, не может делать то, что другие дети делают. Мать такие вещи не хочет воспринимать, она первым делом находит им другое объяснение.
ВРАЧ: Сколько же прошло времени, прежде чем вы все поняли?
ПАЦИЕНТКА: Я и сегодня не все понимаю, но кое-что начала понимать, когда он пошел в школу, в подготовительную группу. У него возникли проблемы с учительницей. Он часто засовывал что-нибудь в рот, чтобы привлечь внимание. Начались записки от учительницы, и тогда я поняла, что мальчик не в порядке.
ВРАЧ: Вы воспринимали эти факты постепенно, точно так же, как диагноз лейкемии. Скажите, кто здесь в больнице больше всех помогает вам в ваших повседневных трудностях?
ПАЦИЕНТКА: Каждый раз, когда сестра иди няня выражает веру и надежду, это большое облегчение. Я вам уже говорила, когда вчера я спустилась вниз на облучение, я чувствовала себя каким-то номером, понимаете, и там никого не было, кто бы позаботился обо мне, особенно когда я пришла во второй раз. Был конец дня, и они возмутились что им прислали пациента так поздно. Они все там возмущались. Я знала, что она привезет меня туда в этом кресле а сама исчезнет, и я буду сидеть, пока кто-нибудь не выйдет. Но одна девушка там сказала ей, что так делать нельзя что она должна зайти и предупредить, что привезла больную, и пусть кто-то выйдет. Я думаю, она была раздражена тем что нужно так поздно возиться с пациентом. Они уже закрывали двери, техники собрались идти домой, словом, конец дня. В такой ситуации доброе отношение со стороны сестер очень много значит.
ВРАЧ: Что вы думаете о людях неверующих?
ПАЦИЕНТКА: Проходила я и через это. я проходила через это со здешними пациентами. Был тут один господин он попал сюда в последний раз. Когда он узнал, какая у меня болезнь, он воскликнул: «Я ничего не понимаю; нет правды в этом мире! Почему у вас лейкемия, ведь вы никогда не курили, не пили, ничего такого не делали. Вот я, уже старик сколько я всего такого творил, чего не следовало…» Но разве это что-то меняет? Никто нам никогда не обещал жизнь без проблем. Сам Господь наш вытерпел ужасные страдания, поэтому Он и есть наш учитель, и я стараюсь следовать Ему.
ВРАЧ: Думаете ли вы о смерти?
ПАЦИЕНТКА: Думаю ли я об этом?
ВРАЧ: Да.
ПАЦИЕНТКА: Да, думаю. Я очень часто думаю о том, как буду умирать. Мне не хочется, чтобы все приходили и смотрели на меня, потому что я выгляжу безобразно. Зачем это нужно? Почему нельзя учредить простую мемориальную службу? Мне не нравятся похороны, понимаете? Может быть, это звучит странно, но у меня к этому настоящее отвращение — мое тело в этой коробке…
ВРАЧ: Я не очень вас понимаю.
ПАЦИЕНТКА: Я не люблю делать людей несчастливыми, особенно моих детей; два или три дня всей этой возни, вы понимаете… Я думала об этом, но что я могу сделать. Мой муж однажды пришел ко мне сюда и спрашивает: можем ли мы на самом деле размышлять на эту тему: отдать свои глаза, свое тело? Мы не решили этот вопрос ни в тот день, ни после, это одна из тех вещей, которые всегда откладываются.
ВРАЧ: Приходилось ли вам обсуждать это с кем-нибудь? Как готовить себя к этому часу, когда бы он ни пришел?
ПАЦИЕНТКА: Да, я говорила отцу К., я знаю, что многие люди очень нуждаются в том, чтобы кому-то довериться, поговорить со священником, они хотят от него услышать все ответы.
ВРАЧ: И он дает им ответы?
ПАЦИЕНТКА: Я думаю, что если вы понимаете христианское учение, то в моем возрасте вы будете достаточно зрелым человеком и будете знать, что нужно протянуть руку и взять это самому. Ведь вам предстоит провести много часов наедине с собой. Человек в болезни одинок, люди не могут быть с больным все время. Не будет при вас сидеть постоянно ни священник, ни ваш муж, никто. Вот мой муж такой человек, который будет сидеть со мной столько, сколько сможет.
ВРАЧ: Можно сказать, вам больше всего помогает, когда кто-то есть рядом с вами?
ПАЦИЕНТКА: Да, конечно. Но особенно некоторые люди.
ВРАЧ: Кто эти некоторые? Вы упомянули священника и вашего мужа.
ПАЦИЕНТКА: Да. Мне очень приятно, когда меня приходит навестить пастор из нашей церкви. А еще у меня была подруга, моего возраста, она очень славная христианка. Она потеряла зрение. Несколько месяцев она пролежала на спине. Она приняла это очень стойко. Она из тех людей, кто всегда что-то делают для других. Она ходит к лежачим больным, собирает одежду для бедных и тому подобное. Недавно она прислала мне чудесное письмо, она написала там 139-й псалом, это для меня была большая радость. Она пишет: «Я хочу, чтобы ты знала, что ты одна из самых близких мне людей». На такого человека только посмотришь — и уже становишься счастливее. Для счастья ведь нужно совсем немного.
Вообще-то я думаю, что все здесь очень добры. Но я часто устаю из-за того, что слышу, как многие страдают в палатах. Я все время думаю, ну почему они ничего не сделают, чтобы помочь тому человеку. Это тянется долго, я слышу, как они кричат, и мне страшно представить, что они совсем одиноки. Я не могу пойти к ним в палату и поговорить с ними, я только слышу их, понимаете? Меня такие вещи сильно расстраивают. Вначале, когда я сюда поступила, я не могла нормально спать, я все время думала об этом. Потом я сказала себе: так больше нельзя, сейчас ты должна спать. И что вы думаете, очень хорошо заснула. Но недавно ночью я слышала крики двух больных. Я надеюсь, что я никогда до такого не дойду. У меня была двоюродная сестра, старше меня, у нее оказался рак. Это была чудесная женщина. Горбунья с детства, она прекрасно с этим свыклась. Она пролежала в больнице много месяцев, но никогда не кричала. Последний раз я навестила ее за неделю до ее смерти. У нее было настоящее вдохновение: ее куда больше волновала моя к ней далекая поездка, чем ее собственные проблемы и боли.
ВРАЧ: Это женщина такого типа, какой хотели бы быть и вы, правда?
ПАЦИЕНТКА: Да. Она помогла мне. Я надеюсь, что и я смогу так держаться.
ВРАЧ: Я уверена, что сможете. Да вы и сейчас прекрасно держитесь.
ПАЦИЕНТКА: И еще одна вещь меня мучает: невозможно знать, когда произойдет переход в бессознательное состояние. И какая будет реакция. Ведь она бывает очень разной. Я считаю, это очень важно — доверять своему врачу, верить, что он будет оставаться с тобой до конца. Доктор Е. всегда очень занят, с ним не поговоришь. Если он не спрашивает, то невозможно рассказать ему о семейных проблемах или еще о чем-то, хотя я давно знаю, что это имеет отношение к моему здоровью. Это всем известно, проблемы имеют прямое отношение к физическому здоровью человека.
СВЯЩЕННИК: Вы однажды уже поднимали этот вопрос: вы говорили о том, что проблемы вашей семьи, давление с ее стороны, вероятно, тоже оказывают влияние на ваше физическое состояние.
ПАЦИЕНТКА: Да, это правда. В рождественские дни нашему сыну было очень плохо, и его отец решил снова отвезти его в больницу штата. Он согласился. Он сказал: «Я соберусь, когда мы вернемся домой из церкви». Но потом он передумал и вернулся домой. Муж рассказал, что сын заявил ему, что хочет домой, вот они и вернулись. Обычно когда этот мальчик дома, он носится туда и сюда, он даже не присядет. Очень беспокойный мальчик.
ВРАЧ: Сколько ему лет?
ПАЦИЕНТКА: Двадцать два. Хорошо, если вы в состоянии справиться с этим, что-то сделать. Но когда вы не можете ответить на его вопросы или как-то помочь ему, это ужасно, с ним невозможно разговаривать. Не так давно я попробовала объяснить ему, что произошло, когда он ролился; казалось, он понимает. Я говорила: «Ты болен, так же, как и я больна, и временами у тебя бывает тяжелое состояние. Я знаю, у тебя сейчас ужасное состояние, я знаю, как тебе плохо. Но я уверена, что это пройдет, тебе станет лучше, вот увидишь», словом, я утешала его и все такое. И он тоже старался, но фактически у него такое состояние психики, что никогда не знаешь, как лучше поступить.
СВЯЩЕННИК: Это создало вам сильное напряжение. Я думаю, это вас утомило.
ПАЦИЕНТКА: Это правда. Конечно, он доставляет мне самые тяжкие мучения.
ВРАЧ: У первой жены вашего отца были маленькие дети, они, можно сказать, были розданы; а теперь такая же проблема встает перед вами. Что с ними будет?
ПАЦИЕНТКА: Хуже всего то, что я ума не приложу, как мне удержать их вместе, как сделать так, чтобы не посылать их в различные заведения. Конечно, я понимаю, что это произойдет. Когда человек полностью прикован к постели, появляются совсем другие проблемы. И я могу снова оказаться прикованной к постели. Я говорю мужу, что со временем все само собой образуется, но годы проходят, а ничего не образовалось. У свекра был очень тяжелый сердечный приступ, и мы даже не ожидали, что он так хорошо с этим справится. Это было удивительно. Он счастлив, но иногда мне кажется, что он был бы еще счастливее в компании с другими стариками.
ВРАЧ: То есть вы отправили бы его в дом для престарелых?
ПАЦИЕНТКА: Да, и это было бы вовсе не так плохо, как ему кажется. Но он так гордится тем, что живет со своим сыном и невесткой. Он родился и вырос в этом городе и прожил здесь всю жизнь.
СВЯЩЕННИК: Сколько ему лет?
ПАЦИЕНТКА: Восемьдесят один год.
ВРАЧ: Ему восемьдесят один, а вашей матери семьдесят шесть, так? Г-жа К., я думаю, нам пора заканчивать беседу, я ведь обещала, что она продлится не более сорока пяти минут. Вчера вы говорили, что никто не беседует с вами о ваших домашних обстоятельствах, о том, как они влияют на вас, а также о вашей подготовке к смерти. Считаете ли вы, что такие беседы могли бы проводить врачи, медсестры или кто-нибудь еще здесь в больнице, по желанию пациентов?
ПАЦИЕНТКА: Да, это помогает, очень помогает!
ВРАЧ: Кто должен это делать?
ПАЦИЕНТКА: Больному очень повезло, если ему попался такой врач, а может быть, и несколько, и они приходят и интересуются этой стороной его жизни. Большинство из них интересуются лишь чисто медицинским аспектом пациента. Очень внимателен доктор М., он приходил ко мне дважды за время моей госпитализации, и мне это было очень приятно.
ВРАЧ: Почему, как вы думаете, они делают это так неохотно?
ПАЦИЕНТКА: Да ведь теперь так везде, во всем мире. Почему так мало людей делают больше того, что они обязаны делать?
ВРАЧ: Пожалуй, нам таки пора заканчивать. Г-жа К., нет ли у вас вопросов, которые вы хотели бы нам задать? Мы придем к вам еще, обязательно.
ПАЦИЕНТКА: Вопросов нет. Я только хотела бы обратиться к людям, видеть как можно больше людей и рассказать им обо всех этих вещах, где нужна помощь. Мой сын не единственный. В мире так много людей, просто нужно искать, кто-нибудь заинтересуется и сможет хоть чем-то помочь.
У г-жи К. много общего с г-жой С. — средний возраст, тот период жизни, когда человек несет ответственность за других, зависящих от него людей. Ее свекор недавно перенес тяжелый сердечный приступ, ему восемьдесят один год; матери семьдесят шесть, и она страдает болезнью Паркинсона; двенадцатилетняя дочь не может обойтись без матери и, как опасается больная, «растет слишком быстро»; двадцатидвухлетний сын невменяем и периодически лечится в государственных больницах. За всех их больная несет ответственность и очень переживает. Вдобавок, от первого брака у ее отца осталось трое детей, и она считала себя обязанной заботиться и о них. А теперь ей придется оставить всех этих зависимых людей без помощи, которая им особенно необходима.
Понятно, что такая тяжесть семейных обязательств чрезвычайно затрудняет подготовку пациента к смерти — по крайней мере, пока эти вопросы не будут обсуждены и как-то решены. Если такая пациентка не имеет возможности поделиться своими тревогами, то у нее нарастают одновременно и гнев, и депрессия. Больше всего, пожалуй, ее гнев проявился в виде возмущения больничным персоналом — медсестрой, которая решила, что больная и сама вернется с процедуры, не обратила внимания на ее состояние, думала больше о том, как бы скорее уйти с работы, а не об измученной пациентке, пытающейся, насколько это в ее силах, держаться самостоятельно и с достоинством до конца, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства.
Пожалуй, наиболее убедительно раскрывает она потребность в чутких, понимающих людях, показывает, каким образом облегчают они страдания; сама же она являет такой пример, оставляя стариков в собственном доме и давая им возможность жить наиболее полной жизнью, какая для них возможна, а не отправляя их в дома престарелых. То же самое и с ее сыном: его присутствие почти невыносимо, но он не хочет ложиться в государственную больницу, и она позволяет ему оставаться дома и брать на себя такую ответственность, на какую он способен. Все ее старания помочь каждому, насколько это возможно в ее положении, говорят также о ее желании оставаться дома и вести дела, пока у нее хватит сил; даже если она не сможет вставать с постели, ее не следует увозить из домашней обстановки. Ее последнее заявление о том, что ей хотелось бы видеть как можно больше людей и рассказать им о потребностях тяжело больных пациентов, было, пусть частично, удовлетворено нашим семинаром.
Г-жа К. с благодарностью принимала помощь и сама готова была помогать; противоположность ей представляет г-жа Д., которая приняла приглашение на беседу, но долго не могла поделиться с нами своими заботами и тревогами и только незадолго до смерти попросила нас прийти к ней.
Г-жа К. продолжала делать все, что было в ее силах, до тех пор пока не был решен вопрос о ее эмоционально неуравновешенном сыне. Внимательный муж и религиозная вера помогли ей и дали силу выдержать несколько недель страданий. Ее последнее желание «не выглядеть безобразно в этой коробке» ее муж вполне разделял, зная, что она, как всегда, заботится о других. Я думаю, что ее страх выглядеть «безобразно» проявился в ее тревоге за пациентов, чьи крики она слышала и переживала, что они «теряют свое достоинство»; сама она боялась потерять сознание: «Невозможно знать, когда произойдет переход в бессознательное состояние. И какая будет реакция… Это очень важно — доверять своему врачу, верить, что он будет с тобой до конца… Доктор Е. всегда очень занят, с ним не поговоришь…»
Возможно, впрочем, что все это означало не только и не столько ее озабоченность другими людьми, но скорее страх потери контроля над собой, опасение за себя, когда семейные проблемы еще сильнее обострятся, а ее силы сойдут на нет.
Когда мы навестили ее в другой раз, она призналась, что временами ей «хочется кричать». «Скорей бы этому конец, я просто не могу больше переживать за каждого». Она испытала огромное облегчение, когда священник и социальный работник взялись помочь ей и вместе с психиатром решили вопрос о месте для ее сына. Лишь после того, как она убедилась, что о ее близких заботятся, г-жа К. успокоилась и перестала переживать из-за того, как она будет выглядеть в гробу. Теперь вместо «безобразного» вида она представляла себе картину покоя, отдыха и достоинства, и это соответствовало ее окончательному смирению и отрешенности.
Следующая беседа с г-жой Л. говорит сама за себя. Она включена в эту книгу потому, что является ярким примером пациента, который больше всего удручает своей нестабильностью: то он готов принять помощь, то отрицает самую необходимость помощи. Важно отметить, что мы не навязываем своих услуг таким пациентам, но всегда оставляем им возможность обратиться к нам, когда возникнет такая потребность.
ВРАЧ: Г-жа Л., как давно вы находитесь в этой больнице?
ПАЦИЕНТКА: Я поступила в больницу 6 августа.
ВРАЧ: Вы ведь не первый раз в больнице?
ПАЦИЕНТКА: О, нет. Кажется, я уже по крайней мере двадцатый раз попадаю сюда.
ВРАЧ: А когда был первый раз?
ПАЦИЕНТКА: Впервые это было в 1933 году, когда у меня родился первый ребенок. Но в эту больницу я поступила в 1955 году.
ВРАЧ: При каких обстоятельствах?
ПАЦИЕНТКА: По поводу адреналэктомии.
ВРАЧ: Вам удалили надпочечники? Почему?
ПАЦИЕНТКА: У меня была злокачественная опухоль в нижней части позвоночника.
ВРАЧ: В 1955?
ПАЦИЕНТКА: Да.
ВРАЧ: То есть злокачественная опухоль у вас появилась одиннадцать лет назад?
ПАЦИЕНТКА: Нет, раньше. В 1951 мне удалили одну грудь, а в 1954 — вторую. А здесь, уже в 1955, мне удалили надпочечники и яичники.
ВРАЧ: Сколько вам лет?
ПАЦИЕНТКА: Пятьдесят четыре, скоро будет пятьдесят пять.
ВРАЧ: Пятьдесят четыре. И вы болеете, то есть по крайней мере знаете об этом, с 1951 года?
ПАЦИЕНТКА: Верно.
ВРАЧ: Не могли бы вы рассказать нам, как это началось?
ПАЦИЕНТКА: Отчего ж. У нас была небольшая семейная вечеринка, собралась мужнина родня со всего города; это было в 1951 году. Я поднялась наверх, чтобы убрать комнату и принять ванну, и там я заметила у себя бугорок в верхней части груди. Я позвала свояченицу, чтобы посмотреть и посоветоваться, и она сказала, что это может быть серьезно, что следует записаться к врачу. Я так и сделала. Это было в пятницу, а к врачу на прием я попала во вторник, а уже в среду пошла в больницу, чтобы сделать рентгеновский снимок. Там мне сказали, что это злокачественная опухоль. На следующей же неделе мне сделали операцию и грудь удалили.
ВРАЧ: Как вы восприняли это? Сколько вам было лет тогда?
ПАЦИЕНТКА: Мне было за тридцать, да, почти сорок. Я не знаю, по-моему, все считали, что мне конец. Они никак не могли понять, почему я отношусь к этому так спокойно. Правда, меня это даже забавляло. Я сначала и слушать не хотела свояченицу, которая говорила, что это может быть злокачественная опухоль. Словом, отнеслась к этому легкомысленно. А больше всех переживал мой старший сын.
ВРАЧ: Какого он возраста?
ПАЦИЕНТКА: Ему тогда было семнадцать, даже еще не было семнадцати. И он остался дома до тех пор, пока мне не сделали операцию. Только после этого пошел на службу, а то боялся, что я слягу, буду прикована к постели или еще что-нибудь случится. А потом уехал на службу. Все остальное меня мало беспокоило. Единственное, что угнетало, было радиационное лечение после операции.
ВРАЧ: Какого возраста были другие ваши дети? Я так поняла, что у вас не один сын.
ПАЦИЕНТКА: Да, у меня есть другой сын, ему двадцать восемь.
ВРАЧ: Сейчас?
ПАЦИЕНТКА: Сейчас. А тогда он учился в седьмом классе.
ВРАЧ: У вас только двое сыновей?
ПАЦИЕНТКА: Да, двое сыновей.
ВРАЧ: Ваш сын действительно боялся, что вы можете умереть?
ПАЦИЕНТКА: Думаю, да.
ВРАЧ: И уехал.
ПАЦИЕНТКА: И уехал.
ВРАЧ: Как он воспринимал все это в дальнейшем?
ПАЦИЕНТКА: Знаете, я его даже поддразниваю иногда за «больницефобию». Он просто не может меня видеть на больничной койке. Он приходил туда один-единственный раз, когда мне делали переливание крови. Отец иногда просил его принести либо домой, либо мне в больницу что-нибудь такое, что ему, отцу, тяжело нести.
ВРАЧ: Как вам сказали, что у вас злокачественная опухоль?
ПАЦИЕНТКА: Напрямик.
ВРАЧ: Это хорошо или плохо, как вы считаете?
ПАЦИЕНТКА: Мне все равно. Не знаю, как другие, а хочу знать все сразу и иметь об этом свое представление. Я хочу знать раньше других. Иначе начинаешь каждого подозревать в том, что он что-то скрывает, особенно если он уделяет тебе повышенное внимание, начинается путаница… словом, вот так я это понимаю.
ВРАЧ: В любом случае это вызывает у вас подозрительность.
ПАЦИЕНТКА: В общем, да.
ВРАЧ: Итак, с 1951 по 1966 год вы лежали в больнице около двадцати раз.
ПАЦИЕНТКА: Да, кажется, так.
ВРАЧ: Как вы думаете, чему бы вы могли научить нас?
ПАЦИЕНТКА (смеется): Не знаю, мне самой многому нужно учиться.
ВРАЧ: Как вы чувствуете себя физически? Я вижу, на вас корсет; какие-то нарушения в позвоночнике?
ПАЦИЕНТКА: Да, это позвоночник. Мне сделали анкилоз между позвонками год назад, 15 июня, и сказали, чтобы я носила корсет постоянно. Сейчас у меня некоторые неприятности с правой ногой. Но в этой больнице хорошие врачи, думаю, они и с этим справятся. У меня немела нога. Я немного отвыкла ею пользоваться, и у меня словно иголки в ней сидели. Вчера прошло. Я уже могу двигать ногой свободно, чувствую, что она восстановится.
ВРАЧ: А как сейчас ваши злокачественные образования?
ПАЦИЕНТКА: Их не слышно. Мне сказали, что не следует беспокоиться, сейчас неактивный период.
ВРАЧ: Как давно длится этот неактивный период?
ПАЦИЕНТКА: Ну, я думаю, с момента удаления надпочечников. Конечно, я не очень-то много знаю. Но когда врачи говорят мне хорошие вещи, что ж, я не против.
ВРАЧ: Вам приятно их услышать.
ПАЦИЕНТКА: Каждый раз, выходя за дверь, я говорю мужу, что все, я здесь в последний раз, я больше сюда не приду. Последний раз, когда я вышла отсюда, 7 мая, он сам сказал эти слова, так что мне не пришлось их произносить. Но это длилось не долго. Я вернулась сюда 6 августа.
ВРАЧ: У вас на лице улыбка, но в глубине души скорбь и печаль…
ПАЦИЕНТКА: Да, иногда, пожалуй, так и есть.
ВРАЧ: Как вы воспринимаете все это — злокачественные опухоли, двадцать госпитализаций, обе груди удалены, надпочечники удалены…
ПАЦИЕНТКА: И анкилоз позвонков.
ВРАЧ: И анкилоз. Как вы это выдерживаете, откуда у вас берутся силы и что вы об этом думаете?
ПАЦИЕНТКА: Не знаю. Наверное, вера в Бога и врачи помогают мне.
ВРАЧ: Кто больше?
ПАЦИЕНТКА: Бог.
СВЯЩЕННИК: Мы с вами уже говорили раньше на эту тему; несмотря на то, что у вас есть вера, которая поддерживает вас, бывают периоды, когда вы чувствуете себя несчастной?
ПАЦИЕНТКА: Да, конечно.
СВЯЩЕННИК: Периодическая депрессия — это такая вещь, которой очень трудно избежать.
ПАЦИЕНТКА: Да. Пожалуй, я острее чувствую депрессию, когда какое-то время остаюсь в одиночестве. Я думаю о прошлом, и тут же я думаю о том, что нет никакого проку в том, чтобы лежать и думать об этом. Это все позади. Мне лучше бы подумать о будущем. Когда я впервые попала сюда и узнала, что у меня рак и меня будут оперировать… а у меня двое мальчишек дома… я молилась, чтобы меня спасли на то время, пока я их поставлю на ноги.
ВРАЧ: Теперь они выросли, и все в порядке, не так ли? (Пациентка плачет.)
ПАЦИЕНТКА: Извините меня. Это и все, что мне нужно, — хорошо поплакать.
ВРАЧ: Ничего. Я удивляюсь, вот вы говорили о том, что трудно избежать депрессии. А зачем ее нужно избегать?
СВЯЩЕННИК: Да, я употребил неудачное слово. Мы с г-жой Л. говорили о том, как обращаться с депрессией. Фактически речь не о том, чтобы ее избежать, а о том, что ее нужно встретить лицом к лицу и преодолеть.
ПАЦИЕНТКА: Иногда я не могу удержаться от плача. Простите меня…
ВРАЧ: Нет, что вы, я считаю, что это даже нужно.
ПАЦИЕНТКА: То есть вы…
ВРАЧ: Да, я считаю, что если вы будете пытаться избегать ее, то вам еще хуже будет, разве не так?
ПАЦИЕНТКА: Нет, я не согласна с этим. Я считаю, что после того, как дашь себе волю, становится только хуже. Это мое мнение. Потому что каждый, кто побывал в подобном состоянии так долго, как это мне выпало, должен быть благодарен судьбе за то, что было в прошлом. Очень многим людям и этого не досталось.
ВРАЧ: Вы бы попросили дополнительное время?
ПАЦИЕНТКА: Дополнительное время для одной вещи. Несколько месяцев назад я наблюдала это в собственной семье. И, должна сказать, мне очень повезло, что подобное не случилось со мной.
СВЯЩЕННИК: Вы имеете в виду то, что случилось с вашим свояком?
ПАЦИЕНТКА: Да.
СВЯЩЕННИК: Он умер здесь.
ПАЦИЕНТКА: Да, 5 мая.
ВРАЧ: Что же вы имели в виду?
ПАЦИЕНТКА: Он болел недолго. У него не было, как у меня, возможности продержаться дольше. Я не считаю, что он был стар. Его болезнь, если бы он позаботился о ней с самого начала… словом, это была грубая небрежность с его стороны. Как бы то ни было, все произошло очень быстро.
ВРАЧ: Сколько лет ему было?
ПАЦИЕНТКА: Шестьдесят три.
ВРАЧ: Чем он болел?
ПАЦИЕНТКА: У него был рак.
ВРАЧ: И что же, он не обращал на это внимания?
ПАЦИЕНТКА: Он ходил больной полгода, и все говорили ему, чтобы он пошел к врачу, пошел в больницу, словом, обратился за помощью. Он пренебрегал этим до тех пор, пока мог выдержать. Наконец ему пришлось прийти сюда и попросить о помощи. И он, и его жена были крайне возмущены тем, что его жизнь не могут спасти — ведь спасли же мою. Я уже сказала, он ждал до последнего, до тех пор, пока мог выдержать.
ВРАЧ: Можно ли сказать, что дополнительное время — это особое время?,0тличное от всякого другого времени?
ПАЦИЕНТКА: Нет, я не считаю, что оно чем-то отличается. Я так не считаю, я чувствую, что моя жизнь — такая же нормальная, как ц ваша или вот священника. Я не чувствую, что живу взаймы иди что должна за это время сделать что-то большее, чем другие. Я ощущаю мое время так же, как и вы свое.
ВРАЧ: У некоторых людей появляется чувство, что они живут более интенсивно.
ПАЦИЕНТКА: Нет.
ВРАЧ: Быть может, это не у всех одинаково, как вы думаете?
ПАЦИЕНТКА: Нет, нет, я так не думаю. Я знаю, что каждому из нас отпущено свое время и что мой час еще не пришел, вот и все.
ВРАЧ: А не пробовали ли вы хотя бы подумать о том, что за это время следовало бы как-то приготовиться к смерти?
ПАЦИЕНТКА: Нет. Я просто живу изо дня в день, как это было и раньше.
ВРАЧ: И вы никогда не думали, как это происходит и что это значит?
ПАЦИЕНТКА: Нет. Я никогда не думала об этом.
ВРАЧ: А вообще, люди должны об этом думать? Ведь каждому придется умирать.
ПАЦИЕНТКА: По правде сказать, мне никогда не приходилось задумываться о подготовке к смерти. Мне кажется, когда придет время, что-то внутри должно сказать об этом. Я еще не чувствую, что мое время пришло. Я думаю, у меня еще много времени.
ВРАЧ: Что ж, этого никто не знает.
ПАЦИЕНТКА: Не знает. Но я вот себе так думаю: я вырастила двух сыновей, а теперь собираюсь понянчить и внуков.
ВРАЧ: У вас есть внуки?
ПАЦИЕНТКА: Семеро!
ВРАЧ: Так вы теперь ждете, когда они подрастут.
ПАЦИЕНТКА: Я жду, когда они подрастут и появятся правнуки.
ВРАЧ: Когда вы находитесь в больнице, что вам больше всего помогает?
ПАЦИЕНТКА: О, если бы это было возможно, я проводила бы все время с врачами.
СВЯЩЕННИК: Кажется, у меня на этот вопрос есть еще один ответ: у вас всегда есть некая картина будущего, цель, которой вы хотите достигнуть. И вы утверждаете, что единственное, чего вам хочется, — это быть в состоянии уйти домой и свободно передвигаться.
ПАЦИЕНТКА: Это верно. Я хочу снова ходить. Я совершенно уверена, что буду себя чувствовать так же хорошо, как это было много лет назад. Это мое твердое намерение.
ВРАЧ: Как вы считаете, что помогло вам выстоять, не сдаться?
ПАЦИЕНТКА: Я прямо чувствую, что оставила дома единственного человека — моего мужа; и что он еще больший младенец, чем все младенцы вместе взятые. Он диабетик, и из-за этого почти потерял зрение. Мы живем на пенсию по инвалидности.
ВРАЧ: Что он может?
ПАЦИЕНТКА: Он может не много. Из-за плохого зрения он не видит световых сигналов на улице. Когда я была в больнице прошлый раз, он разговаривал с г-жой С., она сидела рядом с его койкой и спросила, видит ли он ее; он сказал, что видит, но расплывчато. Тогда-то я и поняла, что у него сильно ослабло зрение. Он видит самые крупные заголовки в газете, а чуть поменьше может читать только с увеличительным стеклом; следующие размеры он уже не видит.
ВРАЧ: Кто же из вас о ком заботится дома?
ПАЦИЕНТКА: Когда в октябре прошлого года я вышла из больницы, мы решили, что если я буду его глазами, то он будет моими ногами. Таков наш план.
ВРАЧ: Очень хороший план. И он удался?
ПАЦИЕНТКА: Да, он удался прекрасно. Он случайно делает беспорядок на столе, тогда я делаю то же самое умышленно, и он думает, что виной тому не его плохое зрение. Когда что-то с ним случается, споткнется или стукнется, я рассказываю ему, что со мной это тоже случается, а ведь у меня нормальное зрение; тогда он не так расстраивается.
СВЯЩЕННИК: А он, бывает, и расстраивается?
ПАЦИЕНТКА: Да, иногда это ему сильно досаждает.
ВРАЧ: Пробовал ли он использовать собаку-поводыря или специально обучаться движению по улицам? Или хотя бы обсуждались эти вопросы?
ПАЦИЕНТКА: У нас есть домработница от Армии Спасения, она сказала ему, что узнает, чем они могут нам помочь.
ВРАЧ: Товарищество слепых может оценить его потребности; там они обучают, если это необходимо, движению с тростью.
ПАЦИЕНТКА: Да, это было бы неплохо.
ВРАЧ: Получается так, что дома оба вы поддерживаете друг друга и каждый делает то, чего другой не может делать. Поэтому для вас, видимо, очень важно, как он обходится сам, когда вы в больнице.
ПАЦИЕНТКА: Да, меня это тревожит.
ВРАЧ: И все-таки, как он там?
ПАЦИЕНТКА: Вечером готовит ужин и помогают ему дети. Три раза в неделю приходит домработница, делает уборку, гладит белье. Стирает он сам. Я никогда не критикую его работу. Он делает много огрехов, но я говорю ему, что все выглядит хорошо, пусть и дальше так делает, и на нем остается много обязанностей по дому.
ВРАЧ: Вы это говорите ему ради его самочувствия.
ПАЦИЕНТКА: Да, я стараюсь так делать.
ВРАЧ: А как вы сами?
ПАЦИЕНТКА: Я стараюсь не жаловаться на свое самочувствие. Когда он спрашивает меня, как я себя чувствую, я всегда отвечаю, что прекрасно, до тех пор пока мне не становится так плохо, что я говорю ему: меня кладут в больницу. Вот в такой момент он только и узнает, что я болею.
ВРАЧ: Как, и он никогда не просил вас сделать это раньше?
ПАЦИЕНТКА: Нет, я все сама, потому что у меня есть подруга, которая убедила себя, что она серьезно больна, и перебралась в инвалидное кресло. С тех пор я поняла, что жаловаться раньше времени очень неразумно. Я считаю, что ее пример был для меня важным уроком. Она объездила всех врачей в городе, добиваясь от них согласия с тем, что у нее рассеянный склероз. Врачи же у нее так ничего и не нашли. Сегодня она совсем не встает с инвалидного кресла, она просто не может ходить. Я и сейчас не знаю, есть у нее эта болезнь или нет, но вот в таком состоянии она находится уже семнадцать лет.
ВРАЧ: Что ж, это другая крайность.
ПАЦИЕНТКА: Да, но хуже всего эти ее постоянные жалобы… А еще у меня есть одна невестка, так у нее очень чувствительные ногти на руках, а кроме того, ей очень трудно брить себе ноги и другие места… Терпеть не могу их бесконечное нытье, и я себе сказала, что буду жаловаться только тогда, когда совсем плохо станет.
ВРАЧ: У кого еще в вашем роду был такой характер? Ваши родители тоже были такими стойкими?
ПАЦИЕНТКА: Моя мать умерла в 49-м, и я всего два раза видела ее больной. В последний раз это была лейкемия, от нее она и умерла. Отца я помню плохо, но помню его именно больным во время эпидемии гриппа в 1918 году, он тоже тогда и умер, А больше я об отце почти ничего не знаю.
ВРАЧ: Получается, что жаловаться означает умирать; ведь оба они жаловались только перед смертью.
ПАЦИЕНТКА: Да, это верно, это так и есть.
ВРАЧ: Но мы видим и много других людей, которые говорят о своих болях и страданиях, но не умирают.
ПАЦИЕНТКА: Я это знаю. Эту мою невестку знает и священник…
СВЯЩЕННИК: В госпитализации г-жи Л. есть и другая сторона: ее очень уважают и любят другие пациенты. Она приносит утешение и комфорт другим.
ПАЦИЕНТКА: О, я не знаю…
СВЯЩЕННИК: И я иногда удивляюсь, неужели вам не хочется иметь кого-то, кому вы могли бы сами высказать свои чувства, кто утешал бы вас, а не только искал у вас утешения?
ПАЦИЕНТКА: Мне кажется, я не нуждаюсь в утешении. И тем более мне не нужна жалость, я не чувствую себя жалкой. Я чувствую себя так, будто нет ничего настолько плохого, чтобы нужно было жаловаться. Единственное, мне жаль моих несчастных врачей.
ВРАЧ: Как, вам их жаль? Вам не следует их жалеть хотя бы потому, что они не хотят вашей жалости!
ПАЦИЕНТКА: Я знаю, что они не хотят жалости, но когда я представлю себе, как они ходят по палатам и слышат и видят страдания и боли каждого пациента, я готова спорить, что на самом деле им хочется куда-нибудь сбежать. И всему персоналу тоже.
ВРАЧ: Иногда они так и делают.
ПАЦИЕНТКА: Так вот, я их за это не виню.
ВРАЧ: Вы говорили, что сотрудничаете с ними. Не бывает ли так, что вы утаиваете от них информацию, чтобы не перегружать их?
ПАЦИЕНТКА: Ну, нет. Мне кажется, я говорю им все, что на самом деле происходит, и это единственный способ позволить им работать. Как же они смогут кого-то лечить, если больной будет утаивать от них свои страдания?
ВРАЧ: У вас есть ощущение физического дискомфорта?
ПАЦИЕНТКА: Я чувствую себя прекрасно, но, конечно, мне бы хотелось делать все то, что мне хочется.
ВРАЧ: А что вам хочется?
ПАЦИЕНТКА: Встать и пойти прямо домой. И ходить сколько угодно.
ВРАЧ: А потом что?
ПАЦИЕНТКА: А потом… не знаю, что потом. Вероятно, легла бы отдохнуть (смеется). Но я действительно хорошо себя чувствую. Вот в настоящую минуту я не ощущаю нигде ни малейшей боли.
ВРАЧ: И такое состояние у вас со вчерашнего дня?
ПАЦИЕНТКА: Да, до вчерашнего дня у меня были эти покалывания, а теперь они прошли. Это не было так уж страшно, но все-таки меня немного беспокоило то, что последние недели две я не могла ходить по дому так свободно, как привыкла. Я заставляла себя ходить, хотя понимаю, что нужно было признаться себе в этом с самого начала, обратиться за помощью и быть внимательнее к себе, тогда не дошло бы до такой стадии, как теперь. Но я всегда думаю, что завтра станет лучше.
ВРАЧ: То есть вы предпочитаете ждать и надеяться, что все пройдет.
ПАЦИЕНТКА: Я жду и жду, пока не увижу, что лучше не становится. И тогда уже звоню.
ВРАЧ: Вы вынуждены принять это.
ПАЦИЕНТКА: Я вынуждена принять факты.
ВРАЧ: Как же вы представляете себе свои последние дни? Как вы будете их принимать?
ПАЦИЕНТКА: Я подожду, пока эти дни придут. Я надеюсь. Я вспоминаю, как я ухаживала за матерью, прежде чем ее забрали в больницу; я могу сказать, что она приняла это, когда оно пришло.
ВРАЧ: Она знала?
ПАЦИЕНТКА: Она не знала, что у нее лейкемия.
ВРАЧ: Не знала?
ПАЦИЕНТКА: Врачи велели мне не говорить ей.
ВРАЧ: Что вы об этом думаете? Какие у вас чувства по этому поводу?
ПАЦИЕНТКА: Я чувствую, что это было неправильно. Она-то врачу о себе все говорила. И мне кажется, что из-за своего неведения она мешала врачам работать. Она говорила им, что у нее боли в желчном пузыре, сама себя лечила от болезни желчного пузыря и принимала такие лекарства, которые в ее состоянии приносили только вред.
ВРАЧ: Как вы думаете, почему они не сказали ей?
ПАЦИЕНТКА: Да я и не знаю. Не понимаю. Я спрашивала врача, который сообщил мне о лейкемии, что случится, если она узнает, а он ответил только, что она не должна знать.
ВРАЧ: Сколько вам лет было тогда?
ПАЦИЕНТКА: Тогда я уже была замужем… Мне было около тридцати семи.
ВРАЧ: Но вы сделали так, как велел врач.
ПАЦИЕНТКА: Я сделала так, как велел врач.
ВРАЧ: И она умерла, фактически не зная, что происходит, по крайней мере, об этом не было разговора.
ПАЦИЕНТКА: Именно так.
ВРАЧ: В таком случае очень трудно судить о том, как она приняла это.
ПАЦИЕНТКА: Да, это верно.
ВРАЧ: А как лучше для пациента, по вашему мнению?
ПАЦИЕНТКА: О, я думаю, это очень индивидуально. Что касается меня, то мне легче, когда я знаю о себе правду.
ВРАЧ: Да. А ваш отец…
ПАЦИЕНТКА: Мой отец знал, что у него. У него была инфлуэнца. Я видела много пациентов, которые были серьезно больны, но не знали, что у них. Вот священник знает последнюю такую. Она знала, что у нее, но не знала, что умирает. Это была г-жа Дж. Она вела тяжелейшее сражение, она твердо намерена была вернуться домой вместе с мужем. Семья скрывала от нее ее критическое состояние, и она до конца ничего не подозревала. Может быть, для нее это и был лучший способ умереть, я не знаю. По-моему, все зависит от характера. Мне кажется, врачи должны уметь определять лучший способ для каждого конкретного пациента. Им легче оценить особенности того или иного больного.
ВРАЧ: Словом, они должны решать этот вопрос на индивидуальном уровне?
ПАЦИЕНТКА: Я считаю, да.
ВРАЧ: Все-таки нельзя обобщать. Нет, мы согласны с тем, что мы не умеем это делать. Чего же мы хотим добиться здесь? Мы хотим познакомиться с каждым пациентом и пытаемся понять, каким образом можно помочь человеку такого типа. Вот я думаю, что вы представляете собой бойцовский тип, вы будете сами делать все, что в ваших силах, до последнего дня.
ПАЦИЕНТКА: Да, я так и настроена.
ВРАЧ: И когда придет час встретить смерть, вы встретите ее лицом к лицу. Ваша вера очень помогает вам идти к этому с улыбкой.
ПАЦИЕНТКА: Я надеюсь, что так и будет.
ВРАЧ: К какому вероисповеданию вы принадлежите?
ПАЦИЕНТКА: Я лютеранка.
ВРАЧ: Что в вашей вере вам больше всего помогает?
ПАЦИЕНТКА: Не знаю. Я не могу это четко определить. Огромное облегчение мне приносит беседа со священником. Я даже звонила ему по телефону, чтобы поговорить с ним.
ВРАЧ: Когда у вас очень плохое настроение, чувство одиночества, никого нет рядом — что вы тогда делаете?
ПАЦИЕНТКА: Не знаю. По-моему, нужно делать все, что придет в голову.
ВРАЧ: Например?
ПАЦИЕНТКА: Например, последние несколько месяцев я включаю телевизор и смотрю викторину. Это позволяет забыть о своих проблемах. Это самый лучший способ. Потом смотрю что-нибудь еще или звоню своей невестке и расспрашиваю ее о младших.
ВРАЧ: По телефону?
ПАЦИЕНТКА: По телефону, не отрывая от домашних дел.
ВРАЧ: Что-нибудь готовите, какие-то поделки?
ПАЦИЕНТКА: Чем-нибудь занимаюсь, чтобы отвлечься от собственных мыслей. Время от времени я звоню священнику, просто чтобы получить небольшое моральное подкрепление. О своем состоянии я почти ни с кем не говорю. Когда я звоню, моя невестка обычно думает, что у меня хандра или я раздражена. Она даст мне поговорить с кем-нибудь из мальчишек или расскажет, что они вытворяют, вот и весь разговор.
ВРАЧ: Меня восхищает ваше мужество и то, что вы пришли на эту беседу. Знаете почему?
ПАЦИЕНТКА: Нет.
ВРАЧ: У нас все время бывают пациенты, мы каждую неделю приглашаем кого-нибудь из них на беседу; вы же, как я теперь убеждаюсь, таких бесед не любите, и все-таки вы согласились прийти, хотя и знали, что разговор будет именно на эти темы.
ПАЦИЕНТКА: Конечно, если я кому-то в чем-то могу помочь, я делаю это охотно. Можно сказать, насколько позволяет мне мое здоровье, мое физическое состояние. А я сейчас чувствую себя такой же здоровой, как и вы или наш священник. Мне не больно.
ВРАЧ: Я все-таки думаю, это замечательно, что г-жа Л. согласилась поговорить с нами. Это, в некотором смысле, серьезная услуга и помощь всем нам.
ПАЦИЕНТКА: Я надеюсь. Если я смогу быть еще чем-то полезна, я с удовольствием приду. Даже если я не смогу выписаться отсюда и работать как следует. Словом, вы меня всегда найдете. Быть может, мы с вами еще побеседуем. (Смеется.)
Г-жа Л. приняла наше предложение поделиться с нами своими тревогами, но у нее обнаружилось явное противоречие между полным признанием своей болезни и отрицанием ее. Лишь по окончании беседы мы начали немного понимать сущность этой двойственности. Она охотно идет на наш семинар, но не для того, чтобы поговорить о своей болезни и приближении смерти, а чтобы быть хоть чем-то полезной в ограниченных условиях госпитализации, когда у нее нет возможности нормально работать. «Пока я работаю, я живу» — таково ее убеждение. Она утешает других пациентов, но сама жестоко страдает оттого, что ей не на кого опереться. Она приглашает священника на конфиденциальную, почти тайную исповедь, но о своей депрессии и потребности в моральной поддержке упоминает в беседе лишь мимоходом, словно о чем-то случайном. Она заканчивает беседу словами: «Я чувствую себя такой же здоровой, как вы и священник», и это означает: «Я приоткрыла завесу, а теперь я опускаю ее».
В ходе беседы стало очевидно, что для нее жалобы равнозначны смерти. Ее родители никогда не жаловались и только перед смертью согласились с тем, что больны. Г-жа Л. должна работать и выполнять свои обязанности, если она хочет жить. Она становится глазами для своего слепнущего мужа и помогает ему отрицать постепенную утрату зрения. Когда он совершает какой-нибудь промах из-за плохого зрения, она тоже имитирует подобный промах, чтобы показать, что дело не в его глазах. Когда у нее депрессия, ей необходимо поговорить с кем-нибудь, но она не жалуется: «Кто жалуется, тот просидит в инвалидном кресле семнадцать лет!»
Понятно, что прогрессирующая болезнь со всеми сопутствующими ей страданиями — очень тяжелое испытание для пациента, который непоколебимо верит, что жалобы влекут за собой угасание и смерть.
Родные оказывали этой пациентке посильную помощь, давая ей возможность позвонить и поговорить «о чем-нибудь другом», посмотреть телевизор, чтобы отвлечься, позже ей поручали различные поделки, и это давало ей возможность почувствовать, что она «еще работает».
Когда подчеркиваются поучительные аспекты таких бесед, то пациенты, подобные г-же Л., позволяют себе поделиться собственной скорбью, не ощущая себя при этом беспомощными нытиками.
ГЛАВА XI.
РЕАКЦИЯ НА НАШИ СЕМИНАРЫ
Тагор, «Отбившиеся птицы», CCXCIII
- Ночная буря наградит утро сияющим венцом покоя.
Реакция персонала
К нашим семинарам персонал больницы, как уже упоминалось, относился с явным неодобрением, временами переходившим в открытую враждебность. Вначале было почти невозможно добиться от лечащих врачей разрешения на беседу с их пациентом. Этому всячески препятствовали даже студенты-медики и врачи-экстерны, еще больше упорствовали интерны, а к настоящим врачам нельзя было и подступиться. Складывалось впечатление, что чем выше квалификация врача, тем меньше он готов к участию в такой работе. Некоторые исследователи специально изучали отношение врачей к смерти и к умирающим. Мы не выясняли индивидуальных причин такого сопротивления, но наблюдали его множество раз.
Мы замечали также перемену отношения после того, как семинар все-таки проводился и присутствовавший на нем врач слышал мнение своих коллег и некоторых пациентов, допущенных в аудиторию. Приобщению врачей к нашей работе способствовали больничные священники и некоторые студенты, но самыми эффективными помощниками оказались, пожалуй, медсестры и няни.
Не случаен тот факт, что Сисили Сондерс, одна из самых известных медиков, посвятивших себя обслуживанию умирающих пациентов, начинала свою карьеру няней; сейчас она работает врачом по уходу за умирающими в специально для этого построенной больнице. Она подтвердила, что большинство пациентов знают о близкой смерти — независимо от того, сообщали ли им об этом. Она не чувствует никаких затруднений в обсуждении с ними этих вопросов, а поскольку не идет к ним с категорическими установками, то и не встречает особого сопротивления. Если они не желают разговаривать на эти темы, то она, разумеется, уважает их молчание. Она подчеркивает важность умения врача сидеть и слушать. И тогда, подтверждает она, большинство пациентов находят возможность сказать ей (и это бывает чаще, чем при любых других обстоятельствах!), что они знают, что с ними происходит, и под конец страх и недоверие у них почти исчезают. «Еще более важно, — говорит она, — чтобы люди, избравшие эту миссию, глубоко обдумали ее и сумели найти удовлетворение в деятельности, которая выходит за рамки обычной медицинской работы. Если они сами верят в эту деятельность и испытывают от нее настоящую радость, то своим отношением они помогут пациенту больше, чем любыми словами».
На Хинтона не менее сильное впечатление произвели прозорливость и уровень осознания у представленных ему больных терминальной стадии, а также их мужество перед лицом собственной смерти, которую они почти всегда встречали спокойно.
Я привожу эти два примера потому, что в них ярко отражено отношение обоих исследователей к пациентам, чьи реакции они описывают.
Среди нашего персонала мы выделили две подгруппы врачей: одни способны были спокойно слушать и обсуждать вопросы, связанные с раком, с близкой смертью или с диагнозом обычно смертельной болезни; другие — эта подгруппа была меньше численностью и состояла из врачей старшего возраста — принадлежали к предыдущему поколению, воспитанному, как мы предполагаем, в более гуманистической атмосфере, которая формировала у врачей серьезную заботу об умирающих, но не поощряла использование защитных механизмов и эвфемизмов и представляла смерть как чистую реальность. Врачи этой старой школы сейчас успешно работают в более научных отраслях медицины. Своим пациентам они прямо говорят о серьезности болезни, но не отнимают у них надежду. Такие врачи оказываются полезными и для своих пациентов, и для наших семинаров. Правда, мы с ними относительно мало сотрудничали — не только потому, что они представляют собой редкие исключения, но и потому, что их пациенты обычно находятся в хорошем состоянии и редко нуждаются в дополнительной помощи.
В среднем девять из десяти врачей с недовольством, раздражением и даже явной или скрытой враждебностью встречали наше предложение поговорить с одним из их пациентов, Одни ссылались на плохое физическое или эмоциональное состояние пациента и использовали это как повод для отказа, другие монотонно отрицали наличие у них пациентов терминальной стадии. Некоторые впадали в гнев, когда их пациенты просились на беседу с нами; тем самым они выдавали собственную несостоятельность в работе с больными. Если одни врачи нам просто отказывали, то другие — в подавляющем большинстве — рассматривали свое вымученное согласие на беседу как великое к нам снисхождение. И очень нескоро ситуация изменилась настолько, что некоторые из них стали сами обращаться к нам с просьбой поговорить с одним из их пациентов.
Г-жа П. была типичным объектом сумятицы, которую наши семинары нередко вызывали среди врачей. Больная была сильно обеспокоена многими аспектами своей госпитализации. Она испытывала острую потребность высказать свое недовольство и отчаянно пыталась выяснить, кто же ее лечащий врач. Случилось так, что в больницу она поступила в конце июня, когда происходят самые интенсивные перемены в составе больничного персонала; и едва только она успела познакомиться со своей «командой», как пришли новые, молодые врачи и все поменялось. Один из новых, бывавший ранее на наших семинарах, заметил ее смятение, но совершенно не мог уделить ей времени, так как был все время занят изучением своих обязанностей, знакомством с отделением, коллегами и начальством. Когда я обратилась к нему с предложением провести беседу с г-жой П., он сразу согласился. Через несколько часов после этого семинара его новый начальник, постоянный врач, загнал меня в угол людного вестибюля и принялся громко и сердито отчитывать, особенно напирая на то, что «это уже четвертая подряд пациентка, которую вы выбираете в моем отделении». Он не чувствовал ни малейшего смущения, выкрикивая свои обвинения перед посетителями и пациентами, еще меньше заботился он о соблюдении уважения к старшему члену коллектива. Было очевидно, что он вне себя от ярости, вызванной вторжением, а также тем фактом, что его подчиненные позволяют себе давать согласие на беседу, не испросив вначале его разрешения.
Он не задумался над тем, почему столь многие его пациенты так тяжело воспринимают свою болезнь, почему его подчиненные избегают спрашивать у него разрешения и почему даже вопросы на эти темы для его пациентов немыслимы. Чуть позже он объявил своим интернам, что отныне им запрещается беседовать с кем бы то ни было из пациентов о серьезных аспектах их болезни, а тем более разрешать им встречи с нами. Он упомянул о своем уважении, даже восхищении нашей работой с умирающими, — но сам он не имеет к этому никакого отношения, как и его пациенты, большинство из которых были неизлечимо больны.
Другой врач вспоминает эпизод, свидетелем которого он был, когда я вернулась в свой кабинет после особенно трогательной эмоциональной беседы. В кабинете меня ожидали священники и старшие медсестры, всего человек шесть, и в этот момент в телефонном селекторе раздался резкий голос: «Как у вас хватило совести разговаривать с г-жой К. о смерти, если она даже не знает, насколько она больна, и собирается выписываться?» Когда ко мне вернулось самообладание, я рассказала ему содержание нашей беседы. Эта женщина попросила дать ей возможность поговорить с кем-нибудь, кто не занимался непосредственно ее лечением. Она хотела рассказать кому-нибудь из медицинского персонала, что она знает, что дни ее сочтены. Вместе с тем она еще не была готова воспринять это полностью и окончательно. Она попросила нас сделать так, чтобы ее врач (тот самый, который кричал по селектору) дал ей хотя бы намек, когда ее конец будет близок, и чтобы он не играл с ней в прятки, ведь потом будет поздно. Она всецело доверяла ему, но ей было очень тяжело из-за того, что она не может открыть ему свою осведомленность относительно фатальной ситуации.
Когда этот врач понял, что мы делаем (это оказалось совсем не то, что он себе представлял!), его гнев сменился любопытством, и он даже согласился прослушать магнитофонную запись беседы с г-жой К.; эта беседа фактически оказалась мольбой его пациентки… к нему же.
Невозможно было придумать более убедительного урока для гостей в моем кабинете, чем это телефонное вторжение разгневанного врача: именно он продемонстрировал им, какие неожиданные эффекты возникают в результате наших семинаров.
С самого начала моей работы с умирающими пациентами я заметила отчаянное стремление больничного персонала отрицать существование больных терминальной стадии в их отделении. Как-то я провела в одной больнице много часов в поисках подходящего для беседы пациента, но всюду слышала одно и то же: здесь нет смертельно больных, с которыми можно было бы разговаривать. Уже возвращаясь, я заметила старика, который читал в газете статью под крупным заголовком: «Старые солдаты никогда не умирают». Он выглядел серьезно больным, и я спросила его, не боится ли он читать «об этих вещах». Он сердито взглянул на меня и пробормотал: «Вы, видно, из тех врачей, которые заботятся о пациенте лишь до тех пор, пока он чувствует себя хорошо. А когда ему приходит время умирать, вы все в страхе разбегаетесь». Это был мой человек! Я рассказала ему о моих семинарах, посвященных умирающим и подготовке к смерти (Я проводила такие семинары, как введение в психиатрию, когда еще не занималась работой, описанной в этой книге), и о моем желании найти пациента, который согласится на интервью перед студентами — чтобы они учились не разбегаться в страхе перед такими больными. Он с радостью согласился прийти и дал нам одно из самых незабываемых интервью, которые мне доводилось слушать.
Вообще, врачи наиболее неохотно присоединялись к нашей работе; сначала они направляли к нам своих пациентов, позже сами начинали посещать семинары. Те из них, кто сделал этот шаг, оказали нам большую помощь; обычно их интерес к этой деятельности неуклонно нарастал. Необходимы и мужество, и смирение, чтобы присутствовать на семинаре, где не только сидят медсестры, студенты и социальные работники, с которыми они вместе работают, но где им не раз приходится выслушивать откровенные высказывания о той роли, которую они играют в жизни или в представлениях их пациентов. Те, кто боится услышать, что думают о них другие, конечно же, будут избегать посещения таких собраний — не говоря уже о том, что мы обычно обсуждаем запретные темы, которые не принято обсуждать публично ни с пациентами, ни с персоналом. Те, кто все-таки приходят на наши семинары, неизменно удивляются тому, как много можно узнать из рассказов пациентов, из наблюдений и оценок других людей; в итоге они признают, что эти необычные занятия дают им и новое видение, и новые силы для работы.
Самым трудным для врача оказывается первый шаг. Но если он открыл дверь, прислушался к тому, что мы делаем (а не рассуждал о том, что мы можем делать), или даже принял участие в семинаре, то почти наверняка он уже не уйдет. За период около трех лет мы провели более двухсот интервью. За это время у нас на семинарах побывало, проездом через Чикаго, множество врачей из-за границы, из Европы, с Западного и Восточного побережий США, но лишь два медицинских сотрудника нашего собственного университета почтили нас своим присутствием. Я понимаю, что куда легче говорить о смерти и подготовке к ней, когда речь идет о чьем-то пациенте и на это можно смотреть как на пьесу в театре, чем оказаться настоящим участником драмы.
Младший персонал более четко разделился по своей реакции. Вначале они встречали нас точно так же сердито, иногда с совершенно нетерпимыми замечаниями. Некоторые обзывали нас стервятниками и давали понять, что наше присутствие в отделении недопустимо. Но были и такие, кто приветствовали нас с радостью и облегчением. Их мотивы были самыми разнообразными. Они были недовольны тем, как некоторые врачи сообщают пациентам о серьезности болезни; они злились на врачей за то, что те избегают трудного разговора или не допускают их к совещаниям. Они злились из-за массы ненужных анализов, сделать которые врачи поручали им, лишь бы избавиться от общения. Они чувствовали собственное бессилие перед лицом смерти, и, когда убеждались в том, что и врач столь же бессилен, их злость возрастала непомерно. Они обвиняли врачей за то, что те не способны признать, что ничем не могут помочь пациенту и назначают ему анализы лишь для того, чтобы доказать, что кто-то что-то делает. Их угнетал дискомфорт и беспорядок в работе с членами семьи пациента, избегать встреч с которыми им значительно труднее, чем врачам. Их сочувствие к пациентам и желание помочь были сильнее, но вместе с тем сильнее были и ограничения, и чувство беспомощности.
Многие медсестры сознавали свою неподготовленность в этой сфере, недостаток даже простого инструктажа о поведении в кризисных стадиях. Они с большей готовностью, чем врачи, признавали наличие противоречий и нередко превосходили все наши ожидания, стремясь присутствовать на семинарах хотя бы по очереди и организуя для этой цели график дежурств по отделению. Их отношение к нам изменялось намного быстрее, чем у врачей, и они без колебаний раскрывались в дискуссиях, как только видели, что честность и откровенность у нас ценятся больше, чем социально обусловленная слащавость в общении с пациентами, членами их семей и коллегами. Если один из врачей рассказывал нам о том, что пациент растрогал его почти до слез, то от сестер и нянь скорее можно было услышать, как они избегают заходить в палату безнадежно больной, чтобы не видеть на тумбочке фото ее маленьких детей.
Они охотно рассказывали о своих истинных интересах, о противоречиях и способах их разрешения, когда видели, что их рассказы используются для анализа конфликтной ситуации, а не для осуждения ее участников. Столь же охотно они поддерживали врача, который имел мужество выслушать мнение пациента о себе, но очень быстро научились улавливать момент, когда врач переходит к самозащите, а вместе с тем стали критически оглядываться и на собственные защитные приемы.
В этой больнице было одно отделение, где больные терминальной стадии большую часть времени оставались одни. Старшая медсестра организовала специальное собрание персонала, чтобы разобраться в этой нелегкой задаче. Мы все собрались в небольшой аудитории, и каждой сестре и няне был задан вопрос о том, как она представляет свою роль в работе с терминально больными пациентами. Старшая сестра первая нарушила ледяное молчание и высказала свое возмущение «пустой тратой времени на этих пациентов». Она указала на вполне реальную нехватку младшего персонала и закончила «полной абсурдностью траты драгоценного времени на людей, которым уже ничем не поможешь».
Одна из младших добавила, что ей всегда очень плохо, когда «эти люди умирают на моих руках», другая особенно возмущалась тем, что «они умирают на моих руках, хотя при этом присутствуют члены их семьи», или от нее требуется «просто взбить подушку». И лишь одна из двенадцати сестер считала, что умирающим пациентам тоже нужна их забота и что, когда, казалось бы, ничем уже помочь нельзя, сестры могут обеспечить хоть какой-то физический комфорт. В общем, собрание обернулось откровенной манифестацией их отвращения к такого рода работе, смешанного с чувством гнева, как будто пациенты совершают по отношению к ним враждебный акт, умирая в их присутствии.
Вместе с тем эти сестры начали понимать причины своих чувств, у них появилось восприятие умирающих пациентов как страдающих людей, которые нуждаются в хорошем уходе не меньше, чем их более здоровые соседи по палате.
Постепенно отношение менялось. Многие из них усвоили роль, которую мы демонстрировали на семинарах. Теперь они не испытывали дискомфорта, когда пациент начинал расспрашивать их о своем будущем. Они уже не так боялись оставаться с больным терминальной стадии и не колеблясь шли к нам, чтобы рассказать о своих проблемах с особо трудными больными, посоветоваться, как себя с ними вести. Иногда они приводили к нам или к священнику родственников больного, организовывали совещания сестер, где обсуждали общие вопросы ухода за пациентами. Для нас они были одновременно и студентами, и учителями и существенно обогатили наши семинары. Особой благодарности заслуживает административный и руководящий персонал: одни поддержали наши семинары с самого начала и даже позаботились о нашем комфорте, другие нашли время присутствовать на беседах с больными и на обсуждениях.
Социальные работники, врачи-специалисты по трудовой терапии, ингаляционной терапии — хотя их было немного — также сыграли заметную роль и превратили наши занятия в настоящие междисциплинарные мастерские. Позже к нам стали приходить добровольцы — они читали пациентам, которые не могли справиться с книгой. Трудотерапевты помогли многим пациентам освоить небольшие художественные или ремесленные поделки, и это поддерживало больных в мысли, что они еще способны работать. Из всего персонала, привлеченного к нашей программе, социальные работники, пожалуй, меньше других проявили себя в ситуациях с кризисными больными. Возможно, это объясняется их большой нагрузкой по работе с живыми, поэтому у них не остается ни сил, ни времени для умирающих. Деятельность социального работника обычно связана с уходом за детьми, с финансовыми вопросами, иногда с домами престарелых и инвалидов, а также, не в последнюю очередь, с конфликтующими родственниками, поэтому смерть для него не столь актуальна, как для других работников служб помощи, которые имеют дело непосредственно с умирающими и чье участие заканчивается со смертью пациента,
Книга по междисциплинарному исследованию проблем ухода за умирающими пациентами была бы неполной без нескольких слов о роли больничного священника. Именно к нему чаще всего обращаются, когда пациент находится в критическом состоянии, когда умирает, когда его семья переживает трудности восприятия плохой новости или когда лечащая группа просит его выступить в роли посредника. В продолжение первого года я вела свою работу без участия духовных лиц. С их появлением семинары изменились коренным образом. Тот первый год был невероятно трудным по многим причинам. Ни меня, ни мою работу никто не знал, поэтому я наталкивалась на очень сильное и вполне понятное сопротивление, не говоря уже об объективных трудностях моего предприятия. У меня не было ни средств, ни достаточного знакомства с персоналом, чтобы правильно определять, к кому стоит обращаться, а кого следует избегать. Это выяснилось лишь постепенно, методом бесчисленных проб и ошибок, после того как я одолела несколько сот километров по больничным коридорам и галереям. Если бы я не ощущала огромного положительного отклика от пациентов, я давно уже сдалась бы.
В конце одного из особенно бесплодных дней я очутилась в кабинете больничного священника. Я была измотана, подавлена и сама нуждалась в помощи. В тот вечер священник рассказал мне о своих затруднениях с пациентами и о собственной подавленности; он тоже нуждался в помощи. И мы решили, что отныне объединим свои усилия. У него уже был список критически больных пациентов и даже первые контакты с некоторыми из них. Поиск закончен, дело было за отбором наиболее нуждающихся в помощи.
Среди многих присутствовавших на семинарах капелланов, раввинов, кюре и других духовных особ я редко встречала таких, кто избегал бы дискуссии или проявлял враждебность и даже гнев; намного чаще я наблюдала это у других представителей профессий и служб помощи. Зато меня очень удивляли те священники, которые чувствовали себя вполне комфортно, читая умирающим молитвенник или отрывки из Библии, и это была единственная их связь с пациентом; они таким способом избегали рассказов пациента о его нуждах и вопросов, на которые они не могли или не хотели отвечать.
Многим из них уже сотни раз приходилось посещать умирающих, но лишь на семинаре они впервые по-настоящему столкнулись с вопросами смерти и предсмертного состояния. Они бывали глубоко заняты похоронными процедурами, своей ролью в течение и после похорон, но испытывали большие трудности в живом общении с умирающим человеком.
Они часто пользовались распоряжением врача «не говорить» или неизменным присутствием члена семьи как предлогом, чтобы не вступать в настоящее общение с умирающими пациентами. И лишь в результате неоднократных дискуссий они начинали понимать собственную уклончивость перед лицом конфликта, сознавать использование Библии, родственников или указаний врача как извинение или объяснение своей отчужденности.
Быть может, наиболее впечатляющую и поучительную перемену в своем отношении к пациентам продемонстрировал нам один из студентов-богословов, который регулярно посещал классы и оказался глубоко увлеченным нашей работой. Однажды перед вечером он вошел в мой кабинет и попросил меня поговорить с ним наедине. Он провел мучительную неделю в состоянии крайней паники, связанной с возможностью собственной смерти. У него сильно увеличились лимфатические узлы, и он был направлен на биопсию для проверки на возможную злокачественность. Он пришел на следующий семинар и поделился с группой собственными переживаниями на стадиях шока, смятения и неверия, через которые он прошел за эти дни, когда ярость сменялась депрессией, надежда — тревогой и ужасом. Он очень выразительно сравнил свои попытки справиться с кризисом с тем достоинством и самообладанием, которые он наблюдал у наших пациентов. Он рассказал, каким утешением и поддержкой для него было понимание со стороны жены; он описал реакцию их маленьких детей, которые слышали часть разговора родителей. Он рассказал нам это все очень реалистично и дал всем почувствовать разницу между состоянием наблюдателя и состоянием самого пациента.
Этот человек теперь никогда не произнесет пустых слов перед умирающим. Его отношение изменилось не благодаря семинарам, а благодаря его индивидуальному опыту, когда он оказался перед непосредственной угрозой собственной смерти, и это произошло как раз в то время, когда он учился вести себя перед лицом близкой смерти своих подопечных.
Работа с персоналом показала нам, что существует ожесточенное сопротивление нашей деятельности, что необоснованная враждебность и злость порой переходят всякие границы, но… это отношение можно изменить. Как только группа поймет причины своего упорства и научится осознавать и анализировать конфликты, она становится живительным источником не только для самочувствия пациентов, но и для духовного роста и понимания других участников. Где велики преграды и страх, там столь же велика и потребность. Быть может, по этой причине стали теперь намного богаче плоды нашего труда: столько тяжелой земли вскопано, сколько труда вложено в обработку почвы!
Реакция студентов
Большинство студентов, записавшихся на наш курс, не очень хорошо представляли себе, что их ожидает, либо слышали от других лишь о некоторых импонирующих им деталях нашей работы. Большинство из них считали, что им необходимо «повидать настоящих пациентов», прежде чем брать на себя ответственность за их лечение. Они узнали, что интервью проводятся за зеркальным стеклом и что многим студентам это помогает «привыкнуть к процессу» задолго до того, когда придется сесть и слушать настоящего пациента.
Немало студентов (мы узнали об этом позже в ходе дискуссий) записались на наш курс в связи с некоторыми неразрешенными конфликтами в их личной жизни — смертью любимого или небезразличного человека. Некоторые просто хотели овладеть техникой интервью. Почти все студенты утверждали, что они пришли, чтобы глубже познакомиться со сложными проблемами, возникающими в период приближения смерти; лишь некоторые из них говорили искренне. На первом занятии было немало и самоуверенных студентов, которые пришли лишь затем, чтобы удалиться из класса еще до окончания интервью. Многим понадобилось несколько попыток, прежде чем они сумели выдержать до конца интервью и последующую дискуссию, и все же для них было потрясением, когда один из пациентов попросил провести интервью прямо в классной комнате, а не за зеркальным стеклом.
Требовалось не менее трех полных занятий, чтобы они свыклись с атмосферой и начали обсуждать собственные реакции и чувства прямо перед группой; нередко дискуссия продолжалась еще долго после окончания занятий. Был один студент, который неизменно выискивал какую-то мелкую деталь в интервью и разводил вокруг нее целый диспут в группе, пока его товарищи не предположили, что это у него, видимо, своеобразный способ уклоняться от истинной проблемы — близкой смерти пациента. Другие могли спокойно говорить только о медико-технических проблемах или об организации медицинских служб, но чувствовали себя очень некомфортно, когда социальный работник рассказывал об отчаянии молодого мужа с маленькими детьми. Когда одна из сестер подняла вопрос о целесообразности некоторых процедур и анализов, студенты-медики сразу же приняли сторону назначившего их врача и стали защищать его. И тогда один из студентов задал вопрос как бы сам себе: а была бы его реакция такой же, если бы пациентом оказался его отец, а сам он назначал процедуры и анализы? Внезапно студенты различных факультетов стали осознавать смысл и величину проблем, встающих перед некоторыми врачами; они не только лучше оценили роль пациента, но увидели также ответственность отдельных членов лечащей группы и конфликтные отношения между ними. Постепенно у студентов возрастало взаимное уважение и понимание работы коллег; группа перешла к настоящему обсуждению проблем на междисциплинарном уровне.
Из первоначального бессилия, беспомощности и обыкновенного страха вырастало ощущение коллективного мастерства, овладения всеми аспектами проблемы и вместе с тем осознание собственной роли в этой психодраме. Каждый должен решать встающие перед ним вопросы, включаться в работу, иначе коллега из группы укажет ему на его уклонение. Таким образом каждый из участников старался выработать собственное отношение к смерти, постепенно она становилась знакомой и для него, и для группы. Поскольку каждый член группы проходил через одинаковый, болезненный, но поучительный процесс, то это облегчало задачу каждого, подобно тому как при групповой психотерапии решение чьей-то индивидуальной проблемы помогает каждому наилучшим образом справиться с собственными конфликтами. Открытость, честность и готовность принять новое создали атмосферу, в которой индивидуальный опыт каждого становится достоянием всей группы.
Реакция пациентов
В противоположность персоналу, пациенты относились к нашим визитам с пониманием и явным одобрением. Менее 2% всех пациентов, которым предлагалась беседа на нашем семинаре, отказались категорически, и лишь одна пациентка из двух с лишним сотен не стала и разговаривать о страхе смерти, о серьезности ее болезни, не стала обсуждать проблемы, возникшие на терминальной стадии. Этот тип поведения пациента описан подробно в главе III об отрицании.
Все остальные пациенты радовались возможности поговорить с человеком, которому они не безразличны. Почти все они тем или иным способом проверяли нас, чтобы удостовериться, что мы действительно хотим побеседовать с ними о последних часах их жизни и о последней помощи им. Большинство пациентов приветствовали разрушение их защиты, они испытывали облегчение, убедившись, что им больше нет нужды играть в пустые, поверхностные разговоры в то время, когда в глубине души их терзают вполне естественные или мнимые страхи. Для многих из них первая встреча с нами была равнозначна прорыву плотины: они бурно изливали скованные ранее чувства и в дальнейшем отвечали на наши вопросы охотно и с большим облегчением.
Некоторые пациенты откладывали встречу, предлагая нам прийти и посидеть с ними на следующий день или через неделю. Тем, кто хочет заниматься этой деятельностью, необходимо помнить, что такой «отказ» вовсе не означает: «Нет, я не хочу об этом говорить». Он означает только: «Я еще не готов открыть душу, я не готов поделиться своими переживаниями». Если вы не прекратите визиты после такого отказа, а будете периодически навещать пациента, он вскоре даст понять, что готов к разговору. Когда пациенты знают, что кто-то готов прийти к ним в любой момент, то сами выбирают наиболее подходящее время. Такие пациенты не раз впоследствии благодарили нас за наше терпение и рассказывали о той внутренней борьбе, которую они выдержали, прежде чем смогли выразить словами свое желание.
Многие пациенты никогда не употребляют слов «смерть» или «умирать», но постоянно говорят на эти темы в завуалированном виде. Чуткий врач может отвечать на их вопросы и обеспокоенность, также не употребляя этих слов, и таким способом окажет большую помощь этим пациентам (многочисленные примеры приведены в историях г-жи А. и г-жи К., гл. II и III),
Если мы хотим знать, чем наши визиты так важны и благотворны для столь многих умирающих пациентов, почему они так охотно делятся с нами своими переживаниями, то нам следует внимательно прислушаться к их ответам на этот вопрос. Многие пациенты ощущают совершенную свою бесполезность, безнадежность, невозможность найти хоть какой-то смысл в этой последней стадии существования. Нескончаемые, монотонные дни и ночи, нескончаемое ожидание — обхода врачей, процедур облучения, прихода сестры с лекарствами… И вот это однообразие нарушают посетители; они как бы встряхивают пациента, они по-человечески интересуются его состоянием, реакциями, его надеждами и горестями. Кто-то даже пододвинет стул и сядет рядом. Кто-то действительно слушает и никуда не спешит, говорит не эвфемизмами, а конкретно и напрямик, простыми словами, о самой сути именно тех вещей, которые, как ни старайся их подавить и забыть, снова и снова бередят сознание. Кто-то пришел и разрушил монотонность, одиночество, бесцельное, мучительное ожидание.
Есть в этом и другая сторона, быть может еще более важная, — чувство, что их сообщения могут быть для кого-то полезными и значительными, потребность служения именно в тот период, когда им кажется, что они уже никому на свете не нужны. Не один пациент говорил нам: «Я хотел бы хоть какую-то пользу принести. Я отдал бы кому-нибудь свои глаза или почки, ведь лучше сделать это, пока я еще жив».
Некоторые пациенты использовали наши семинары для своеобразного испытания собственной силы. Они нередко обращались к нам с проповедями, говорили о своей вере в Бога и готовности принять Его волю, а на лице их был написан страх. Другие, обладавшие настоящей верой, которая дала им силу принять конец жизни, с гордостью рассказывали об этом группе молодых людей, в надежде что это не забудется. Наша оперная певица, у которой злокачественная опухоль поразила лицо, попросила нас позволить ей выступить в нашем классе с концертом — это была ее последняя просьба перед тем, как вернуться в отделение, где ей должны были удалить все зубы перед лучевой терапией.
Все это я рассказываю для того, чтобы подчеркнуть, что отклик пациентов был единодушным и положительным, а мотивация и причины — разными. Было немного и таких пациентов, которым хотелось отклонить наше предложение, но они боялись, что такой отказ может повлиять на качество дальнейшего лечения. И, конечно, значительно больше было таких, кто пользовался случаем излить свою злость на больницу, персонал, семью или вообще на весь мир за свое одиночество и изоляцию.
Жить взаймы, на выпрошенное время, тоскливо ожидать обхода врачей, ожидать времени для посещений, ожидать появления сестры или няни, надеясь чуточку поболтать, просто сидеть и смотреть в окно… Так многие больные терминальной стадии проводят свое время. Можно ли удивляться, что такая пациентка заинтересуется странным посетителем, который хочет поговорить с ней о ее чувствах, о ее реакции на такое положение вещей? Кому это охота сидеть и выслушивать желания, фантазии и страхи, накопившиеся у нее за долгие дни и ночи одиночества? Быть может, это и все, что могут дать наши семинары таким пациентам, — немного внимания, немного «трудотерапии», нарушение монотонности, цветовое пятно на белизне больничных стен. Но внезапно они встряхиваются, поднимаются, садятся в кресло-каталку, начинают расспрашивать, будут ли записаны на магнитофон их ответы, для них очень важно, что их слушает группа заинтересованных людей. Возможно, именно это внимание помогает, приносит луч света, смысл и даже надежду в жизнь терминально больного пациента.
Вероятно, лучшим показателем принятия и одобрения пациентами такой работы является тот факт, что они радовались нам при следующих встречах, и наш диалог продолжался до конца госпитализации. Большинство выписанных пациентов поддерживали контакты с нами по собственной инициативе — звонили по телефону в серьезных или кризисных ситуациях. Г-жа У. позвонила мне, чтобы поделиться своей радостью и чувством облегчения в связи с тем, что ее врачи, д-р К. и д-р П., звонили ей домой и справлялись о ее самочувствии. Ее желание поделиться с нами хорошей новостью является, очевидно, показателем близости и доверия в подобного рода неформальных, но важных отношениях. Она сказала: «Если я буду лежать на смертном одре и рядом со мной будет хотя бы один из них, я умру с улыбкой». Это показывает, как важны такие отношения, как самое незначительное выражение заботы становится драгоценным посланием.
Подобным же образом г-н Е. рассказывал о враче Б.: «У меня было такое отчаяние, что я хотел выписаться. Никакого внимания, никакой человеческой заботы. Каждый день приходят эти интерны, протыкают мне вены и уходят, им нет никакого дела до того, что постель и белье на мне сбились, дискомфорт… А потом как-то пришел д-р Б. и вынул иголки так аккуратно, что я даже не заметил этого. Затем он надел бандаж и показал мне, как его снимать, чтобы не было больно; никогда раньше никто этого не делал!» Г-н Е. (молодой отец трех маленьких детей, у него была острая лейкемия) сказал, что это было самое важное событие за время его пребывания в больнице.
Часто пациенты реагируют с неуемной благодарностью в адрес тех, кто о них заботится и уделяет им хотя бы лишнюю минуту сверх положенного времени. Они лишены этой доброты в напряженном мире датчиков и цифр, поэтому не удивительно, что даже легкое касание человечности вызывает у них бурный отклик.
Во времена неуверенности, водородных бомб, огромных масс и потоков маленький личный дар снова приобретает большое значение. Дар этот обоюдный: от пациента — в форме помощи, вдохновения и ободрения тем, кто находится в подобной ситуации; от нас — в форме нашей заботы, нашего времени и нашего желания передать другим то, чему научили нас пациенты в конце своей жизни.
Последней причиной положительного отклика пациентов является, возможно, потребность умирающего оставить что-то после себя, хотя бы маленький дар, создать некую иллюзию бессмертия. Мы высказываем нашу благодарность им за то, что они поделились с нами своими размышлениями на эту запретную тему, мы говорим им, что они должны учить нас помогать тем, кто последует за ними, и так создается представление о чем-то неумирающем, об идее, о постоянно действующем семинаре, где их предположения, фантазии и мысли продолжают жить, обсуждаться, обретают в некотором смысле бессмертие.
Умирающий пациент устанавливает канал связи: с одной стороны, он пытается оградить себя от человеческих отношений, чтобы в час последнего расставания его удерживало как можно меньше уз; с другой стороны, он не способен выполнить эту задачу без внешней помощи, без человека, который разделит с ним его противоречия.
Мы говорим о смерти — на социально запретную тему — честно и просто, открывая тем самым возможность для самых разнообразных дискуссий, допуская и полное отрицание, когда это представляется необходимым, и откровенный разговор о страхах и раздумьях пациента, если он этого желает. Тот факт, что мы не пользуемся отрицанием, что мы свободно употребляем слова «смерть» и «умирать», вызывает, возможно, наибольшее одобрение у многих наших пациентов.
Если попытаться коротко подытожить то, чему эти пациенты нас научили, то главным, на мой взгляд, будет тот факт, что все они осознают серьезность своей болезни, независимо от того, информировали их об этом или нет. Они не всегда делятся этим знанием со своим врачом или ближайшим родственником. Причина в том, что думать о жестокой действительности очень больно, и любое явное или неявное предложение не говорить на эту тему воспринимается и охотно — на данный момент — принимается пациентом. Однако приходит время, когда каждый из наших пациентов ощущает потребность поделиться своими душевными терзаниями, сбросить маску, взглянуть в лицо реальности и позаботиться о важных вещах, пока еще есть время. Они приветствуют прорыв в их защите, они с благодарностью воспринимают наше желание поговорить с ними об их близкой смерти и незавершенных делах. Они хотят поделиться с понимающим человеком некоторыми своими чувствами, особенно чувствами гнева, ярости, зависти, вины и изоляции. Они откровенно подтверждают, что применяли отрицание потому, что этого ожидали от них врачи или близкие, от которых больные зависят и с которыми стремятся сохранить отношения. Пациенты не слишком обижаются, когда персонал утаивает от них прямые факты, но возмущаются, когда с ними обращаются как с детьми или не считаются при принятии важных решений. Все они улавливают перемену в поведении и отношении окружающих, когда поставлен диагноз о злокачественности болезни, и осознают серьезность своего состояния по этой перемене. Другими словами, тот, кому не говорят прямо, узнает правду в любом случае — из неявных посланий и непривычного поведения персонала и родственников. Те же, кому сказали открыто, почти всегда принимают этот способ с пониманием и одобрением, за исключением тех случаев, когда новость сообщается грубо, без подготовки, где-то в коридоре на бегу, или же в такой манере, которая не оставляет надежды.
Все наши пациенты реагировали на плохую новость почти одинаковым образом, типичным не только для новостей о фатальной болезни, но и вообще для человеческой реакции на сильный неожиданный стресс: шоком и недоверием. Отрицание демонстрировали практически все наши пациенты, и продолжалось оно от нескольких секунд до нескольких месяцев — это показано в некоторых интервью, приведенных в этой книге. Это отрицание никогда не бывает тотальным. Вслед за отрицанием нарастает и доминирует гнев, даже ярость. Он выражается множеством способов, чаще всего в форме зависти к тем, кто живет и работает. Такой гнев частично оправдан и подкрепляется реакциями персонала и семьи, иногда почти иррациональными, а также повторением давних (отрицательных) переживаний, как показывает история сестры И. (глава IV), Если окружающие способны воспринять этот гнев не как личные претензии, то смогут существенно помочь пациенту достичь переходного этапа торговли, за которым следует депрессия, являющаяся, в свою очередь, ступенькой к заключительному смирению. На диаграмме показано, как эти этапы не просто сменяют друг друга, но перекрываются и некоторое время сосуществуют. Заключительное смирение достигается многими пациентами без посторонней помощи, другие же нуждаются в сопровождении на отдельных или на всех этапах — для того, чтобы умереть спокойно и с достоинством.
На любой стадии болезни и независимо от используемых механизмов помощи, все наши пациенты сохраняли некоторую надежду до последних минут. Те из них, кому фатальный диагноз был сформулирован беспощадно, без шанса на спасение, реагировали наиболее тяжело и не могли до конца простить человеку, который сообщил им эту весть таким жестоким способом. Так или иначе, все наши пациенты сохраняли надежду, и нам нельзя забывать об этом! Надежда на новое открытие, на находку в исследовательской лаборатории, на новое лекарство или сыворотку, на чудо Господне, на то, что патологические анализы или рентгеновские снимки перепутаны и на самом деле принадлежат другому пациенту, на самопроизвольную естественную ремиссию (так ярко описанную г-ном Дж., см. главу IX)… Надежду всегда нужно поддерживать, независимо от того, согласны мы с ее формой или нет.
Хотя наши пациенты с готовностью и большой охотой делились с нами своими несчастьями и свободно разговаривали о смерти и о подготовке к ней, они же по-своему давали понять, когда следует сменить тему и обратиться к более приятным вещам. Все они соглашались с тем, что излить свои чувства очень полезно и благотворно и что время и продолжительность таких бесед лучше выбирать им самим.
Первые конфликты и реакции сопротивления научили нас в определенной мере предвидеть, какие защитные механизмы будет преимущественно использовать пациент во время кризиса. Простые малообразованные люди без премудростей, без важных общественных связей и профессиональных обязательств испытывают, как правило, меньше затруднений в период финального кризиса, чем люди влиятельные, которым приходится намного больше терять в смысле материального комфорта, роскоши и личных связей.
Оказывается, те, кто прожили жизнь тяжелую, исполненную труда и страданий, кто воспитали детей и нашли удовлетворение в своей работе, принимают смерть спокойно и с достоинством намного легче, чем те, кто амбициозно управляли окружающими, накапливали материальные блага и социальные связи, пренебрегая более важными личностными связями, которые могли бы послужить в конце жизни. Подобный пример детально описан в главе IV, посвященной этапу гнева.
Религиозные пациенты мало чем отличаются от нерелигиозных. Быть может, эту разницу трудно уловить потому, что мы не очень четко определяем понятие «религиозный человек». Здесь, однако, следует заметить, что нам встречалось очень мало по-настоящему религиозных людей, обладавших глубокой внутренней верой. Этих немногих очень поддерживала их вера, и в этом отношении их лучше всего сравнить с настоящими атеистами. Большинство пациентов занимают промежуточное положение между этими двумя категориями: у них есть некоторые формы религиозной веры, но этого не достаточно, чтобы облегчить их противоречия и страхи.
Когда наши пациенты достигали стадии смирения и финального декатексиса, то вмешательство извне воспринималось как мучительное беспокойство; некоторым пациентам оно не давало умереть мирно и достойно. Смирение и декатексис являются сигналом близкого конца, что не раз позволяло нам предсказать смерть пациента в такой момент, когда к этому не было или почти не было никаких медицинских предпосылок. Пациент отзывается на внутренние сигналы, которые сообщают ему о надвигающейся смерти. Мы научились улавливать эти признаки, фактически не зная, какие психические или физиологические сигналы получает пациент. Если пациента спросить, он может подтвердить свою готовность и часто сообщает нам о ней в форме просьбы посидеть с ним сейчас — он знает, что завтра будет поздно. Мы должны быть очень внимательны к этой настойчивости пациента, иначе можем упустить уникальную возможность послушать его в последний раз.
Наши междисциплинарные семинары по изучению больных терминальной стадии стали общеизвестной и признанной учебной методикой; еженедельно их посещает до пятидесяти слушателей с различными мировоззрениями, профессиями, мотивациями. На этих необычных занятиях происходят неформальные встречи больничного персонала и всестороннее обсуждение нужд пациентов и проблем ухода за ними. Несмотря на рост числа участников, семинар часто напоминает занятия по групповой терапии, когда присутствующие свободно рассказывают о собственных реакциях и фантазиях по отношению к пациенту и таким образом изучают собственные мотивации и поведение.
Студенты медицинских и теологических факультетов получают разрешение на этот курс и пишут соответствующие курсовые работы. Одним словом, наш курс стал частью учебного плана многих студентов, которые в самом начале обучения знакомятся с пациентами терминальной стадии, чтобы быть готовыми к работе с ними, когда наступит час ответственности. Более опытные врачи-практики широкого профиля и специалисты тоже приходят на семинары и обогащают их своим внеклиническим опытом. Медсестры, социальные работники, администраторы, трудотерапевты — все они вносят свой вклад в междисциплинарную дискуссию, каждая профессия что-то получает от другой, каждый специалист узнает что-то о работе и проблемах другого. Повышается уровень оценки и понимания друг друга — быть может, не столько за счет обмена профессиональными знаниями, сколько благодаря нашей общей установке на откровенное высказывание каждым своих впечатлений, реакций, фантазий и страхов. Если доктор сознается, что у него мороз шел по коже, когда он слушал рассказ пациента, то и медсестре будет легче рассказать о своем переживании той же истории.
Одна пациентка описала перемену атмосферы наиболее красноречиво. Она вызывала нас еще во время предыдущей госпитализации, чтобы излить свой гнев и возмущение режимом одиночества и изоляции в отделении. Потом у нее была неожиданная ремиссия, она выписалась и лишь через длительное время была госпитализирована повторно. Вскоре она снова позвонила нам. Она попала в прежнее отделение, и теперь ей хотелось прийти на семинар, чтобы рассказать нам об удивительной перемене в отделении. «Представляете, — сказала она, — в мою палату заходит медсестра, не спешит никуда, а потом еще и спрашивает, не хочу ли я просто поговорить!» У нас нет доказательств, что эта перемена была вызвана нашими семинарами, но мы ее тоже заметили — по возрастающему количеству отзывов от врачей, сестер и пациентов.
Самые важные изменения проявились, пожалуй, в том, что к нам стал обращаться персонал за консультациями для себя — признак растущего осознания собственных противоречий, способных испортить самую совершенную организацию ухода за пациентом. Кроме того, к нам начали поступать заявления от пациентов и их родственников вне больницы с просьбами найти для них какое-нибудь дело в рамках наших семинаров, чтобы наполнить смыслом их жизнь и жизнь других людей, очутившихся в подобной ситуации.
Может быть, вместо замороженного общества нам следует строить общество, способное решать вопросы смерти и подготовки к ней, способное вести дискуссии на эти темы и помогать людям жить без страха до последнего часа.
Один студент написал в своей работе, что, быть может, самое удивительное в этих семинарах то, что собственно о смерти на них говорится очень мало. Не Монтень ли сказал, что смерть — это только момент, когда заканчивается умирание? Мы теперь знаем, что для пациента сама смерть не составляет проблемы; страшен процесс умирания из-за сопутствующего ему чувства безнадежности, беспомощности и изоляции. Те, кто посещал наши семинары и задумывался об этих вещах, выражали свои чувства свободно и откровенно; они убедились на собственном опыте, что кое-что действительно можно сделать, — и не только для пациентов, но и для личного комфорта и спокойствия в отношении собственной смерти.
ГЛАВА XII.
ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ
Смерть, как и рождение, принадлежит жизни. Шаг состоит из подъема и опускания стопы.
Тагор, «Отбившиеся птицы», CCLXVII
Из предыдущих глав очевидно, что у больного в терминальной стадии есть свои совершенно особые потребности; их можно удовлетворить, если мы дадим себе время и труд посидеть, выслушать и понять, в чем они состоят. Самое важное сообщение с нашей стороны заключается в том, чтобы дать пациенту понять, что мы готовы и хотим разделить с ним некоторые его трудности. Работа с умирающим пациентом требует определенной зрелости, которая приходит с опытом. Прежде чем мы сможем без напряжения, спокойно сидеть рядом с терминальным больным, нам необходимо серьезно проанализировать наше собственное отношение к смерти и умиранию.
Первое знакомство с пациентом — это встреча двух людей, способных общаться без страха и суеты. Психотерапевт — врач, священник или любой другой человек, взявший на себя эту роль, — посредством собственных слов или действий старается сообщить пациенту, что не намерен убегать, если пойдет разговор о смерти или раке. Пациент принимает этот сигнал и либо раскрывается, либо дает собеседнику понять, что ценит его предложение, но сейчас неподходящее время. Пациент сообщает терапевту, когда такое время может наступить, а терапевт заверяет больного, что в нужный момент придет к нему. Многим нашим пациентам было вполне достаточно такого предварительного разговоpa. Больной держится за жизнь из-за каких-то незавершенных дел: на его попечении находится умственно неполноценная сестра, и он не может найти человека, который станет о ней заботиться после его смерти; он не оформил документов относительно опеки над детьми, и ему необходимо с кем-то поделиться этой тревогой. Другого пациента мучает чувство вины, неискупленного греха — настоящего или мнимого, — и он испытывает огромное облегчение, когда мы даем ему возможность высказаться, особенно если это происходит в присутствии священника. После таких «исповедей» или после того, как удалось уладить юридические вопросы и кому-то передать свои обязанности, такие наши пациенты чувствовали себя лучше и обычно в скором времени умирали.
Изредка пациенту не дает умереть надуманный страх, как это видно на примере той женщины, которая «боялась» смерти, так как не могла допустить мысли, что ее «заживо будут есть черви» (глава IX). У нее был иррациональный страх перед червями, хотя в то же время она прекрасно осознавала его абсурдность. Поскольку это было так глупо (по ее собственным словам), то она неспособна была даже объяснить свое состояние членам семьи, которые тем временем потратили все свои сбережения на ее госпитализацию и лечение. В беседах с нами эта старая женщина смогла поделиться своими опасениями, благодаря чему дочь разрешила проблему, договорившись с матерью о кремирован™. Эта пациентка тоже умерла вскоре после того, как рассказала о своих страхах.
Мы всегда поражались тому, как одна беседа может освободить пациента от тяжелейшего бремени и почему семья и персонал испытывают такие затруднения, если чаще всего откровенный вопрос — это все, что требуется.
Хотя г-н Е. не был терминальным больным, мы приводим его историю как типичный пример эффекта первой беседы. Это была не мелочь, потому что г-н Э. считал себя умирающим из-за неразрешимых конфликтов, усиленных смертью небезразличного ему человека.
Г-н Е., восьмидесятитрехлетний еврей, был помещен на обследование и лечение в частную больницу по поводу сильной потери веса, анорексии и запоров. Он жаловался на невыносимые боли в животе и выглядел изможденным и усталым. Состояние общей депрессии подчеркивалось плаксивостью. Все усилия медиков казались безрезультатными, и лечащий врач пригласил психиатров.
Во время психодиагностической беседы в комнате присутствовали несколько студентов; он не возражал против этого и с радостью вступил в разговор о его личных проблемах. Он вспоминал о том, как хорошо себя чувствовал раньше, пока, четыре месяца тому назад, не сделался внезапно «старым, больным и одиноким человеком». Дальше выяснилось, что за несколько недель перед тем, как у него были замечены первые физические симптомы, он потерял невестку, а за две недели до появления у него сильных болей неожиданно умерла его жена, жившая с ним раздельно; его в это время не было в городе, так как он находился в отпуске.
Он был зол на своих родственников, которые не приходили к нему тогда, когда он ожидал их. Он жаловался на младший медперсонал и вообще был недоволен практически любыми услугами с чьей бы то ни было стороны. Он был уверен, что его родственники прибегут немедленно, стоит только пообещать им «пару тысяч долларов после моей смерти». Он вынашивал идею жилищного проекта, по которому он будет жить вместе с другими стариками, с которыми он путешествовал. Вскоре стало очевидно, что его злость связана с его бедностью, а бедность означала, что в путешествие ему пришлось поехать тогда, когда его пригласили, — он не мог выбирать. Из дальнейших расспросов выяснилось, что он винит себя за свое отсутствие в городе в период госпитализации жены, а также пытается перенести свою вину на тех, кто организовал отпускную поездку.
Когда мы спросили его, не чувствует ли он себя брошенным женой и неспособным гневаться на нее, он разразился потоком горьких сетований; он жаловался, что не может понять, почему она бросила его ради какого-то брата (он называл его нацистом), почему она воспитала их единственного сына в нееврейском духе и, наконец, почему она оставила его в одиночестве как раз тогда, когда он в ней больше всего нуждался. Чувствуя свою глубокую вину и стыд за такие недобрые чувства по отношению к усопшей, он переносил свою злость на родственников и на персонал. Он был убежден, что заслуживает кары за свои дурные мысли и что должен терпеть боль и страдания во искупление этой вины.
Мы просто сказали ему, что разделяем его смешанные чувства, что они присуши каждому человеческому существу. Мы также выразили удивление, что он не позволяет себе сердиться на покойную жену, и пожелали ему высказать этот скрытый гнев во время наших следующих встреч. Он ответил на это:
«Если эта боль не пройдет, мне придется выброситься из окна». Тогда мы сказали ему: «Ваша боль может быть следствием подавленных чувств гнева и разочарования. Не стыдитесь, вышвырните их из вашего организма, и ваша боль уйдет». Он ушел в крайней нерешительности, но все-таки попросил, чтобы мы его навестили еще.
Врач, сопровождавший г-на Е. обратно до палаты, был встревожен его угнетенным видом и постарался его поддержать, уверяя, что его реакции вполне нормальны; ободренный больной вернулся в палату немного повеселевшим.
Встретившись с г-ном Е. на следующий день, мы увидели, что в своей палате он почти не сидит. Он весь день то с кем-нибудь общался, то бегал в кафе и с наслаждением ел. После двух мощных реакций кишечника его запоры и боли прекратились, он чувствовал себя «лучше, чем когда-либо» и уже собирался выписываться и возвращаться к прежней деятельности.
В день выписки он улыбался и вспоминал хорошие дни, проведенные когда-то вместе с женой. Он сказал также, что у него изменилось отношение к персоналу («Им со мной было нелегко») и к родственникам, особенно к сыну, с которым он, по его словам, лучше познакомился («Оба мы временами бываем страшно одинокими»).
Мы сказали ему, что он всегда может рассчитывать на наше участие в случае возникновения физических и эмоциональных проблем, и он, улыбаясь, отвечал, что получил хороший урок и что сумеет встретить собственную смерть спокойно.
Пример г-на Е. показывает, сколь благотворными могут быть такие интервью для людей, которые, не будучи больными сами по себе, из-за преклонного возраста или просто не умея справиться с потерей близкого человека, сильно страдают и рассматривают свой физический или эмоциональный разлад как средство облегчения вины за враждебные чувства и пожелания в адрес умершего. Этот старик не так боялся смерти, как переживал, что умрет раньше, чем сможет расплатиться за недобрые чувства к человеку, который умер, не дав ему «даже возможности извиниться». Он терпел мучительные боли — это было средство защиты от страха возмездия; свой гнев и враждебность он направил против персонала и родственников, не осознавая причин собственного упрямства. Удивительно, как простая беседа может раскрыть эту тайну, облегчить серьезные соматические симптомы — достаточно лишь нескольких фраз понимания и заверения в том, что эти чувства любви и ненависти являются нормальной человеческой реакцией и не должны оплачиваться такой страшной ценой.
Для других пациентов, у которых нет единой простой проблемы, полезен краткий курс психотерапии, для проведения которого также не обязателен врач-психиатр — достаточно, чтобы понимающий человек посидел рядом и послушал. Я имею в виду таких пациентов, как сестра И., которую мы посещали много раз и которая получала этот курс лечения не только от нас, но и от других пациентов. Такие больные обладают счастливой способностью работать над некоторыми своими конфликтами во время болезни, благодаря чему приходят к более глубокому пониманию и даже одобрению ранее неприемлемых вещей. Такие лечебные беседы, подобные курсу психотерапии, с более тяжелыми, терминальными пациентами проводятся нерегулярно — их необходимо индивидуально приспосабливать и к физическому состоянию больного, и к его готовности и желанию участвовать в беседе; в этот период его следует время от времени навещать на две-три минуты, чтобы он чувствовал, что мы всегда рядом, даже если он не склонен к разговору. Эти короткие визиты можно делать даже чаще в периоды дискомфорта и болей, но они должны сводиться не столько к словесному общению, сколько к молчаливому присутствию.
Мы уделяли много внимания вопросам групповой психотерапии и убедились, что она показана для отобранных групп — групп пациентов, страдающих от одиночества и изоляции. Те, кто работает в отделениях с терминально больными, хорошо знают, какое общение устанавливается между пациентами, какую действенную поддержку они оказывают друг другу. Мы всегда удивлялись тому, как много происходящего на наших семинарах передается от больного к больному, они даже «назначают» друг друга к нам на собеседование. Мы не раз видели пациентов, сидящих в вестибюле рядышком после участия в нашем семинаре — они продолжали свое неформальное общение, словно члены некоего братства. В конце концов мы оставили пациентам решать, как много времени они должны делить с другими, но мы всегда следим за их мотивацией относительно более формальной групповой встречи, поскольку в ней участвовать хотят далеко не все. Наиболее подходящими являются хронические больные, пережившие не одну госпитализацию; они уже знакомы или быстро знакомятся благодаря не только одинаковым болезням, но и одинаковым воспоминаниям по предыдущим госпитализациям. Нас всегда поражает их почти радостная реакция, когда умирает кто-то из «однополчан», хотя это всего лишь подтверждение известного подсознательного убеждения, что «это случится с тобой, но не со мной». Здесь может таиться и дополнительная причина того, что многие пациенты и члены их семей получают определенное удовольствие от визитов к другим, быть может, более тяжелым больным (см. случай г-жи Г., глава VII). Сестра И. использовала такие визиты для выражения своей враждебности: она выявляла нужды пациентов и тем самым показывала персоналу, что он работает неэффективно (глава IV). Помогая им как медсестра, она не только временно отрицала собственную нетрудоспособность, но и выражала свое неудовольствие каждому, кто был здоров и не выполнял свою работу как следует. Курс групповой терапии для таких пациентов помогает им понять собственное поведение и улучшить отношения с персоналом за счет более разумной формулировки своих требований.
Еще один важный пример — г-жа Ф., которая практиковала неформальную групповую терапию с некоторыми тяжело больными молодыми пациентами, госпитализированными по поводу лейкемии или болезни Ходжкина. Сама она страдала болезнью Ходжкина более двадцати лет, в последние годы ложилась в больницу в среднем каждые два месяца и в конце концов совершенно смирилась со своим состоянием. Однажды в больницу поступила Энн, девятнадцатилетняя девушка, напуганная диагнозом и предстоящим исходом и не умеющая ни с кем поделиться своим страхом. Ее родители отказывались говорить на эти темы, и г-жа Ф. стала ее неофициальным консультантом. Она рассказывала девушке о своем муже, о сыновьях, о доме, которым руководила столько лет, несмотря на многократные госпитализации; наконец Энн тоже решилась рассказать ей о своих переживаниях и даже стала задавать вопросы о собственной болезни. После выписки Энн прислала к г-же Ф. другую молодую пациентку, и так началась цепная реакция рекомендаций, очень похожая на групповую терапию, когда один пациент сменяет другого. Их группа редко насчитывала одновременно более двух-трех человек, но они держались вместе до выписки.
Молчание, идущее дальше слов
В жизни пациента наступает время, когда боль прекращается, разум переключается в состояние без сна и без образов, потребность в пище падает до минимума и осознание окружающего мира почти исчезает во мраке.
Это тот самый период времени, когда родственники ходят по больничным коридорам и терзаются ожиданием и нерешительностью — прекратить бесполезное дежурство или оставаться поблизости от умирающего до самого конца. Это то самое время, когда слова уже не нужны, но крик о помощи, воплощенный в слова или беззвучный, больше чем когда-либо раздирает души близких людей. Уже ни к чему медицинское вмешательство, оно становится жестокостью даже при самых благих намерениях; и все же еще не наступил час последнего расставания. Для ближайших родственников это самое трудное время: им либо хочется, чтобы скорее все закончилось, либо они отчаянно цепляются за то, что вот-вот будет утрачено навсегда. Это время терапии молчанием, время последнего контакта между родными существами.
Врач, медсестра, социальный работник или священник могут оказать большую помощь в этой ситуации, если они понимают семейные противоречия и сумеют выбрать того, кому лучше других удастся провести последние часы с умирающим пациентом. Этот избранный действительно становится психотерапевтом для умирающего. Тем, кому такая функция не по силам, следует тоже оказать помощь, облегчая им чувство вины и успокаивая тем, что кто-то будет оставаться с умирающим до самого конца. Тогда они смогут уйти домой, зная, что пациент умрет не в одиночестве, им не будет стыдно и горько за то, что они уклонились от события, которое многие люди так тяжело переносят.
Те, у кого достаточно силы и любви, чтобы сидеть рядом с умирающим в молчании, которое идет дальше слов, знают, что в этих минутах нет ни страха, ни боли, а есть спокойное прекращение работы тела. Созерцание спокойной смерти человеческого существа напоминает нам падающую звезду — один из миллиардов огоньков в необъятном небе вспыхнул на короткое мгновение — только для того, чтобы тут же навеки исчезнуть в бесконечном мраке. Роль терапевта при умирающем заставляет нас осознать уникальность каждого живого существа в огромном человеческом море. Осознать собственную бренность, ограниченность своего жизненного пути. Не многие из нас переживают свои семь десятков, и все же за этот краткий миг почти каждый успевает создать и прожить уникальную биографию и вплести свою живую нить в полотно человеческой истории.
- Вода в сосуде искрится, но морская пучина темна.
- Ясными словами сияет маленькая истина;
- великая истина таит великое молчание.
БЛАГОДАРНОСТИ
В этой работе прямо или косвенно участвовали столь многие люди, что у меня нет возможности поблагодарить каждого персонально.
Д-р Сидней Марголин поддержал идею интервью с больными терминальной стадии в присутствии студентов как важную учебную модель.
Отделение психиатрии в больнице Биллингс Чикагского университета предоставило помещения и все необходимое для технического осуществления наших семинаров.
Священники Герман Кук и Карл Найсвангер оказали неоценимую помощь как участники интервью с пациентами, а также в поиске пациентов в тот период, когда это было особенно тяжело. Уэйн Ридберг и первые четыре студента своим любопытством и интересом помогли мне преодолеть начальные трудности. Много значила для меня и поддержка коллектива Чикагской богословской семинарии. Его преподобие Ренфорд Гейнз и его супруга Гарриет потратили массу времени на чтение рукописи и поддержали мою веру в полезность этого предприятия. Д-р Найт Олдрич помогал мне в работе на протяжении последних трех лет.
Д-р Эдгар Дрейпер и Джейн Кеннеди проверили часть рукописи. Бонита МакДэниел, Джейнет Решкин и Джойс Карлсон заслуживают благодарности как машинистки.
Выразить мою признательность многим пациентам и их семьям я могу только публикацией бесед с ними.
Эту работу вдохновляли труды многих других авторов, и благодарить в конечном итоге нужно всех, кто посвятил свои раздумья и внимание больным терминальной стадии.
Спасибо г-ну Питеру Невромону за предложение написать эту книгу, а также г-ну Клементу Александеру из Макмиллан Компани за его терпение и понимание в период подготовки книги.
И не в последнюю очередь я благодарна моему мужу и детям за их терпение и неизменную поддержку, которая позволила мне выдерживать полную рабочую нагрузку и оставаться в то же время женой и матерью.
