Вечера с Петром Великим
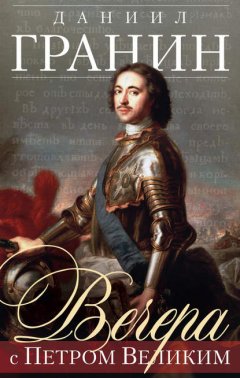
Художественное оформление Е. Ю. Шурлаповой
© Д. А. Гранин, 2014
© ООО «Рт-СПб», 2014
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
Вступление
Прибрежный корпус санатория стоял заколоченный. В нем жили летучие мыши, просто мыши и привидения. После ужина, раздвинув доски, мы поднимались по широкой мраморной лестнице, мимо разбитых ваз, шли через залы на галерею. Под ногами хрустели осколки бутылок, валялись бумажные стаканчики, окурки. Линолеум был содран, перегородки разобраны, углы завалены железными кроватями, обои висят лохмотьями. Разруха обнажила старый дворец. В большом зале остался ломаный камин, весь заваленный бутылками. Пахло пометом, мочой, тленом.
Мы выходили на галерею. От парка поднималось тепло. Был виден залив, над темным обрывом горизонта в небе горело розовое зарево вечернего Петербурга.
В парке шумел водопад.
Молочков рассказывал, кто тут гулял при Петре, при Екатерине. Он их всех знал.
Привидения иногда спускались в парк, их видели в каменных беседках.
На галерее стояли скамейки, круглый столик и одно плетеное кресло. Оно было отдано профессору Челюкину.
В нем все соответствовало крупному ученому: аккуратная седая бородка, перстень, глубокий бас, даже имя-отчество – Елизар Дмитриевич. Занимался он лесными букашками-вредителями, обожал всю эту суетливую мелочь – жучков, червячков, таракашек, написал о них несколько монографий. Леса, которые они портили, он тоже любил.
– Человек – это не только человек, – возглашал Елизар Дмитриевич, – это еще и звезды, и божья коровка, и гадюка.
Санаторий назывался «Канюк». Говорили, что есть такая птица. Больные называли его «Каюк». Это было справедливо, санаторий разваливался. За нами никто особо не смотрел, мы жили свободно, лениво, Гераскин приносил «маленькие», Антон Осипович – соленые огурцы и соленые помидоры, раздавал их, спрашивал: «Что сказал Чехов?» – и сам отвечал: «Сколько ученые ни думали, лучше закуски, чем соленый огурец, придумать не могли».
Антон Осипович соблюдал порядок – мы должны были произносить тосты, чокаться, пить с перерывами и без принуды.
Первым хмелел Молочков. Если его не завести, то он удалялся в себя, что-то шептал, бормотал, чему-то улыбался. Заводили его на исторические темы. Он был историк, хотя всячески открещивался, утверждал, что он всего лишь учитель, дилетант, недоучка, что у него нет научных работ.
Всю жизнь он увлекался петровским временем; стоило ему начать рассказывать про Петра, голубые глазки расцветали, голос креп, вялое лицо оживало.
В том, петровском, окружении у него имелись друзья и недруги, придворные дела волновали больше, чем нынешние.
Однажды он появился расстроенный, хлопнул стопку водки не закусывая, еще одну, после чего сообщил, что в Лондоне на аукционе продали архив Петра Андреевича Толстого. Кому – неизвестно. Наши, конечно, проморгали, да и наверняка не стали бы тратиться. Хоть бы одним глазком взглянуть – что там было. Видать, те документы, что Толстой вывез при заграничной своей командировке.
Петр Андреевич Толстой, пояснил он Гераскину, был правитель Тайной канцелярии, крупный сановник, может, третье лицо в государстве – примерно как Берия при Сталине, если считать вторым Маленкова. Что он мог вывезти? По-видимому, компромат на некоторых деятелей. Куда-то в надежные места пристроил. За такие материалы он, Молочков, все бы отдал.
Гераскин на это засмеялся:
– Да что у вас есть? Одно название – учитель. И то уволенный. А учитель, известно, низший член нашего общества.
Специальность Гераскина была резать правду-матку, и он резал ее с удовольствием, поскольку видел себя представителем исчезающего класса пролетариев. С падением советской власти, говорил он, царство рабочих и крестьян кончилось. Взять нашу компанию – профессор, учитель, чиновная шишка – это Антон Осипович; не то актер, не то художник, не разбери-поймешь, – это Серега Дремов и им подобные, один он, Евгений Гераскин – представитель прежнего Его Величества рабочего класса, ныне шофер-дальнобойщик, занятый перевозками сомнительных грузов по сомнительным адресам.
Молочков метался по галерее, отшвыривая ногами бутылки. Мы никогда не видели его таким расстроенным. Как будто этот архив похитили у него. Петра Толстого он всегда терпеть не мог. Проныра. Двуличник. Лжец. Недаром государь подозревал его, вот и выявился: вор, злодей, преступник, шутка ли – похитить государственные бумаги.
– И что там уж такого значащего? – поинтересовался профессор.
Молочков руками всплеснул – все, все значимо, там наверняка были материалы следствия по царевичу Алексею, тайна его гибели, дела по Долгоруким, может, и на саму государыню.
– Если бы компромат на нынешних – не пожалели бы денег, – рассуждал Антон Осипович.
Вечерние птицы влетали в разбитые окна дворца, Гераскин со стуком резал последний огурец.
– Вот вы говорите, злодей, – продолжал Антон Осипович, – а может, он хотел наоборот – злодейство опубликовать. Вы напрасно отмахиваетесь, я убедился – люди злодейства совершают большей частью не по своей воле. Возьмите: такой, можно сказать, классический злодей, как Лаврентий Павлович Берия. Я вам как-нибудь про него сообщу такой позитив, ахнете. Благодарные народы ему вполне могли памятник ставить. Шекспировский персонаж, шекспировская трагедия.
Это было что-то новое, обычно Антон Осипович сообщал нам о всяких темных делишках наших начальников – похоже, кадровики делились между собой информацией, иначе откуда бы ему знать столько про министров, губернаторов, депутатов, про их детей, любовниц, виллы, обслугу и доходы.
Мы устали от его обличений, от своей бессильной злости. Злость хороша как приправа, все это жулье, что обворовывало и обманывало нас в последнее время, – оно еще отравляло нас ненавистью, не хотелось больше слушать о них.
Нас больше влекло прошлое, когда Россия мужала, поднималась как на дрожжах… Молочков рассказывал о том времени горячо и странно.
Странность же заключалась в том, что все, что происходило с Петром, происходило как бы в присутствии Молочкова. Он являлся к нам из другой эпохи и торопился сообщить новости.
Как-то, когда Молочков вышел, Серега Дремов произнес:
– Очевидец!
Ничего удивительного в этом для Челюкина не было, он считал, что самый неизученный феномен – это Время. Каждый живет в своем времени. Например, Антон Осипович остался жить в Советском Союзе. Сам Челюкин обитал в том быстротекущем времени, в каком жили его сезонные букашки, а то и однодневки.
– Врет, как очевидец, – сказал Антон Осипович, подчеркивая слово «врет», хотя нас поразило «очевидец», – а ведь именно очевидцы-то и перевирают – заботятся о впечатлении, им надо удивить, ужаснуть, обрадовать.
– Чего вы хотите, – обращался к нам Серега Дремов, – разве мы больше знаем, что там за Кремлевскими стенами? Тоже гадаем, ловим слухи.
О чем-то Молочков явно умалчивал: говорит-говорит и вдруг оборвет себя. Иногда злился на кого-то из петровских деятелей: только и знают толковать, кто ближе государю, кого куда назначат.
Признался в своих симпатиях к Анне Монс, любовнице Петра.
Насчет Меншикова выразился так: «Раз государь держит его, не удаляет, значит, есть основания».
Или вдруг: «Мне кажется, Меншиков благородного происхождения».
Дремову нравилось воображать, будто Молочков встречался с Петром Великим, однажды он попробовал подступиться к этой теме, Молочков ответил: нет, мол, не получилось.
Серьезный его тон смутил Серегу. Гераскин погрозил пальцем: «Не вникай, не нашего ума это дело».
Посидев в тюрьме, Гераскин твердо усвоил, что все люди психи, у каждого свой Фантомас, у одних торчит, у других спрятан. Мир полон чудес, чудеса украшают жизнь, и не надо их разоблачать. Что касается Времени, то все как нельзя просто:
- Время, времечко идет,
- Время катится,
- Кто не пьет,
- Не…….,
- Тот спохватится.
Любовь Молочкова к Петру удивляла и нравилась Гераскину. Хоть один достойный правитель нашелся.
– А может, там были сведения о заграничных счетах сенаторов, – не унимался Молочков.
– Уже тогда изловчались, – сказал Дремов.
– Много не надо смекнуть: у нас в России деньги не спрячешь, – сказал Гераскин.
Антон Осипович, человек практичный, поинтересовался судьбой заграничных счетов – что с ними стало?
Вздыхая, Молочков выдавал чужие секреты. Окном в Европу стали пользоваться сразу, пристраивали капиталы в банках голландских, английских.
Князь Голицын, князь Куракин, кое-кто из Долгоруких, более всех, конечно, Меншиков. После его смерти императрица Анна Иоанновна вместе со своим фаворитом Бироном немедля принялась выяснять, как вызволить меншиковские вклады из голландских и английских банков. Банки пояснили, что деньги могут забрать только законные наследники. Эти заграничные банки позволяют себе… Бирон пораскинул мозгами и придумал комбинацию – царским указом помиловали и вернули из Березова сына и дочь покойного князя Меншикова. Бирон принялся их обхаживать. К дочери светлейшего посватался Густав Бирон, брат фаворита, они сочетались браком и отправились в Европу за деньгами. Сын же Меншикова задержался, пришлось его припугнуть, дали ему какое-то звание, деревушку, сотню крепостных – и все заграничные капиталы Меншикова прибрали к рукам.
Конечно, Меншиков охулки на руки не клал, но все же он был Молочкову симпатичнее этих шакалов.
У каждого была своя стезя, каждый каким-то образом нашел ее, обрел, приладился. Самое важное в жизни, считал Серега Дремов, найти свою стезю, нашел – и все остальное приложится, не нашел – и будешь болтаться как дерьмо в проруби. Стезя – это не призвание, это дело. Гераскин жалуется – не учился, остался обалдуем, вот и держись за бублик-баранку. Так хоть держится. А он, Дремов, мечется столько лет, ни за что уцепиться не может. Актера из него не вышло, подался в режиссеры, хотел поставить «Историю города Глупова» – не дали. Сочинил пьесу о Марке Аврелии – не взяли. Перешел в театральные художники, а радости нет, годы идут без божества, без вдохновения. Должно же у него что-то быть, к чему-то он предназначен, неужели так вот и проживет, не узнав, где его талант.
Он завидовал Молочкову. Сутулый, бледный, некрасивый человечек, сразу видно, неудачник, с диссертацией не получилось, публикаций нет – и никакой ущербности, парит, ликует в своих эмпиреях. Ведь если разобраться, у него и таланта особого нет. Только страсти. Может быть, эти страсти и есть призвание?
Ходит Молочков в драной лыжной куртке, денег нет, пьет на халяву и уверен, что все было у Петра не так, как преподносят.
Рассказывал Молочков артистично, у него и дикция, и напор, так ведь не со сцены, всего лишь кучке профанов. Чего ради силиться?
Молочков отвечал не очень понятно: «Солнце мешает видеть звезды». В нем многое было непонятно. Счастливый неудачник. Может, все дело в том, что Молочков сумел сосредоточиться, сфокусировать себя; когда человек сосредоточится, он способен совершать чудеса.
Мысль эта профессору Челюкину понравилась. Человек не знает своих возможностей, у нас культ гениев, на самом же деле цивилизация больше обязана людям, которые умеют сосредоточиться на чем-то.
Неожиданное соображение пришло от Антона Осиповича. Как специалиста по кадрам.
– Ты, значит, хочешь узнать свое дарование, так? Допустим, есть у меня метод. Прибор вроде детектора лжи. Могу и другим способом. У меня опыт есть. Определю. И что? Думаешь, тебя озарит, и жизненный путь откроется перед тобой во всей красе? Эх ты, несмышленыш! Тут-то и начнется мучение. Потому что прибор покажет, что твое настоящее призвание – портной. Обрадуешься? Или к примеру – ветеринар! Ты ведь на меньшее, чем Булгаков, чем Мейерхольд, не согласен. А тебе кошачьего врача предлагают. Вот и живи с таким ярлыком. Может, и мне на самом деле не в кабинетах сидеть, а у плиты стоять поваром.
В такого рода разговорах Молочков участия не принимал. Он удалялся в себя, становился незаметным. Что это было – энергия присутствия, энергия молчания? Не поймешь. Если к нему обращались, он отвечал виноватой улыбкой глухого, она обезоруживала.
Вдруг он возвращался, чтобы огласить свою находку или изумление: Петр-то что надумал – взял и разделил помолвку и свадьбу. Раньше они шли одна за другой, заставил их развести на шесть недель, чтобы молодые подумали, присмотрелись друг к другу. Придумал ли сам, высмотрел в Европе – без разницы, мудрость не в том, чтобы придумать, а в том, чтобы использовать.
Наверное, нам самим нравилось видеть странным его поведение, так же как нравились рассказы медсестер о призраке графини Румянцевой, которая ходит тут среди пивных бутылок и окурков.
Ухмылки кончились с того дня, когда Антон Осипович объявил, что нынче вечером Молочков опоздает, а то и вовсе не будет, его увезли в город.
Осведомленность Антона Осиповича не вызывала вопросов. Информация поступала к нему неведомыми путями. Приехали за Молочковым из Русского музея, недавно найден был в провинции чей-то старинный портрет, надо было установить, кто изображен. К услугам Молочкова, оказывается, и раньше прибегали, каким-то образом он мог определять на портретах лиц из петровского окружения. Сотрудники музея говорили, что Виталий Викентьевич их узнает. Как это происходит, они не выясняли, «чтобы не сглазить». К нему обращались и коллекционеры. Иногда он брал портрет домой, как они выразились – «вспомнить».
На этот раз «атрибутация» прошла быстро. Молочков сказал нам, что легко определил молодого Якоба Штелина, некоего петербургского немца, к тому же своего дальнего предка по отцовской линии. Им он когда-то занимался, он-то его и сблизил с Петром.
Глава первая
Профессор аллегорий
От Якоба Штелина и начались неприятности у Молочкова. Кто такой этот Штелин, мы понятия не имели. И о самом Молочкове мало что знали. Мы с ним уже неделю общались, и чем больше общались, тем более странным он казался. Вроде бы ничего особенного – учитель средней школы, вернее, бывший учитель, отстранен. А еще раньше уволен был из Института истории и еще откуда-то. И внешность у него была заурядная: человека, сильно траченного жизнью, болезненного, и все же он продолжал свои игры с ней: в прятки, в маскарад, не поймешь, что-то ребячье, увлеченное вспыхивало в нем, когда удавалось его разговорить.
Мы слушали его рассказ о Штелине, долго не улавливая, чем эта биография заслуживает внимания: добросовестный служака, законопослушный, жизнь без зигзагов и страстей. Но что-то же занимает в ней Молочкова? Приходилось внимать терпеливо.
Анекдоты о Петре, собранные этим Штелином, вызывали у учителя сомнения. Для работ Молочкова книга Штелина могла много значить. Надо было перевести с немецкого еще его письма, расшифровать записи, сделанные готическим шрифтом, а были еще записи по-латыни, совсем недоступной Молочкову. Но тут подоспела кандидатская диссертация, заказанная ему одним министерским прохвостом. Время от времени Молочков зарабатывал, изготавливая исторические диссертации для состоятельных клиентов. Заказчик согласился оплатить переводчика, правда, гонорар Молочкову секвестировал, заявив, что наука требует жертв.
Появился Якоб Штелин в Петербурге в 1735 году. Приехал из Лейпцига, где получил образование и занимался всякой всячиной, переводил с древнегреческого стихи Сафо, играл в оркестре у Иоганна Себастьяна Баха, устраивал фейерверки для княжеского двора. С юношеским пылом брался за любое дело. В ту пору Санкт-Петербургская академия наук разыскивала в Европе специалиста по иллюминациям, императрица Анна Иоанновна выразила пожелание обновить сие искусство в России и поручила это дело Академии наук, кому ж еще заниматься устройством увеселений. Кто-то порекомендовал академии молодого иллюминатора из Лейпцига, а может, он сам напросился, был заключен контракт «для аллегорических изобретений, иллюминаций и фейерверков», и Штелин отправился в Россию искать свое счастье.
Жалованье положили приличное, двор с расходами на такое дело не скупился, молодой человек мог развернуться и стал вовсю расписывать северный небосклон своими огнями. Попутно он вызвался составлять гороскопы. Затем сделал проект подъема большого колокола для собора. Он ни от чего не отказывался. Взялся наладить гравировальное дело, стал выпускать газету, ремонтировать башенные часы, ему следовало зарекомендовать себя.
Россия ему нравилась, здесь он обрел уверенность, образованных немцев в России ценили. Он с удовольствием слагает оды к торжественным придворным датам, готовит праздничные представления с аллегориями.
С петровских времен процветало искусство аллегории, целая система понятий в зрительных образах, доступная широкой публике. Поучительные сцены изображали рисованные фигуры: Порок соблазняет Невинность, Корысть и Тщеславие борются со Скромностью, атрибуты были разработаны со всей тщательностью. Все они что-то держали в руках, были стройны, горбаты, юны, дряхлы, могучи, хитры.
Штелин ловко управлялся с этой компанией, где действовали Коварство, Измена, Победа, Благоверие, Слава. Соответственно одевал их, наделял репликами, нарядами, мечами, венками, лирами…
Обнаружив, что в России нет истории национальных искусств, он недолго думая принялся за ее составление. Ему помогала самоуверенность. История театра, музыки, литературы, живописи – материалов хватало, дело спорилось, он управлялся с любыми жанрами.
В архивах попадались курьезы недавних петровских времен. При дворе тоже ходило множество легенд о великом государе. Анекдоты были один другого забавнее. Штелин стал записывать их – не пропадать же добру. Эта плюшкинская страсть сохранять всякую мелочь для историка вполне достойная. С немецкой добросовестностью он старался отделить правду от вымысла. Понимал, что рассказчики округляли сюжет, приукрашивали. Интересная особенность: когда он начинал тут же, при рассказчике, делать записи, рассказ становился строже и достовернее. Были истории невероятные, но, чем дальше, тем тверже он убеждался, что как раз невероятное было свойственно Петру; вдруг находился новый свидетель, который подтверждал, казалось бы, совершенно сказочный сюжет. Прав был один из первых учителей христиан Тертуллиан: «Верю, потому что абсурдно».
В конце концов Штелин решил, что его дело собирать и записывать все стоящее, а дальше видно будет.
Собирать анекдоты было интересно, но никто за них не платил. Заказы же на праздники прибывали. В России сиятельных особ хватало. Всем нужны были оды, лестные представления, роскошные иллюминации. Не годилось отказывать, да и не хотелось упускать подарков, наград, полезных людей. Ковры, перстни, шубы – грех было пренебрегать.
