Змеи крови (Слово шамана)
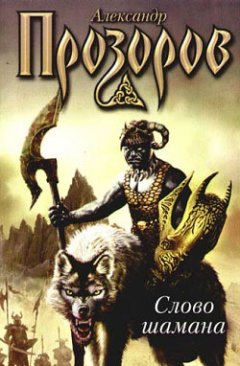
Часть первая
Степняки
Глава 1
Холод
По ровному снежному насту, чистую белизну которого лишь изредка нарушали темные черточки высоких стеблей прошлогодней полыни, мела холодная крупянистая поземка. Несущий мелкие ледяные шарики ветер хлестал по лицу, забирался за воротник, просачивался под полы длинных стеганых халатов. От его пронизывающего дыхания на улице казалось в несколько раз холоднее, нежели было на самом деле – и татары с завистью поглядывали на десяток лошадей, сгрудившихся под прикрытием пригорка, парами, положив головы на крупы друг другу.
– Весна, называется, – недовольно буркнул один из усатых мужчин, поправил на голове лисий малахай с пришитыми поверху несколькими железными пластинами, подкинул в огонь еще несколько шариков кизяка, потом поднялся во весь рост, потянулся, оглянулся по сторонам. – В Солхате сейчас тепло, тюльпаны расцветают.
– Ну и сидел бы в Солхате, чего на московитов пошел? – хмыкнул другой воин, жмурясь на небольшой, экономный огонек, приплясывающий под оловянным котелком.
– А ты не знаешь, Шепет, зачем? – хохотнул первый из татар, поправляя саблю на боку.
– Это ты не знаешь, каково весной в степи, – спокойно ответил Шепет, отирая ладонью усы. – А я еще лет десять назад с Менги-нукером в первый поход шел. Мы тогда едва не подохли все в грязи. Еле ноги вытаскивали. Нет, хан прав. Лучше по холоду и снегу Дикое поле перейти и тут тепла подождать, нежели грязь месить. Завтра заместо нас другой десяток придет, потом в шатрах согреешься. Не скули.
– Ноги затекли, – пожаловался первый воин, опускаясь обратно на землю, и прикрывая колени полами халата. – Кого здесь сторожить? Кто, кроме бешеного Менги-нукера зимой в степь пойдет?
Однако в тот самый миг, когда он отвел свой взгляд от заснеженных просторов, на склоне находящегося примерно в тысяче шагов взгорка шевельнулся сугроб, часть снега приподнялась, моргнули внимательные темно-синие глаза.
– Понятно… – с легким потрескиванием смяв наст, женщина откатилась на невидимую со стороны дозора часть взгорка, села, откинула отороченный белоснежным песцом капюшон, пригладила прямые русые волосы. – Значит, получается так: их пятеро, один полулежит, четверо сидят. В халатах все. Может, у кого снизу железо и есть, но вряд ли. Делаем так: я беру двоих, что по правую руку от огня, а вы всех, что по левую руку.
– А не промахнешься, боярыня? – неуверенно поинтересовался один из четырех ожидающих ее воинов, одетых в нелепые белые сатиновые балахоны поверх брони.
– Боярыня Юлия с трехсот саженей в шапку попадает, – усмехнулся другой воин, кареглазый, с окладистой русой бородой. – Не страшись.
– Спасибо, Сергей Михайлович, – кивнул воин с бесцветными глазами, из-под шелома которого торчали во все стороны рыжие кудри. – Ну что, Юленька, пойдем?
– Ты Варлам, капюшон-то белый поверх головы накинь, – кивнула ему Юля. – А то пятно темное на снегу далеко видно.
– Придумает тоже, – вздохнул боярин, но подчинился.
– Ветер сейчас притихнет, – женщина вытянула из колчана угольно-черный лук, потом, задумчиво покрутив пальцами черенки стрел, выбрала две с гранеными наконечниками. – Тогда и выскочим.
Она взяла стрелу в зубы, другую наложила на тетиву. Бояре тоже зашуршали тканью, извлекая на свет божий луки и колчаны. Выжидающе подняли глаза на женщину.
Разумеется, подчиняться бабе, пусть даже жене боярина, противоестественно натуре русского витязя – однако эта высокая худощавая лучница за годы жизни в поместье на берегу Оскола уже успела на глазах многих воинов пронзить своими стрелами не один десяток татар, в одиночку справилась еще с несколькими, приведя к крепости их коней, успела доказать смертоносную меткость своего оружия, а потому обитатели порубежных земель уже перестали воспринимать ее как женщину, видя перед собой только собрата по оружию. К тому же – лучше всех разбирающегося в стрельбе.
– Итак… – Юля подняла голову, прислушиваясь к завыванию ветра, привыкая к его ритму, сживаясь с движениями огромных масс воздуха. Одновременно она привычным движением скинула толстые заячьи рукавицы, натянула двупалую потертую перчатку из толстой кожи. Медленно натянула на темные волосы белый суконный, подбитый изнутри песцовым мехом, капюшон. – Пошли!
Пятеро лучников – лучших на русском порубежье, вскочили на ноги выскочили на края взгорка. Юля успела натянуть лук первой – но на несколько мгновений замерла, сосредотачиваясь на цели, а потому залп получился слитным. Затем женщина схватила стрелу, зажатую в зубах, наложила на тетиву, снова замерла… Разогнула пальцы.
Бояре по сторонам от нее работали с пугающей скоростью, почти не целясь, лишь выхватывая стрелы из колчанов и выпуская их в воздух, успевая выстрелить трижды за время полета стрелы. За то время, как Юля выпустила две стрелы, каждый из них облегчил колчаны на десяток.
– Думаю, еще дней десять, и снег сойдет, – заглянул в закипающий котелок Шепет. – А мы уже здесь, у самых селений русских стоим.
После этого он качнулся вперед и упал рядом с костром. Между лопаток старого воина торчала короткая стрела. Послышался звук, словно кто-то из рабов очень часто, торопливо стучит в дверь хозяйских покоев в далеком теплом Крыму, в родном Солхате. Воин открыл рот, собираясь предупредить заваливающихся в стороны друзей об опасности, но тут у него прямо во лбу выросла ровная палочка с белым гусиным оперением, и он откинулся на спину, уставясь голубыми глазами в хмурое февральское небо.
– Юлия, назад! – грозно рыкнул на женщину боярин Варлам Батов, и даже отодвинул рукой назад, не позволяя кинуться к расстрелянным врагам.
Витязи, высоко вскидывая ноги, побежали вперед, на ходу с облегчением срывая с себя придуманное боярыней Юлией белое уродство, называемое ею странным словом «масхалаты». Боярин ведь начищенным железом сверкать должен, алыми или сизыми шароварами и сапогами красоваться, шеломом наведенным сиять, рогатиной с длинным наконечником; одним своим видом врага пугать. А тут…
Хотя, задумка варламовской жены удалась – посеченный стрелами татарский дозор, к которому они подобрались незамеченными чуть не на триста саженей, не смог не то что упредить крымское войско о приближении кованой рати, звука издать не успел.
С трудом переводя дыхание, бояре остановились возле татар. Двое еще стонали и пытались шевелиться – но в каждом торчало по несколько стрел, а потому никакого сопротивления они оказать не могли. Да и вся стоянка была так густо истыкана стрелами, словно здесь, на согретом костром взгорке, наступила весна и к солнцу полезли щедро посеянные озимые.
Боярин Сергей Храмцов молча толкнул в бок сомневавшегося товарища и кивнул в сторону лежащих справа татар. У одного стрела торчала точно между лопаток, у другого – изо лба, точно над переносицей.
– Да, – кивнул воин в ответ на явный намек. – Хорошо, с нами она, а не с литвинами какими-нибудь.
– Варлам Евдокимович, – уже вслух распорядился боярин Сергей, – оружие собери, будь любезен. Мы коней татарских поймаем. Не пешком же возвращаться? – Теперь, когда вражеский разъезд был обнаружен и уничтожен, старшинство возвращалось к нему, назначенному воеводой командовать передовым отрядом. – А ты, боярин Борис, садись на ближайшего, и к рати поспешай. Упреди, что путь для нее ныне свободен.
Один из витязей кивнул, сбежал вниз с пригорка, к шарахнувшимся в стороны лошадям, схватил одного из них, оказавшегося менее пугливым, затянул подпругу, проверил удила, запрыгнул на спину и дал шпоры, поводьями заворачивая скакуна в северную сторону.
К тому времени, когда победители переловили и поделили коней, оружие и кое-какой татарский доспех – сами не оденут, но смердам али холопам может сгодиться, издалека послышался тяжелый гул.
– Ты, Юленька, смотри, с нами не ходи! – строго упредил супругу Варлам. – То сеча будет, дело не женское. С заводными конями ратными меня обожди, там тоже воины надобны.
Боярин передал женщине поводья трех из выделенных на его долю коней, сам взметнулся в седло, подобрал поводья.
– Христом-Богом заклинаю, в сечу не лезь!
– Да ладно, сама не дурочка, – улыбнулась ему Юля и, сама сознавая глупость совета, тем не менее добавила: – Ты тоже смотри. Береги себя…
Сверху, из седла, было видно как с северной стороны приближается, словно накрывающая землю тень от крыльев Змея-Горыныча, темная масса. Гул усиливался.
– Ну, Юленька… – Варлам наклонился, поцеловал жену, после чего устремился в погоню за боярами Храмцовым и Петровым, уже двинувшимся вперед.
Темная масса, приближаясь, постепенно разделялась на отдельные отряды, двигающиеся с небольшими промежутками друг от друга, стали различимы воины – закованные в панцири и бахтерцы, зерцала и колонтари. На плечах витязей лежали меховые налатники, пухлые шаровары уходили в высокие кожаные сапоги или валенки. Над островерхими шлемами высоко вздымались сверкающие острия рогатин. Лошади, с точки зрения родившейся в двадцатом веке Юли, были низковаты, но широкие копыта, кованые шипастыми подковами, все равно достаточно весомо впечатывались в мерзлую землю, заставляя ее гудеть, словно туго натянутую на барабан шкуру.
Рать поравнялась с молодой женщиной, прошла мимо. Юля, после короткого колебания, неумело перекрестила их спины и поднялась в седло, двинувшись в обратную сторону – к оставленным под охраной нескольких десятков оружных смердов заводным коням, навьюченным вьюками с дорожными припасами.
Татарский лагерь находился всего в получасе пути за стоянкой уничтоженного разъезда – несколько сотен темных шатров, из макушек которых тянулись дымки, стоптанный до земли снег, множество небольших человеческих фигурок. Русские мчались молча, без обычного воинского клича, не стреляли из луков, предваряя атаку – однако скрыто налететь многотысячным войском все равно невозможно, а потому фигурки в теплых стеганных халатах заметались, расхватывая щиты и копья, обнажая сабли. И все же самого главного сделать они не могли: кони паслись в стороне от лагеря и добежать до них, оседлать, подняться в седло татарские воины не успевали.
Кованая конница захлестнула лагерь, и он моментально наполнился криками боли и стонами умирающих людей. Низко опущенные рогатины пробивали врагов насквозь. Некоторых – вместе со щитами и доспехами, коли кто-то успевал их одеть. Зачастую копья застревали в телах – и тогда всадники бросали их, выхватывали сабли и кистени, разя смертоносным оружием направо и налево. Стальные грузила, врезаясь в мягкие тела, ломали кости и раскалывали черепа, остро отточенные кривые клинки, падая с разогнавшихся вскачь коней, рассекали татар от плеч до пояса, сносили головы, кроили черепа.
Смертоносный вал прокатился по лагерю от края и до края и, казалось, ничто не могло уцелеть позади него, но когда всадники стали разворачивать коней, они увидели, что за ними, перепрыгивая раненых и убитых продолжают бегать сотни людей, направляясь примерно в одну сторону – к коням. Бояре снова послали коней вперед. Теперь уже не в такой стремительный галоп. Они неспешно прочесывали разоренный лагерь, заезжая в шатры, добивая отдельных растерявшихся врагов, прихватывая попадающиеся на глаза наиболее ценные вещи. Пересеча лагерь снова, витязи снова развернулись в широкую лаву и ринулись в погоню за уцелевшими после учиненного побоища степняками.
Несколько сотен татар, благополучно выдержавших первый налет и вырвавшихся к своим скакунам, запрыгивали на спины коней, разворачивались и гнали их вперед – прочь, прочь, прочь! Скорее прочь от неминучей смерти!
Однако не проскакав и пары верст, они обнаружили впереди три ровные шеренги одетых в красные тегиляи и шапки стрельцов. Сзади наседала русская кованая конница, и степняки волей-неволей помчались на узкую полоску людей, отделяющую их от спасительного простора. Они неслись с гиканьем и лихим посвистом, размахивая обнаженными саблями, словно не спасались от смерти, а сами несли погибель всему живому.
Хмурые бородачи, спокойно глядя на мчащуюся массу, положили пищали на обухи бердышей, приладились, выбирая себе цели, и когда до татар осталось от силы сотня шагов, дружно нажали на спуск, опуская тлеющие фитили на пороховые полки. Прокатился закладывающий уши грохот, выросла белая дымная стена, под прикрытием которой стрельцы стали отбрасывать пищали и опускаться на одно колено, наклоняя бердыши вперед.
Изрядно поредевшая конная масса, пробив дым, налетела грудями скакунов прямо на стальные острия. Всадники, большинство которых держалось без седел, посыпались на землю, как перезрелый горох, частью попадая под копыта лошадей своих товарищей, частью успевая удержаться на ногах, зажатые со всех сторон горячими телами четвероногих любимцев.
Стрельцы, перехватывая бердыши у самого подтока, норовили достать таких бедолаг тяжелыми остриями топоров, либо, коли татарин пытался отмахиваться саблей, брались ближним хватом – одной рукой под косицу, другой за середину рукояти, принимали удары на широкое лезвие после чего кололи недруга подтоком или резали топором. Сзади татар кололи в спины подоспевшие бояре, и степняки, затравленные, словно волки, падали на землю один за другим. Вскоре все было кончено: на залитом кровью снегу остались только мертвые тела.
– Ну что, Дмитрий Федорович? – окликнул воеводу стоящий за стрельцами боярин с обнаженной саблей, одетый в зерцала поверх кольчуги панцирного плетения. – Всех татар ныне посекли, али ушел кто?
– Ушли, Петр Иванович, – оскольский воевода, самолично приведший кованую рать в Дикое Поле, отер саблю о суконный рукав зипуна и вернул ее в ножны. Пригладил рукой заиндевевшую бороду. – Тысяч пять басурман не побежало от нас, а в сторону тронулись. Кони у них возле лагеря стояли.
– Пять тысяч, говоришь? – раздвинув стрельцов, боярин подошел к воеводе, положил руки на луку седла. – Так может, нагоню я их со своими стрельцами, Дмитрий Федорович? То ведь не много, управлюсь…
– Не много, – понимающе усмехнувшись, согласился воевода. – Что же, Петр Иванович, ты государев дьяк, тебе и добивать Гирея. Славы у тебя отнимать не стану. А мне по воеводским хлопотам лучше в крепость вернуться. Негоже ее надолго без руки хозяйской оставлять. Долю вашу в промысле мы выделим, за то не беспокойся.
– Благодарствую, Дмитрий Федорович, – облегченно кивнул командующий стрельцами боярин и поворотился к своим воинам: – По коням, братцы! Есть для нас еще бранное дело.
Стрельцы, закидывая бердыши за спину и поднимая пищали, потянулись назад, по широкой натоптанной в снегу тропе, уходящей к недалекому табуну, поджидающему своих хозяев. Государь отрядил супротив крымчан, в помощь оскольскому воеводе, три тысячи опытных воинов. С такими силами московский дьяк раздавит трусливых степняков безо всякого труда.
Кандидат физических наук Александр Тирц, специалист по акустике твердых тел и генерации носителей зарядов, опустил обглоданную овечью масталыгу и поднял голову, настороженно прислушиваясь, потом отшвырнул кость в сторону, прямо на ковры, выпрямился во весь рост:
– Дай мне кирасу, ведьма. Польскую, с орлом, что хан Девлет подарил.
– Никак, скачет кто-то? – неуверенно предположила чуть полноватая рыжеволосая женщина лет тридцати с широкими бедрами, развитой грудью, алыми соблазнительными губами, вздернутым небольшим носиком, иссиня-черными бровями и миндалевидными зелеными глазами. – Табун сюда идет?
– Давай кирасу, дура! И сама одевайся!
Шаманка вскочила, кинулась к сундуку, прихватила две позолоченные половинки, поднесла их хозяину. Придержала наспинник, пока мужчина стягивал ремни. Кираса была снята с какого-то поляка неимоверных по здешним меркам размеров – но для двухметрового основателя клуба «Ливонский крест» она оказалась все-таки маловата и кандидату физических наук приходилось одевать ее прямо поверх тонкой шелковой рубахи.
– Меч! Ватник!
Поверх кирасы он накинул толстый стеганный халат с подрезанными полами, прихватил такую же стеганную шапку с длинными лисьими наушами – шлема нужного ему размера среди запасов Девлет-Гирея не нашлось.
– Давай ведьма, шевелись, одевайся!
– Что случилось, ифрит? – шаманка с явным сожалением бросила взгляд на недоеденное мясо. Конечно, оказавшись рабыней ифрита, она рисковала своим родовым даром, однако многие странные привычки этой нежити оказались очень приятными. Например, он запросто ел вместе с ней за одним столом и давал невольнице нормальное мясо, а не потроха.
– А ты думаешь, это для нас свежие табуны из Крыма гонят? Говорил я Девлету… – злобно скрипнул он зубами.
Снаружи послышались крики, стоны, лязг оружия.
– Тряпье хватай! – Тирц первым выскочил из шатра, на ходу обнажая тяжелый немецкий меч, и едва не лицом к лицу столкнулся с пролетающим мимо шатра русским боярином. При габаритах физика и низкорослости лошадки их головы оказались как раз на одном уровне.
Тирц успел отреагировать первым, ударив по шлему оголовьем меча – боярин вылетел из седла, но на физика уже налетал другой с занесенной саблей. Тирц подставил клинок под удар, попытался достать врага в спину – но русский мчался слишком быстро, и кончик меча лишь чиркнул по кольчуге.
– Ведьма, ты где!? – он резко присел, уворачиваясь от удара третьего боярина, рубанул навстречу – меч угодил плашмя поперек груди, и русский воин начал заваливаться на спину. Однако мчащаяся вскачь лошадь унесла его дальше, и Тирц так и не узнал, чем кончилась для врага стремительная схватка. Ни добить, ни в плен взять. – Ведьма!!!
Наконец шаманка выскочила из шатра. Тирц, пятясь в ожидании новых нападений, кивнул ей на коня, который топтался возле поверженного витязя.
– Садись!
Татарка не замедлила подчиниться, и ее хозяин, крутя головой во все стороны и не убирая меча, побежал вдоль лагеря.
– Менги-нукер!
Тирц увидел окруженного плотным кольцом телохранителей бея – верные нукеры успели осознать опасность и подвести Девлет-Гирею коня.
– Туда, уходите, – махнул физик рукой в западном направлении и сам побежал следом.
Из-за шатров появились еще полсотни татар. По счастью, Тирц догадался потребовать, чтобы коней не уводили, по обычаю, рыть подснежную траву вдалеке от лагеря, и теперь воины довольно быстро успели подняться в седло.
А от стоянки ширеевского рода накатывалась новая волна криков и лязга. Похоже, кованая конница развернулась и снова прочесывает лагерь копьями и саблями.
– Менги-нукера заберите! – требовательно закричал Девлет-Гирей, указывая в сторону сумасшедшего русского. Несколько телохранителей отделилось от плотного отряда и поскакало к нему.
Приблизилась еще одна полусотня – Тирц узнал татар Алги-мурзы, приставленного к нему Кароки-мурзой толи в качестве сторожа, толи в качестве охранника. Самого мурзы среди воинов не было, но зато имелось несколько коней без всадников.
– Ладно, видать сегодня умереть не получится, – Тирц кинул меч в ножны, неуклюже забрался на лошадь, оглянулся на шум приближающейся схватки. – На север гнать пытаются, псы русские. А мы на запад уйдем…
Отряд сорвался с места, и его скакун, не дожидаясь понукания, помчался вместе со всеми. Проскочив мимо крайних шатров, они вырвались в просторную заснеженную степь. Стало видно, что с западной стороны лагеря удалось выскользнуть из-под русского удара довольно многим воинам – и сейчас эти темные точки постепенно сбиваются во все более крупные массы. Еще немного, и под рукой Девлета опять соберется крупная армия – словно и не было только что опустошительного разгрома.
Вдалеке загрохотало.
– Так я и знал, – сплюнул Тирц, натягивая поводья. – Куда-то под пули хотели нас загнать, умники.
– Ты хорошо придумал оставить коней возле лагеря, Менги-нукер, – признал подъехавший ближе Девлет-Гирей. – Только они нас всех и вынесли.
– Я хорошо думал, когда не хотел в зимний поход идти, – огрызнулся Тирц. – Нет, потащились все-таки!
– Весной по размокшей степи коннице не пройти…
– Ну и где она теперь, твоя конница?!
Тирц знал, был совершенно уверен, что простоять незамеченными возле русских рубежей, по эту сторону Дикого Поля не получится. Наверняка или разъезд какой дальний наткнется, или купец слишком близко проедет, или кто из невольников сбежать исхитрится… Но татары каждый год жаловались, что по весне перейти через степь – хуже пытки, что лучше ее по холоду пересечь, а потом уже рядом с русскими землями дождаться, пока стает снег. Ну вот и дождались… Воинов из родов Ширеевых и Аргиновых, судя по всему, загнали в ловушку и сейчас добивают. Гиреевские тысячи, воины в которых принадлежали роду Мансуровых, большей частью уцелели, но потеряли весь скот, шатры, заводных коней – теперь, когда от войска осталось от силы треть, отбить лагерь назад наверняка не удастся. Там кованой конницы вдвое больше, чем татар будет.
– На север поворачивать надо, – злобно сплюнул Тирц. – Коли слишком рано ударим, посевную, может, не сорвем, но хоть что-то сделаем.
– У нас ни обоза, ни заводных коней, ни припасов… – попытался образумить его Девлет-бей, но русский только презрительно хмыкнул:
– А как ты степь собираешься обратно пересекать без обоза, коней и припасов?
– Уходить надо, Менги-нукер, – примирительно напомнил Девлет-Гирей. – Русские сейчас сечу закончат, и на нас повернут. Тогда точно никуда не попадем.
Тирц приподнялся на стременах, оглядел собравшийся отряд. Тысяч пять, не меньше. До Москвы с такими силами не дойдешь, но окраины потрепать получится.
– Назад не пойдем, пока хоть какого-то урона России не причиним, – твердо решил он и пнул пятками свою лошадь.
Собственно, положение оказавшихся в зимней степи татар было не столь уж безнадежным. Кони – если их не гнать постоянно вперед и вперед, вполне могут разрыть снег и выкопать из-под него прошлогоднюю траву. Люди могли зарезать и съесть нескольких скакунов. Вот только требовалось соблюсти два условия: найти топливо для костров чтобы зажарить мясо, и остановиться на месте хоть на пару дней, дабы кони могли поесть.
Здесь, вблизи русской рати, останавливаться новым лагерем было равносильно самоубийству, а потому татарские тысячи продолжали торопливо двигаться на запад, подальше от опасного врага.
К вечеру выяснилось, что московиты про спасшийся отряд не забыли – остановившись в темноте и заворачиваясь в халаты прямо возле лошадиных ног, воины могли наблюдать на ночном небе легкое зарево: это означало, что кто-то движется по их следам и костры, в отличие от татар, жжет без жалости. А потому голодных, замерзших, усталых и невыспавшихся степняков Тирц поднял еще задолго до рассвета и приказал садиться в седла.
Кони, такие же голодные, как и их всадники, двинулись неспешной рысью. Тут ничего не мог поделать даже он – ифрит, нежить, Менги-нукер, как его только не называли! Пусти скакунов в галоп – и через несколько часов пути они просто свалятся от усталости.
– Нам не уйти, Менги-нукер, – услышал он, как рядом кто-то негромко озвучил его мысли.
– Это ты, Алги-мурза? – усмехнулся физик. – Я рад, что ты остался жив.
– У них заводные лошади, торбы с овсом, даже дрова. Они сытые и отдохнувшие…
– Чего ты боишься, татарин? – криво усмехнулся Тирц. – Если нас догонят и перебьют, тебе не нужно будет оправдываться перед Кароки-мурзой за мою смерть. Во всем нужно видеть хорошее, а не плохое.
Татарин отнюдь не считал, что в смерти может быть хоть что-нибудь хорошее, но спорить не рискнул. Вчера он успел схватить кошель и любимую наложницу, так что лишился в лагере только двух шатров, арбы и четверки заводных коней, что паслись с общим табунов в двух днях пути. Обидно, но не разорительно. Он каждый год по два раза ходил с русским в Московию и успел добыть в ней вдесятеро больше, нежели вчера потерял. В конце концов удача не может быть вечной. Иногда Аллах, видя гордыню смертного, может лишить его своей милости… Но ведь не навсегда! Нужно молиться, проявить смирение, пожертвовать бедным достойный закат. А умирать не надо. Если ты умрешь, то как узнаешь, что твои старания не пропали даром?
Прочие воины тоже с надеждой поглядывали в сторону русского. Менги-нукер уже десятый год водил их в набеги на север. Иногда чуть ли не пинками гнал по раскисшим дорогам, иногда заставлял голодать, заводя в выжженную московитскими разъездами осеннюю пересохшую степь, иногда кидал на обороняемые стрельцами валы вслед за глиняными истуканами. Каждый год, по весне, во время сева, и осенью, в дни жатвы русский успешно доводил орду до вражеских поселений и, что немаловажно, так же успешно приводил обратно.
Сейчас, когда только чудо могло спасти усталые тысячи, жалкие остатки разгромленного войска, чуда ждали именно от него.
– К вечеру догонят, – словно невзначай высказался Гумер, десятник Алги-мурзы. – Наши кони от усталости еле ноги переставляют. А русские своих поутру наверняка овсом кормили. И уже дважды с усталых скакунов на заводных пересаживались.
– Найди мне немного весны, Гумер, – криво усмехнулся Тирц, – и тогда я спасу твою никчемную жизнь.
– Где же весну сейчас найдешь, Менги-нукер? – удивленно пожал плечами татарин, на миг забыв о тревоге. – Снег вокруг.
– Вот именно, – кивнул Тирц. – Снег. И не жалуйся в следующий раз, что земля на копытах пудами висит, когда по весне через степь пойдем…
– Еще пойдем… Пойдем… – прошелестели по рядам всадников пробуждающие надежду слова. Раз русский говорит о новых походах, значит, знает, как успешно завершить этот.
Длинная лента из едущих по пятеро в ряд всадников обогнула очередной пологий взгорок. Тирц повернул коня, поднялся на вершину. Осмотрелся по сторонам, ничего интересного не обнаружил. Повернул голову назад. Померещилось, что где-то у горизонта происходит движение. Он прикрыл глаза от солнца ладонью, вгляделся… Нет, не видно. Но рано или поздно там несомненно кто-то появится. Не может не появиться. Вопрос в том, кто успеет найти удачу первым.
Он прихлопнул лошадь ладонью по крупу, и та помчалась вперед, к самым первым рядам. Здесь Тирц перешел на шаг, продолжая посматривать по сторонам в поисках единственного шанса для измученного отряда. Всадники перевалили очередной гребень, спустились в узкую и длинную прогалину. Под копытами непривычно гулко отозвалась земля.
– Стоять! – вскинул физин руку, спрыгнул вниз и торопливо разбросал снег.
Есть! Под толстым слоем снега действительно скрывался неширокий, закованный в лед ручей.
– А ну, слезайте! – скомандовал ближним татарам Тирц. – Лед колите! Весь! Вот от сих и до сих, на сто шагов в длину.
Воины, не очень понимая, чего добивается русский, но все-таки надеясь на его находчивость, принялись кромсать лед кто имеющимися топориками, а кто толстыми острыми ножами. В стороны полетели сверкающие осколки, снег начал темнеть от сочащийся под него воды.
– Что ты делаешь, Менги-нукер? – поинтересовался подъехавший ближе Девлет-Гирей.
– Тепло ищу… – Тирц нервно потер рукой подбородок. – Раз вода течет и не замерзает, значит под ней тепло, так?
Он растолкал воинов, вошел прямо в ручей, по локоть опустил руки в мерзлую воду, выпрямился и довольно захохотал. С пальцев его медленно стекала вниз голубоватая глина.
– Копать, всем копать! – мгновенно понял его мысль бей. – Глину на берег выбрасывайте! Скорее, русские уже близко.
– Ну что, слезай, – оставив нукеров работать, вернулся к своему коню и гарцующей рядом шаманке Тирц. – У нас тут снова намечаются роды. Готовься.
На этот раз тряпками ничего не выстилали – глиняную фигуру выкладывали прямо на снегу. Физик с помощью ножа придавал голове хотя бы приблизительные человеческие формы, а степняки в это время, торопливо таская шлемами и руками грязь из русла на берег, выкладывали руки, туловище, ноги.
– Московиты! Я вижу московитов!
– Вот черт! – Тирц посмотрел на получившиеся под четырехметровым телом куцые двухметровые ножки, но времени доделывать скульптуру до правильных пропорций уже не оставалось: – Ведьма, иди сюда! Начинай!
– Мы… – голос шаманки дрогнул. – Мы оставили суму со всеми моими припасами… В шатре…
– Ва, Аллах… – Алги-мурза, заметно побледнев, вцепился рукой себе в куцую бородку.
– Что Аллах?! – повернул к нему лицо русский. – Нож давай, и шапку. Надеюсь, ведьма, нужные слова ты в шатре не забыла?
«Если из мертвой глины сложить бездыханного человека и наполнить его сердце кровью нежити, то слова жизни смогут оживить даже его…» Старинная присказка единственного сохранившегося в причерноморских землях древнего степного рода, отзвук неведомых знаний, сгинувших вместе с открывшими их народами под напором юных энергичных цивилизаций. Великая тайна предков, замаскированная под обычную сказку. Сказку, которая остается таковой, пока неожиданно не понимаешь, что нежить – это ты сам. Потому, что человек, которому предстоит родиться только через четыреста пятьдесят лет, не может быть для этого мира нормальным существом.
– Ты не забыла нужные слова, ведьма?
– Нет, ифрит, – покачала шаманка головой и взяла протянутые татарином оружие и войлочный подшлемник. – Много крови впитается…
– Впитается не прольется… Режь!
Стал ясно различим нарастающий дробный конский топот. Судя по звуку, преследователи обтекали сбившийся вокруг Менги-нукера татарский отряд с двух сторон, отрезая пути отхода. Теперь все зависело от того, как станут действовать стрельцы – либо, обнажив сабли, сразу ринутся в атаку, либо спешатся и, сблизившись на расстояние в половину полета стрелы, попытаются расстрелять степняков из пищалей.
Колдунья поднесла под руку Тирца подшлемник, потом резанула ножом наискось по внутренней стороне предплечья. Русский поморщился, но ничего не сказал. Кровь поструилась по пальцам, часто-часто закапала в шапку. Все терпеливо ждали, опасливо оглядываясь на маячащих на ближних взгорках всадников в алых тегиляях.
Наконец подшлемник наполнился почти до краев. Шаманка протянула своему хозяину тряпочку, которую тот сразу прижал к ране, потом пошла к глиняному уродцу. Ударом ножа пробила ему в груди широкую, глубокую дыру, перешла к голове, прорезала глубже щель рта, что-то туда опустила, замазала. Вернулась к груди, вылила всю кровь в приготовленное отверстие, потом бросила туда же всю шапку и замазала ее глиной.
– Они спешиваются, Менги-нукер.
– Вижу, – кивнул Алги-мурзе русский.
Что же, стрельцы поступали вполне разумно. Какой смысл кидаться в атаку и терять людей в сече, если окруженные в заснеженной степи враги не имеют никаких припасов? Немного терпения, и они сами передохнут от холода и бескормицы. А захотят вырваться из кольца – пусть сами кидаются под свинцовый жребий, напарываются грудью на бердыши, подставляют дурные головы под острую сталь.
Женщина подошла к голове коротконогой глиняной фигуре, присела рядом с тем местом, где должно находиться ухо, прошептала что-то одними губами – и отскочила в сторону. В глиняной куче произошли изменения. Некое странное, невидимое глазу, но ощутимое душой превращение. Появилась та неуловимая разница, которая позволяет отличить снятую с овцы шкуру – от шкуры живой овцы, клык оскалившегося волка – от выпавшего зуба, спину затаившейся куропатки – от мертвого камня.
– Где Девлет-Гирей? – русский затянул тряпицей рану на руке, и указал в сторону выстраивающихся между взгорками, ниже по ручью, стрельцов. – Их нужно отвлечь!
– Халил, Аяз, Таки! – послышался срывающийся на крик голос. – Разворачивайте свои сотни! На коней!
Оказывается, его услышали. Да и не удивительно: пятьдесят сотен воинов сгрудились вокруг глиняной фигуры – своей последней надежды на спасение. И поэтому ни один из них не шелохнулся, пока русский не ткнул вытянул в сторону голема своим пальцем, и не скомандовал:
– Вставай!
На протяжении нескольких мгновений ничего не происходило. Потом вязкие, истекающие ледяной водой руки приподнялись и разошлись в стороны.
– Ва-алла! – послышались радостные возгласы. Души воинов снова наполнились отвагой, а тела обрели новые силы. Татары устремились к скакунам, твердо зная: еще немного, один хороший натиск, и они победят.
– Вставай, – повторил Тирц, протягивая руки к голему: плоть от плоти, кровь от крови своей. – Вставай!
Глиняный ребенок послушался – перевалился на живот, оперся о землю руками, поднялся на короткие ножки. Остановился, немного склонил голову набок, словно пытаясь осознать происходящие внутри изменения.
– Иди туда, – показал Тирц в сторону обошедшего татар с севера отряда стрельцов. – Убей их всех!
Между тем, пришедшие из-под Тулы городовые стрельцы неспешно обустраивали бивуак – расседлывали коней, снимали с их спин сумки, отгоняли скакунов в сторону, дабы катыши свои между людей не валились. Дьяк Петр Иванович Шермов вполне резонно полагал, что татары, которых гнали два дня напролет, просто не имеют сил для натиска на свежий отряд, а потому, отрезав степнякам пятью сотнями воинов пути отхода на юг, и еще пятью сотнями оборонив будущий лагерь, спокойно располагался на длительную стоянку.
Мысленно он прикидывал, что еще одна ночевка в холодной степи без костров и еды лишит врагов последних сил, и завтра он сможет взять их хоть голыми руками, продав полонян в Ельце или Донцове, а хана и его мурз самолично доставит пред царские очи.
Однако в те самые мгновения, когда он, самолично отпустив коню подпругу, кинул повод холопу, взял из его рук медную чарку и опрокинул в горло столь приятную на холодке можжевеловую водку, отерши губы бородой, сотники Девлет-бея Халил, Аяз и Таки уже вели телохранителей Гирея в стремительную атаку. Татары не обнажали клинков – они мчались вперед, торопливо опустошая свои колчаны, выбрасывая одну за другой стрелы в сторону ненавистных красных кафтанов.
Стальные наконечники резали толстое сукно, подбитое паклей, ватой и конским волосом, стучали по широким лезвиям бердышей, застревали в длинных полах, иногда вонзались в лица, заставляя людей вскрикивать от боли либо замертво падать в снег. В сотне шагов от ровного стрелецкого строя степняки начали заворачивать коней – но тут кованые стволы пищалей с оглушительным грохотом выплеснули клубы белого дыма и несчетное количество тяжелых свинцовых капель.
Картечь хищно врезалась во взмыленные бока лошадей и человеческие тела – сразу несколько десятков скакунов неожиданно закувыркались по земле, давя своих всадников. Еще пять или шесть коней не успели перескочить неожиданно возникшее препятствие и тоже слетели с ног. Послышалось жалобное ржание, болезненные крики людей.
Стрельцы, понимая, что начавшие разворот татары сейчас на них не навалятся, опустили пищали прикладами на землю, и принялись рвать патроны, высыпая порох в стволы, накрывая его пыжом и прибивая прикладами. Сверху сыпанули жребий – крупнокалиберную дробь, тоже прижали пыжом. К тому моменту, когда ветер начал развеивать дым, почти все воины были готовы к новому залпу.
Как ни странно, но татары не воспользовались возможностью, чтобы преодолеть залитую кровью полосу между собой и пешими врагами, пока те перезаряжают оружие. Они гарцевали на расстоянии полета стрелы и явно чего-то ожидали, наблюдая, как стелется над заснеженным полем горячий пар, возникающий над вытекающей из множества ран кровью, как один из их сородичей – пышноусый, в островерхом русском шлеме, пытается, зажимая живот, уползти в сторону, дабы его не затоптали свои же во время следующей атаки.
– Ну же, идите сюда! – со смехом крикнул один из молодых стрельцов. – Идите, у нас свинца на всех хватит!
В ответ прилетела и вонзилась в землю у его ног длинная тонкая стрела. Потом еще одна.
– Мало каши ели! – помахал рукой стрелец. – Али баранина ночью холодной была?! Свинину ешь, тогда сила появится!
Не выдержав оскорбления, от татарского отряда отделился всадник, помчался вперед, торопливо выпустив одну за другой сразу три стрелы – но в цель не попал и рванул правый повод, заворачивая коня. Стрелец, опустив пищаль на ратовище бердыша, нажал большим пальцем спуск. Полыхнул порох на полке, вытянулась в сторону тонкая игла уходящего вглубь ствола пламени, оглушительно грохнул выстрел. Однако за то время, пока огонь успел добраться от фитиля до заряда в стволе, всадник успел промчаться несколько шагов, и ни одна из полутора десятка картечин не достала ни до него самого, ни до его лошади.
Тут же выскочил на поле и помчал вдоль стрелецкого строя, на расстоянии сотни саженей, другой лихой воин, громко выкрикивая:
– Русские, сдавайтесь! Погибнете все! Сдавайтесь!
Следом за ним с теми же криками помчался другой татарин. Для пищали, да еще снаряженной картечью, сто саженей – почти три сотни шагов, было далековато и по степнякам никто не стрелял.
– Скачите, скачите, – покачал головой один из стрельцов. – Скачите, пока сила есть. Завтра на карачках ползать станете…
Дьяк Шермов, услышав выстрелы, недовольно поморщился – нетерпеливые татары рушили все его планы. Они собирались погибнуть сегодня, вместо того, чтобы сдаться завтра. Теперь нужно было либо поднимать стрельцов обратно в седло и бить степняков в спину, коли они навалились на дальний отряд слишком сильно, либо продолжать ждать, если вороги кидаются из стороны в сторону просто в отчаянии и сильной опасности пяти сотням сторожевой заставы нет.
– Салих, еще горячего! – крикнул боярин, поправляя сбившийся с плеча бобровый налатник.
Купленный три года тому назад в Твери узкоглазый холоп понимающе кинулся к суме, наполнил чарку из объемистого бурдюка, поднес барину. Петр Иванович выпил, передернул плечами, привычны жестом промакнул губы кончиком длинной окладистой бороды. Потом, переваливаясь с боку на бок, начал подниматься на ближний пологий холм. Прежде чем решить, как следует поступать, поперва следует своими очами на поле брани взглянуть. Однако с вершины он увидел не степь и перемещающихся по ней воинов, а нескладную коротконогую фигуру, кое-как слепленную из сырой глины, и поднимающуюся навстречу, оставляя за собой мокрые следы.
– А это еще чего? – боярин даже не удивился, увидев голема. Зрелище оказалось столь невероятным, что он просто не поверил своим глазам и отчаянно пытался понять, откуда могло взяться столь странное явление.
Голем тоже остановился, медленно сжал руку в кулак, поднял его над собой и аккуратно опустил на макушку государева дьяка. Склонил голову набок, отвел руку в сторону, с любопытством созерцая исковерканное тело, а потом двинулся дальше.
– Свят, свят, свят… – испуганно закрестились при виде жуткого чудища стрельцы.
Молчаливый глиняный человек, забавно перебирая толстыми короткими ножками, устремился к ним.
– А-а-а!!! – некоторые из воинов, бросая оружие и забыв про стреноженных неподалеку коней, сразу бросились бежать. Кое-кто, торопливо запаливая фитили, стали укладывать пищали на бердыши.
Загрохотали беспорядочные выстрелы – за холмом сидящий на потнике Александр Тирц скривился и зашипел от боли.
Но причиняя боль отцу голема, пули и картечины не наносили никакого видимого вреда самому монстру. Свинцовые шарики со звучным чмоканьем входили в глину – и просто оставались в ней, а уродливый гигант лихорадочно шлепал кулаками по суетящимся вокруг маленьким существам, калеча и убивая недругов.
Самые храбрые из стрельцов пытались рубить ноги глиняного человека бердышами, отхватывая крупные ломти мертвой плоти – но каждый удар бесчувственного гиганта истреблял их десятками, а потому вскоре выжили только те, в сознаниях которых укоренилась лишь одна-единственная мысль: бежать!
– Ко мне… – прошептал, тяжело дыша, Тирц. Боль, мучившая его последние несколько минут, наконец-то отпустила. Это значило, что схватка за холмом закончилась, и голема пора отправлять в другую сторону. Физик не кричал. Он прекрасно знал, что глиняный человек услышит его в любом случае.
– Что ты говоришь, Менги-нукер? – отодвинув шаманку, склонился к русскому Алги-мурза, охранявший его с двумя полусотнями воинов из своего рода.
– Ты, татарин, – схватил его за ворот халата русский, – гони стрельцов. Они бегут. Гони их и руби всех!
Отпустил Алги-мурзу, Тирц улыбнулся, закрыл глаза и мысленно обратился к своему ребенку:
– А ты иди вдоль ручья и убей всех людей в красных одеждах, кого только увидишь.
Спустя несколько минут многотонная махина, с хрустом давя раскиданный возле русла лед, прошагала мимо потника, заставив шаманку пригнуть голову и затаить дыхание. Тирц откинулся на спину и закрыл глаза, приготовившись к новой волне боли.
– Русские, сдавайтесь! – выкрикнул очередной лихой татарин, и помчался вдоль русского строя с разбойничьим посвистом. Кончики граненых стволов медленно повернулись вслед за ним, но никто опять не выстрелил.
– Русский, в плен иди! На сестер своих посмотришь! Обрюхатить дам! – вконец обнаглевший степняк на этот раз даже не пустил коня вскачь, думая, что находится на безопасном расстоянии – но он не знал, что тяжелая свинцовая пуля летит, может, и не так далеко, как стрела, но зато почти вдвое дальше картечи. И что многие из стрельцов закатали в стволы вместо жребия именно пули.
Б-бах, Ба-бах! Два выстрела громыхнули почти одновременно, и наглый татарин не просто рухнул на землю – он вылетел из седла и шмякнулся в снег почти в пяти шагах за крупом коня.
– Не слышу! – По русским рядам прокатился довольный смешок. – Ближе подъезжай! Не слышу, что говоришь!
В воздухе опять запели стрелы. Но боевой припас степняки, видимо, бросили в разгромленном лагере, имея с собой от силы по колчану, а потому стрелы берегли. Вместо густого смертоносного ливня на русский строй падали лишь отдельные вестницы смерти. Опять зазвякали под ударами наконечников бердыши, опять послышалась ругань и болезненные выкрики – но длиннополые тегиляи уберегали людей от тяжелых ран. Сблизиться на расстояние прямого выстрела, когда целишься врагу точно в грудь, а не метаешь навесные стрелы на пределе дальности степняки боялись.
– Эй, татарин, сюда иди! Тут кто-то золотой потерял. Хватай, не то подберу.
Неожиданно конница всей массой резко качнулась вперед, подалась в стороны и вдоль ручья к стрельцам зашагал, перекачиваясь с боку на бок, словно детский бычок по наклонной дощечке, несуразный уродец. Короткие ноги, похожее на бочку туловище, длинные, едва не волочащиеся по земле руки. Вот только росту в этом уродце было никак не меньше пяти человеческих.
– Господи, спаси помилуй и сохрани грешного раба твоего… – начали креститься стрельцы, но тут послышался уверенный голос сотника:
– В грудь цельтесь нехристю, в грудь! Все вместе готовьтесь! Пали!
Ряды русских воинов жахнули огнем – и странное чудовище, взмахнув своими нелепыми руками, опрокинулось на спину.
– Ур-ра-а-а!!! – радостно закричали воины, отбрасывая пищали и хватаясь за бердыши: – Бей татар! Москва-а-а!!!
Они дружно, в едином порыве ринулись вперед, готовясь опрокинуть, разогнать рыхлую усталую конницу, но тут чудище, опершись руками о землю, село, а потом поднялось на ноги.
– Мы разгромили их, Менги-нукер! – бей Девлет из рода Гиреевых от полноты чувств натянул поводья, поднимая жеребцы на дыбы. – Мы перебили всех! Аллах свидетель – Алги-мурза со своими сотнями гнал стрельцов едва не до Сейма и порубил не меньше тысячи! Одних коней тысяч десять взяли!
Распластавшийся на попоне Тирц глухо закашлялся, зажимая ворот на груди. Татарин осекся, потом вспомнил:
– У русских мы две палатки тряпичные нашли. Я велел одну для тебя поставить. Туда иди, отдыхай. Что еще пожелаешь? Все сделаю!
– Кровь он опять отдавал, – ответила за хозяина шаманка. – Еды ему нужно горячей. Мяса.
– Хочешь, я вырву для тебя сердце русского воеводы?!
– Обойдусь бараниной, – хрипло ответил Тирц, усаживаясь на попоне. – Нукеры твои целы?
– Меньше полусотни перед стрельцами полегло, – усмехнулся в усы бей. – Про такую победу самому султану отписать не стыдно.
Про десять тысяч воинов чужих крымских родов, попавшихся в западню в зимнем лагере, Девлет-Гирей уже и не вспоминал. То была битва давнишняя, еще вчерашняя, а вот сейчас, на безымянном ручье, они перебили тысячи русских, потеряв всего полсотни нукеров.
– Мяса ему нужно, – перебила бея шаманка.
– Сейчас, распоряжусь. У русских в котомках наверняка что-то есть, – пнул Гирей пятками своего арабского жеребца. Он был слишком рад победе, чтобы заметить грубость рабыни. А может, предпочел сделать вид, что слишком рад. Все-таки, некие слова на ухо глиняному человеку шептала именно она.
На следующее утро Тирц проснулся от холода. Нутряного пронизывающего холода, от которого не могли спасти ни тонкие белые стены палатки, ни две попоны и медвежья шкура, брошенные на снег, ни такая же шкура, лежащая сверху, ни шаманка, вытянувшаяся рядом с ним. Рабыня поступала так почти всегда, когда ему приходилось отдавать свою кровь – грела своим телом. Рабская преданность…
На самом деле, конечно, ей просто некуда было бежать. Она не могла вернуться в свой род, где ее сразу найдут. Да запуганный тамошний мурза сам первый притащит назад взятую десять лет назад грязную колдунью!
Куда еще могла податься шаманка? Шляться бездомной, вечно голодной побирушкой? Сколько месяцев она так протянет? Скорее всего, только до осени – до первых холодов. Как только в степи ударят заморозки – она околеет ближайшей ночью. Уж лучше спасаться от холода…
Тирц с внезапной ясностью осознал, что все его мысли возвращаются к одному и тому же, резко встряхнулся, откинул край шкуры и выбрался из палатки наружу.
Светало. Солнце, пока еще скрытое в искрящейся морозной дымке, только-только выбиралось из-за горизонта. Изо рта, тут же оседая на ворсе малахая мелкими капельками, вырывался густой пар, чуть вдалеке бродило два пегих коня. А может – лошади. Хотя, скорее всего, мерина – жеребцов татары недолюбливали. Во всяком случае – в походы на них не ходили. Разве только Девлет-Гирей выпендривался, да еще один-два мурзы. Впрочем, какая разница? Главное, что вчера степняки разорили русские чересседельные сумки и вдосталь насыпали своим скакунам золотистого ячменя – приговаривая, впрочем, что это очень вредно для лошадиного брюха. Колики от чистого зерна у них случаются.
Поежившись, Тирц двинулся к ручью, вокруг которого вчера разгорелся смертный бой. Холодная ночь заметно изменила казавшийся ввечеру страшным пейзаж: почти черные и неимоверно парившие лужи крови стали просто бурыми пятнами, скорчившиеся в предсмертной муке люди превратились в подобие изваяний – выпученные зрачки покрылись изморозью, на бровях и ресницах осел иней. Никто не ползал, не выл, не молил о смерти, как о последней милости: все подернулось мирной благодатной тишиной.
Впрочем, физика интересовали не люди. Пересеча вчерашнее поле боя, он остановился за спиной голема. Тяжело вздохнул.
Разумеется, как ни был массивен глиняный человек, как долго он не сохранял свою изначальную температуру – но мороз добрался и до него. Влажная глина превратилась в камень, в единый прочный неподвижный монолит. Нет, голем не умер – да и как может умереть и без того мертвая глина? Но теперь до самых оттепелей он стал безнадежно неподвижен. Замерз – а вместе с ним неистребимые муки холода испытывал и его отец.
Может, вместо того, чтобы мучиться еще не меньше полумесяца, испытать однократную, но короткую боль?
Тирц развернулся, направился к стрельцам.
Разумеется, татары успели собрать у них все оружие. В том числе и пищали. Сами степняки подобным оружием не пользовались – лук легче, дальше стреляет, да и с коня с него бить удобнее. Но европейские купцы в Балык-Кае, Кырык-Оре и Солхате охотно покупали боевое оружие всех видов. Почти три тысячи пищальных стволов – целое богатство. А вот берендейки с патронами грабителей не заинтересовали – куда их девать?
Русский открыл одну берендейку, выкатил на ладонь четыре бумажных свертка с пороховым зарядом и свинцовыми пулями. Потом заглянул в другую, третью… И махнул рукой: чтобы собрать порох для хорошего взрыва пришлось бы разворошить патроны всего стрелецкого отряда. Тирц заподозрил, что весна с неизбежными оттепелями наступит раньше.
Он повернул обратно, и вскоре вернулся в лагерь.
Здесь уже наступало утро: татары поднимались, отряхивались, ходили проверять коней, резали солонину, обильно присыпая ее трофейной солью с перцем. Сотники отправляли разъезды сменить ночную стражу. Дымком пахло только от палаток – двух на весь лагерь. Это нукеры пытались согреть воду для бея и шаманка запекала для своего хозяина шмат лошадиного мяса.
– Рад видеть тебя, Менги-нукер, – Девлет-Гирей вышел из палатки одетым только в тонкие шелковые шаровары и овчинную душегрейку. – Ты ходил на поле боя?
– Да, – кивнул Тирц. – Увидеть его вчера мне не удалось.
– Это была великая битва, Менги-нукер! Теперь нам не стыдно возвращаться в Крым. Есть чего показать Кароки-мурзе, чем похвалиться перед беями, что сменять у купцов на звонкое серебро.
– Это потом, – покачал головой физик.
– Что «потом»? – не понял татарин.
– Хвастаться будем потом. Март на дворе, весна. Скоро посевная. Пора идти на Россию.
– Да у нас… У нас даже обоза нет, – развел руками бей. – Ни шатров, ни повозок.
– Возьмем в русских землях.
– Мои нукеры устали.
– Они успеют отдохнуть в пути.
– У нас мало сил!
– Вполне достаточно, чтобы разогнать русских по лесам и крепостям.
– Но зачем?! Мы одержали победу и взяли достаточно добычи, чтобы с честью вернуться назад! Зачем?
– Ты и Кароки-мурза обещали мне, что каждую весну и каждую осень бы будем ходить в набег на Россию, – холодно напомнил Тирц. – Весна наступает.
– Но почему не пропустить одну весну? Что от этого изменится?
– Русские смогут посеять хлеб. И смогут собрать хотя бы часть. И тогда они избавятся от голода.
Менги-нукер смотрел не на бея, а куда-то ему за левое ухо, отчего татарин чувствовал себя очень неуютно.
– Ты говоришь это уже десять лет! – повысил голос бей. – Ты обещал, что через десять лет Московия рухнет, а я сяду на своем законном русском троне. Ну и где обещанный трон?!
– Ты хочешь, чтобы русские принесли его тебе прямо сюда? – поморщился Тирц. – Россия уже качается и вот-вот упадет. Достаточно хорошего, сильного удара. Ее нужно бить постоянно, иначе она оправится за один-два года.
– Со мной осталось всего пять тысяч всадников, Менги-нукер, – покачал головой бей. – Они храбрые воины, но их не хватит для такого сильного удара, чтобы покорить Московию…
– Мы все равно пойдем туда, – отчеканил Тирц, глядя Гирею прямо в глаза, – мы станем ходить туда осенью и весной даже если из всей армии останусь я один!
Глава 2
Дыханье империи
Серпуховская дорога повернула в чистую березовую рощу, и кавалькада всадников бесшумно понеслась между покрытыми инеем стволами. Широкий тракт, снег на котором успели мелко перемолоть тысячи копыт и сотни санных полозьев, принимал в себя удары копыт без единого звука, и создавалось впечатление, что мчащийся отряд нереален, что это всего лишь призраки, выплывшие из потустороннего мира на залитый ярким зимним солнцем свет.
Встречные смерды останавливали повозки, низко кланялись, ломая шапки. Некоторые крестились, дивясь странному зрелищу: два десятка отроков одетых в яркие синие, малиновые, зеленые и желтые зипуны, подбитые куньим, енотовым, соболиным мехом, в атласных шароварах и шитых катурлином валенках, на хороших конях, в дорогих беличьих шапках, средь которых так же скачет во весь опор монах в обычной потертой суконной рясе, опоясанный толстой пеньковой веревкой, с натянутым на голову капюшоном.
Как оказался монах в числе явно небедных бояр или княжеских холопов? Если схватили по навету, или приглашен к кому-то из бояр – почему везут его не в санях, почему верхом мчится, словно брошенный супротив заговорщика государев кромешник? Оружия при нем нет, головы собачей или метлы у седла – тоже. А коли черноризинец божий сам куда-то путь держит – откуда у него такая свита?
Следом за отрядом мчался налегке табун из полусотни лошадей, который и вовсе ставил смердов в тупик: зачем заводные кони на проезжем тракте, коли на каждом яме путников ждет две-три сотни свежих, отдохнувших коней? Разве только князья али купцы богатые, породистых личных скакунов казенным предпочитающие, роскошь такую себе позволить могли…
Вытянувшись в узкую струйку, отряд обогнал по середине дороги длинный обоз, груженый рыбой, несколько замедлил шаг, снова собираясь в плотную группу – монах оказался в самой середине – после чего опять перешел на стремительный безжалостный галоп.
Купец, опустивший было руку на кнут, вздохнул с облегчением и перекрестился: он прекрасно знал, что у внешне безоружных, мирных людей в рукавах или за пазухой несомненно находились легкие, но смертоносные кистени – кто же на Руси без кистеня из дома выходит? А коли засапожные ножи к этому добавить, да плети треххвостки – и понимающему человеку становилось понятно, что никаким станишникам, татарам, али иным душегубам к этим молодцам лучше не приближаться. Да и одинокому путнику – тоже.
Знал бы купец, что в сумках у всадников упрятаны стальные пищали с кремневыми колесцовыми замками! Вовсе предпочел бы отъехать от греха прочь с дороги…
Кавалькада перешла на рысь, около версты прошла обычным широким наметом, после чего втянулась на обширный двор дорожного яма – темного, в два жилья, бревенчатого дома, ближний угол которого успел слегка просесть, нескольких навесов для коней и сена и обширный скотный двор.
Путники спешились. Один из них подбежал к монаху, принял поводья коня, отпустил поводья, снял седло, потник. Прихватив пук соломы, принялся вычищать от пены коричневатую шкуру. Монах, потягиваясь и поводя плечами, двинулся по двору. Опасливо обойдя лошадей стороной, он приблизился к кузнице, из распахнутой двери которой слышалось мерное звяканье, некоторое время наблюдал за происходящим внутри, потом поднял глаза к небу.
– У них есть утка в кислой капусте, барин, – подошел отрок в малиновом зипуне с желтым шнуром на швах, – копченый гусь, вареная убоина, запеченные молочные поросята, солонина, бараний окорок, правда, еще сырой, холодная осетрина, семга, печеный судак, курица, сорочинская ярмарка, греча с грибами, копченая кумжа…
Холоп запнулся, пытаясь припомнить, что еще имеется в местном меню.
– Ты знаешь, что завтра восьмое марта, Антип? – поинтересовался монах, глядя на покачивающиеся на ветру ветки.
– Да, барин, помню, – кивнул парень.
– Я все никак привыкнуть не могу. Восьмое марта, а всем все по барабану. Никто не бегает, не суетится. Мимозой на углах никто не торгует.
– Да, барин, – на всякий случай поддакнул холоп.
Монах опустил взгляд на него, укоризненно покачал головой. Вздохнул:
– Кумжу буду копченую, и гречу с грибами.
– А нам что спросить?
– Да ешьте что хотите, – отмахнулся монах.
Довольный ответом отрок убежал. Вскоре молодые парни выволокли из дома длинный сосновый стол, споро накрыли его вынутой из сумы скатертью, поставили серебряный кубок, небольшой графин чуть розоватого стекла, пару широких фарфоровых тарелок, похожих на драгоценные китайские.
Следом из дверей вышел грузный бородатый простоволосый мужик с густой черной бородой, в толстой душегрейке, с расстегнутой на груди темно-коричневой косовороткой, расстегнутой на груди. На шее поблескивало широкое, в три пальца, украшенное алыми яхонтами колье. Коричневые шаровары из тонкой шерсти опускались до мягких войлочных туфель, подшитых кожей.
За мужиком выбралась женщина с ковшом в руках. Такая же дородная, одета она была куда сложнее: на волосах лежал тонкий батистовый, но шитый жемчугом платок, из-под которого выглядывала красная шелковая сетка, все это прикрывала парчовая шапка с меховой обивкой. Широкое пурпурное платье, опашню, украшали длинные, до земли рукава. Расстегнутое впереди, платье позволяло увидеть еще пару слоев шелковой ткани и атласа, причем на каждой из одежд поблескивали какие-то дорогие самоцветы и жемчуга. С ушей свисали золотые серьги, с шеи – несколько нитей разных бус и ожерелий. Оставалось загадкой, как несчастной бабе удается устоять на ногах под этакой грудой сокровищ.
– Стефан Первушин я, – широко перекрестившись, поклонился монаху мужик. – Милостью государя целовальник, смотритель за здешним ямом. Не желаете сбитеню горячего с дороги?
– Отчего же не выпить, – путник откинул капюшон и тряхнул коротко стриженными волосами. – С удовольствием.
Хозяйка вздрогнула от неожиданности, увидев гладко выбритое, а потому показавшееся очень молодым лицо, потом спохватилась, протянула корец. Монах жадно осушил посудину, дохнул особенно густым после горячего напитка паром.
– Спасибо, вкусная вещь, – вернул он корец женщине. – А скажи, хозяин, отчего у тебя угол у дома покосился? Почему не поправишь?
– Дык, – пожал плечами Первушин, – Как пожар будет, так потом ровно и отстрою. Чего лишний раз дом ворошить?
– Давно, что ли, пожара не случалось?
– Уж годков тридцать Бог милует, – торопливо перекрестился хозяин. – Долго ужо.
– От, бред… российский, – рассмеялся монах. – И понимаю, что бардак и лень, и разозлиться не могу.
Тем временем холопы накрыли стол, принесли скамью.
– Садись, барин, – пригласил Антип, кинув рядом с тарелкой чистую сатиновую тряпицу.
– Отчего в дом не войдешь… э-э-э… – смотритель яма задумался, не зная как обратиться, но быстро вывернулся: – Гость дорогой?
– Взопреть в тепле боюсь, – монах уселся за стол. – Дорога еще дальняя. Кстати, холопы мои что заказали?
– Поросят молочных…
– От, засранцы, – покачал головой гость, придвигая к себе тарелку с красной копченой рыбой. – Совсем не берегут хозяйского кармана.
– Может, водочки яблочной или сливовой доставить для согрева? Али романеи?
– Нет, ни к чему это, – покачал головой монах. – А сбитеню еще принеси, понравился.
Подкрепившись, холопы перекинули седла на скакунов, шедших до яма налегке, один из отроков кинул низко поклонившемуся мужику пару монет, после чего гости дружно поднялись в седла и, сразу перейдя в галоп, вылетели за ворота, едва не своротив с дороги груженые длинными тюками сукна сани.
С каждой верстой движение на тракте становилось все более и более оживленным. Сани и редкие телеги ехали уже по три ряда в каждую сторону, однако то и дело случались заторы – особенно перед поворотами к стоящим по сторонам дымящим трубами деревням и каменным монастырям с хищно выглядывающими из бойниц пушечными стволами. Холопы все чаще брались за плети, расчищая путь – отгоняя в стороны мужицкие и купеческие повозки, грозно рыкая на медленно едущих всадников, отчаянно ругаясь со столь же наглыми ямщиками и нещадно стегая чужих лошадей.
Ямщики и возничие, привыкшие к подобному обхождению на московских дорогах, спорили, но дорогу уступали, крутя головами и пытаясь угадать, какого князя или боярина везут в столицу отроки. Однако скромный монах их внимания не привлекал, а потому они так и оставались позади в полном недоумении.
В самой Москве стало неожиданно легко – въехавшие в ворота повозки распределились по многочисленным улицам с куда менее оживленным движением. Правда, привыкшие к кристальному воздуху дубовых и кленовых рощ по берегам Осетра холопы, да и их хозяин один за другим стали заходиться в кашле. В воздухе постоянно висел запах гари – дымы поднимались из тысяч и тысяч труб, повисая над городом, оседая вниз. Снег московских улиц и не подозревал, что где-то в иных местах он бывал белым. Многочисленные ноги москвичей и их скота давно перемешали его в однородную массу с черной сажей, коровьими лепешками, лошадиными катышами и прочими прелестями живущей в «экологически чистом мире» цивилизации. В результате снег приобрел не только цвет гнилой древесины, но и столь ядовитый запах, что монах, зажав нос, выдохнул свою сокровенную мечту:
– Скорей бы хоть дизельные машины изобрели!
Холопы, хотя и кашляли, но воспринимали неудобство как неизбежную черту любого города, а потому не роптали, и продолжали скачку по широким улицам, предоставляя прохожим самим уворачиваться от тяжелых лошадей.
Наконец отряд выехал к знакомым воротам – всадники спешились и один из холопов громко постучал рукоятью кнута в толстые створки:
– Эй, открывайте!
– Кто такие? – почти сразу откликнулся изнутри хриплый голос.
– Боярин Константин Алексеевич Росин с боярским сыном Толбузиным братчину составить хочет! – нахально ответил холоп и отъехал в сторону.
Во дворе надолго наступила тишина, потом загрохотал тяжелый засов, створки распахнулись, и гости увидели запахнувшегося в кунью шубу хозяина дома. Чуть поодаль от него стояла дворня, причем кое у кого, в руках имелись оглобли и вилы. Окинув взглядом отроков в ярких зипунах, Андрей Толбузин не без труда выглядел среди них скромного черноризника, расхохотался и шагнул навстречу, раскрыв объятия:
– Здрав будь, Константин Алексеевич! Да ты, никак, по гроб жизни собрался в рясе ходить?
– Сами научили, – усмехнулся в ответ Росин и обнял пахнущего солеными огурцами опричника. – Опять же растолстел я в последние годы, а под ней не видно.
– Ну, входи, входи, – не разжимая объятий, хозяин оглянулся на дворню: – Коней принять, людей в людскую проводить, накормить от пуза. Баню истопить. Каждому по чарке водки! Разрешаю…
Толбузин проводил гостя в трапезную, к уже накрытому столу. Ради постной среды и угощение здесь имелось более чем скромное: капуста, огурцы, рассыпчатая рисовая каша, которую пока еще называли просто сарацинской, плавающие в маринаде с чесноком грибы. Единственным украшением, способном порадовать голодного человека, являлся остроносый осетр, изогнувшийся на овальном оловянном блюде.
– Софья, – крикнул опричник, стукнув кулаком по столу. – Водки гостю принеси, замерз с дороги!
Он приподнял маленькую тафью, похожую на вышитую и украшенную рубинами и изумрудами тюбетейку, пригладил гладко бритую голову, на которой только-только начала проступать жесткая щетина и тихо добавил:
– Да и я согреюсь… Ты угощайся, Константин Алексеевич. Сам только к столу сел, ничего откушать не успел. Да и о себе расскажи: как живешь, чем? Как мануфактуры твои, под Тулой поставленные, как Анастасия, государем даренная?
– Вроде неплохо, боярин Андрей, – жадно косясь на осетра, Костя тем не менее потянулся к грибам, не решаясь разделывать рыбину раньше хозяина. – Да чего там неплохо – хорошо живем, Бога гневить не стану. Чугун я потихоньку лить все-таки начал. В усадьбе печь поставил, под защиту китайской стены. На стволы пока не замахиваюсь, но ядра чугунные пушкарский приказ покупает все, сколько сделать успеваю. Монахи, правда, осерчали. Сказывали, у них подряд отбил. Пришлось им два колокола отлить. Железо, что при мельнице водяной куют, тоже купцы расхватывают, благо дешево отдаю. Скобы там, гвозди, сохи, рогатины, наконечники для стрел – чего завсегда у нас не хватает.
– Псковичи и новгородцы еще не жаловались? – ухмыльнулся опричник. – Это ты уже у них покупателей увел.
– Пусть жалуются, – небрежно отмахнулся Росин. – Головой надо больше, а не молотком работать. Вот… Со стеклом, правда, хуже. Не хотят почему-то соседи окна стеклить, по старинке обходятся. Приходится дурака валять, и цветное делать. Его берут, на витражи. А порох мой подьячему стрелецкого приказа почему-то не нравится. Вот уж не знаю, почему.
– Ему не порох, ему бакшиш наверное не нравится, – покачал головой боярин Андрей. – Добавь чуток серебра, сразу порох-то твой и распробует…
– Попа у дьяка слипнется, – гнусно ухмыльнулся Росин. – Я уже пятнадцать пудов казакам на Дон продал. Коли Стрелецкий приказ зелье забраковал, так оно уже как бы и не порох. Указ государев для него уже не указ.
– Хитер ты, Константин Алексеевич, хитер, – одобрительно покачал головой опричник. – Хотя, казаков зельем снабдить – дело нужное, государь карать не станет. Супруга-то как? Здорова ли? Дети как?
– Двоих уродили, слава Богу, – от страшного воспоминания Росин аж вспотел. – Ни врачей, ни больницы. Вместо чистого белья – повитуха мох болотный приволокла. Но ничего, справилась Настенька. Кстати, боярин, восьмое марта завтра.
– Ну и что? – не понял опричник.
– Я каждый год Насте в день восьмого марта подарок какой-нибудь делаю. Вот, думаю, чего бы можно купить красивого, коли уж все равно в Москву приехал?
– Ай, Константин Алексеевич, Константин Алексеевич, – укоризненно поцокал языком боярский сын Толбузин. – Ты Домострой государев читал? Там супругу с любовью и благожелательностью плетью привечать указано, а ты подарки делаешь… Как же ж так?
– А вот так, – пожал плечами Росин. – Женщин бить не приучен. Не хочу.
– Это и правильно, – неожиданно легко согласился опричник. – У Сильвестра временами помутнение находит. «Мы управляем миром, а женщины нами», как говорили наши учителя еще во втором Риме. У наших предков вира за смерть женщины испокон веков куда больше, нежели за мужа была; государь недавним указом запретил мужьям требовать, чтобы жены имущество свое на них отписывали. А ему лишь бы палкой кого огреть. Ехал бы в свою Лифляндию, да схизматиков бил, коли так хочется… Софья!!!
– Несу… – в трапезную вошла худощавая женщина в платье из синего сукна ниже колен, головной убор которой заменял большой костяной гребень. Поставила на стол пять медных кувшинчиков тонкой чеканки, две медные же рюмки. Не утерпев, добавила: – Среда сегодня, боярин. Пост.
– Ступай, – отмахнулся опричник и что-то запел себе под нос водя указательным пальцем с одного кувшинчика на другой. – Э-э-э… Анисовую!
Он разлил водку по чаркам и они, наконец-то, выпили.
– Сам-то почто не женился, боярин? – Росин опять потянулся к грибам.
– Служба… Самому невесту искать недосуг, государь пока не озаботился. Хотя, думаю, ужо пора. Тридцать годков под Богом хожу, самое время остепениться. А то Сильвестр давно косо смотрит, царю шепчет на ухо что-то. Два раза проповеди про содомию читать пытался. Он вообще окромя как про содомию ни о чем думать не может. Даже государю о прошлом годе письмо с предостережениями прислал, но тот его к себе призвал и долго ругал словами нехорошими. В монастырь Соловецкий обещал послать для излечения от дурных помыслов… За государя вишневую нужно опробовать…
Боярский сын снова разлил водку по рюмкам. Они выпили за здоровье Ивана Васильевича и, отдельно, за долгие ему лета.
– Так как на счет подарка красивого для Насти моей? – напомнил гость.
– Ну, это у нас несложно, Константин Алексеевич, – кивнул Толбузин. – Нынешним летом два ювелира венецианских лавки возле Кремля открыли. Дивной красоты вещицы чеканят. А самоцветы так в золото и серебро ставят, что непонятно, на чем и держатся. В Китай-городе мастерскую кружевную немцы какие-то открыли. Из Лиона, сказывают приехали.
– Может, французы? – засомневался Росин.
– Немцы, немцы, – уверенно мотнул головой опричник. – Языка нашего не разумеют, а соседям-купцам сильно жаловались, что в стране у них одни схизматики других начали резать со страшной яростью, ни детей малых, ни стариков не щадя. Страсти жуткие, бают, сказывали. Татары краше схизматиков от рассказов тех кажутся, хоть и басурмане.
– Это да, – кивнул Росин. – Мусульмане хотя бы никогда и никого не убивали во имя веры. По крайней мере, сейчас. А здесь, у нас что происходит, боярин Андрей? А то тоже слухи ползут странные…
– Много чего происходит, Константин Алексеевич, – тяжело вздохнул опричник, разлил по рюмкам водку из третьего кувшинчика, поднял свою чарку и поднес к глазам. – Государь указом своим продажу вина и водки во всей Москве запретил, разрешив сие лишь в одной слободе. Ныне смерды ее только так уже и называют: Наливки. А по Руси наказал запретить отрокам и женщинам входить в кабаки под любым предлогом, дабы к зелью сему не приучались…
Боярский сын опрокинул чарку в рот и тут же наполнил ее снова.
– Еще государь задумал силы страны нашей преумножить, самый корень ее укрепив. Воевод, на кормление в волостях посаженных, он от власти отстранил, наказав людям вместо них самим себе старост на местах выбирать. Чтобы верили им, в корысти не обвиняли, а коли воровать начнут – так и снимали сами, до государя дела сего не доводя. Школы приходские открывать приказал… Ну, это ты, Константин Алексеевич, знаешь… В войске русском местничество запретить решил. Потому, как перед лицом ворога страшного бояре нередко споры затевали, чей род старше, и кому ратями командовать, а кому подчиняться покорно… И пока споры сии шли, рати наши биты не раз бывали – потому, как власти в них не имелось, и один воевода другому помощи оказывать не желал. Суды вершить запретил без советчиков, честными людьми, смердами и ремесленниками, из своих рядов избранных. Смердов запретил на любые работы с земли уводить, а на дела иные только вольных работников указал нанимать. Из вольных же людей государь стрельцов набирает, огненным боем воевать наученных, и всех их под свою руку берет, на волю боярскую или княжескую передать не желает. А потому в последние годы тяжко Ивану Васильевичу нашему приходится, ох как тяжко. Ненависть вокруг себя видит, одну только ненависть, предательство и ярость дикую!
Толбузин снова выпил.
– Но почему же ненависть? – не понял Росин. – Дело-то нужное делает, святое. Землю русскую закрепляет.
– А потому ненависть, – хмуро сообщил опричник, – что укрепляет царь корень земли русской, основу основ страны нашей: смердам-пахарям воли и защиты своей добавляет, да простым боярам, кровь на рубежах проливающим, прибавляет спокойствия за уделы свои. А отнимает волю эту он от князей родовитых, да бояр думских. Не могут они ныне на волости сидеть, и царским именем чужие судьбы решать, за мзду, лихоимцами данную, чужое добро и землю из рук в руки отдавать. Не могут, дураками уродившись, полками стрелецкими или боярскими командовать только благодаря храбрости предков далеких. Ныне государь от них самих храбрость эту и ум выказать требует. От того и бесятся князья и думцы наши. Дошло до того, что волю царскую признавать не хотят. Убить его несколько раз пытались, царицу Анастасию отравили. К князю литовскому бегут и умышляют его войной на Москву идти, помощь в деле сием обещая. Татарским отрядам броды и тайные броды вглубь Руси указывают.
– Не может быть!
– Еще как может! – опричник снова выпил. – Александр Горбатый-Шуйский славного древнего рода вместе с сыном в заговоре участие приняли, Петр Ховрин, окольничий Головин, которому царь, как себе верил, Иван Сухой-Кашин, Петр Горенский, Дмитрий Шевырев… – Толбузин перекрестился. – Господи Боже, такие люди, что и поверить нельзя! Иван Яковлев, Михайло Воротынский на кресте клялись, что злоумышлять более не станут, и прощены были. Лев Салтыков, родич жены твоей, Иван Охлябинин, Василий Серебряный – тоже. Однажды государь настолько измучился от борьбы такой, и явной, и тайной, и подлой, что даже бросить все решил и в слободу Александровскую уехал, но мы его умолил одуматься и Русь на растерзание подлым лисам и псам литовским не оставлять. Ныне государь так решил поступить: страну нашу надвое делит, и те, кто верен ему, кто жизнь новую установить хочет, пусть к нему на службу присягает и в земли, опричные от прочих, переселиться может. А все прочие, о себе, а не Руси пекущиеся, пусть в старом мире, в земстве старом остаются. Может, хоть теперь предатели умышлять против жизни и власти государевой перестанут. Пусть по своей воле, по старине пока обитают. Обождем немного, там увидим, у кого дело заладится, кто дохода больше в казну даст и войско сильнее супротив врагов выставить сможет.
– Может и верно это, – кивнул Росин, тоже выпил и потянулся к осетру, решив плюнуть на приличия. – Да только странно это, свою страну самому надвое делить.
– Уж лучше своей волей поделиться и вместе жить, нежели, подобно немцам французским, между собой, на своей земле кровь проливать, брат на брата войной идти, смерть в семьях древних учинять. Государь милостив. Он не крови хочет, он желает Русь, Господом ему на попечение доверенную, сильной сделать. Дабы ворогов не боялась более, и будущего своего не страшилась.
– Может, и верно государь поступил, – снова кивнул Росин. – Интересно, а меня вместе с землями и мануфактурами куда отписали? Земству, или опричнине?
– А сам ты чего хочешь? – дернул себя за бороду опричник. – По старому обычаю жить, или к государю податься?
– Ну, – задумчиво глядя на шершавый бок рыбины, Росин обнажил свой тонкий обеденный нож. – Понимаешь, боярин, в детстве меня учили, что свобода и демократия – это хорошо, а феодализм и тирания – это плохо. Я, конечно, понимаю, что демократия со свободой – понятия в высшей степени пошлые и замызганные множеством уродов, но тем не менее… Разбираться с начальствующими дураками мне еще до переезда сюда надоело. Не хватает еще, чтобы они помимо должности родовитостью гордились. Короче, боярин Андрей, я с вами. Царь мне дороже предателей, быть на одной стороне с князем Курбским я не хочу.
– Я так и думал, – боярский сын потянулся к четвертому кувшинчику. – Не даром и Зализа, и сам я за тебя перед Иваном Васильевичем поручились. Давай за это настойки зверобоевой с тобой отпробуем. За Русь!
– За Русь, – согласился Росин, выпил водку одним глотком, после чего наконец-то вонзил свой нож рыбе в бок, выворачивая себе из ее спины шмат белого рассыпчатого мяса. – Ты меня завтра к ювелирам итальянским проводишь, боярин Андрей? Хочу что-нибудь благоверной своей присмотреть.
– К венецианским? – уточнил опричник. – Нет, не провожу. К государю завтра поедем, он тебя ждет. Али ты думал, я тебя в Москву вызывал токмо ради вопрос этот задать? Нет, дел на Руси и иных хватает немало.
В Кремль они отправились сразу поутру, позавтракав на скорую руку и выпив по паре глотков терпкого немецкого вина. Росина сразу насторожила, что вместо положенных по обычаю роскошных, запряженных цугом саней, они отправились к царю верхом, в сопровождении всего двух толбузинских холопов, однако он не стал задавать глупых вопросов или пытаться отвертеться от поездки. Уж коли решил поверить в правителя – нужно довериться ему целиком и полностью. Когда собственного начальника в предательстве подозреваешь, какая может быть служба? Виляние одно и постоянное оглядывание назад – не готовят ли удара в спину? А идти вперед, постоянно оглядываясь за спину, дело невозможное.
Влетев на царский двор, остановились они так же не у парадного крыльца, множеством арок уходящего на второй этаж, а сбоку, у неприметной двери, никем даже не охраняемой.
Андрей Толбузин, оставив скакунов слугам, пошел вперед, уверенно поворачивая в узких темных коридорах. Завел в какой-то угол, по винтовой лестнице, освещенной узкими бойницами, забранными слюдой, поднялся наверх.
– Стекла бы у меня купили, боярин Андрей, – посоветовал Росин. – И внутри светлее бы стало, и видно, что снаружи делается.
– Баловство одно эти стекла, – хмыкнул опричник. – Дорогие больно, и прозрачные. Голытьбу уличную соблазняют внутрь заглядывать. А коли во двор ставить: так чего я во дворе своем не видел? Можно и слюдой обойтись.
– А холодно чего во дворце?
– Так оно и легче, – на этот раз Толбузин широко улыбнулся, покосившись на скромную потертую рясу спутника. – Все одно, гости сюда только в шубах дорогих да жарких ходят.
Росин промолчал, сведя руки и засунув ладони в широкие рукава. Дохнул – но пар изо рта не пошел. Видимо, печи в царском дворце все-таки топили.
– Не прогреть его нынешней зимой, – неожиданно признал опричник. – Вымерз насквозь, пока государь в Александровской слободе был. Теперь до весны…
Они повернули из коридора в обширную комнату, где на лавках сидело несколько одетых в броню бояр. Здесь стало заметно теплее, и Росин даже выпустил ладони наружу. Один из воинов встал, но Толбузин широко развел руки в стороны, показывая, что оружия при нем нет, и старший караула махнул рукой:
– Ладно. А ждет ли?
– Ждет, – кивнул опричник и спокойно двинулся дальше, к низкой узкой двери рядом с печью, перед которой лежала высокая охапка дров. По всей видимости, боярский сын Андрей Толбузин пользовался здесь непререкаемым авторитетом, поскольку слова его оказалось достаточно, и никто из бояр не счел нужным поинтересоваться, что за монах идет с ним к царю.
Низко поклонившись притолоке, Костя шагнул в дверь следом за опричником, и оказался в узенькой келье шириной метра в три, и длиной около пяти. По стенам до низкого – в полтора роста – потолка возвышались книжные полки, заставленные толстыми фолиантами с кожаными переплетами, заваленные множеством свитков. Не забитые, а просто заполненные – с таким расчетом, чтобы нужную книгу или документ было легко найти и извлечь.
Дальний конец комнаты упирался в большое окно, закрытое заправленными в небольшие рамочки слюдяными пластинами. Перед окном стоял тяжелый дубовый стол за которым, на кресле с матерчатым сидением и матерчатой спинкой сидел монах в длинной черной рясе и кожаном клобуке.
– Мы здесь, государь, – тихо сообщил Толбузин.
– Подожди, – кивнул монах, громко чиркая гусиным в лежащем перед ним свитке. Время от времени он с тихим шуршанием проматывал свиток дальше. Шуршание получалось куда более тихим, нежели яростное царапанье кончиком пера по бумаге. Наконец последняя точка была поставлена, и хозяин кабинета отложил свиток на край стола с командой: – Переписать.
Хотя к кому он обращался, было совершенно непонятно.
Монах встал, кивнул низко склонившемуся опричнику, с интересом оглядел гостя.
– Никак все еще в моем наряде гуляешь, Константин Алексеевич?
– С царского плеча, государь, – парировал Росин. – Выбрасывать грех.
– Каковы заслуги, такова и шуба.
Костя моментально заткнулся. Уж не ему, получившему царской волей невесту с приданным на сотни тысяч новгородских рублей, тявкать на счет неподаренной одежонки. Особенно учитывая, что невеста оказалась молодой, красивой и жадной на ласку. И ныне уже родила ему сына и дочь.
Царь Иван Васильевич, что вскоре получит прозвище «Грозный», после их последней встречи весьма возмужал. Вроде, даже ростом прибавил, почти сравнявшись с Росиным. Выпрямившись, оказался строен и красив; имел высокие плечи, широкую грудь, прекрасные волосы, выпирающие из-под клобука, длинные усы, но короткую бороденку. Сейчас, глядя в упор, Костя с хорошо различал римский нос, небольшие светло-серые глаза. Да и вообще, лицо было приятное, незлобное.
– Ты говорил ему, Андрей?
– Нет, государь.
– Так скажи… – и царь снова уселся за стол, притянув к себе еще несколько листов писчей бумаги.
– Мы каждый год сражаемся с крымскими татарами, – голос опричника вынудил Росина отвести глаз от правителя страны на собеседника. – Вот уже почти десять лет каждый год доходят известия о том, что Девлет-Гирей напал на наши рубежи то с одной стороны, то с другой. Иногда кажется, что крымским ханом уже давно стал именно он, а не Сахыб, который уверяет нас в своей дружбе.
– Насколько я помню, – ответил Росин, – Русь воевала с крымскими татарами всегда.
– Но не так! – скрипнул зубами боярский сын Толбузин. – Последние годы татары налетают на наши рубежи дважды в год, весной во время посевной и осенью во время сбора урожая. Уже десятый год на южных землях мы не можем собрать никаких хлебов! Даже если татары и не добираются до смердов, то они все равно пугают их, не дают выйти на поля! Цена на зерно выросла вдвое, а на юге – впятеро супротив обычного. Смерды со страха бегут на восток, в новые земли. Что смерды – бояре и помещики забыли вкус хлеба, считая каждый испеченный кусок за чудо и праздник. Мы теряем южные рубежи, Константин Алексеевич! Оттуда начинают бежать даже литвины и поляки, что переселились на наши земли, спасаясь от европейского дикарства и жестокости.
– Так вы что, просто смотрели и ждали?
Опричник покосился на читающего бумаги царя. Тот кивнул.
– Каждый год казакам на Дон по два-три десятка стругов спускаем, Константин Алексеевич, – начал перечислять Андрей Толбузин. – В Казани и Костроме артели за казенные деньги их строят, и по Волге, а потом волоком на Дон отправляют. Сабли и пищали им посылаем, хлеб, сукно, свинец. Лишь бы дело делали, покоя туркам не давали, удары, Руси предназначенные, на себя отводили. Три года назад дьяк Ржевский был в набег на становья татарские отправлен, ему три сотни казаков днепровских придано. Данила Адашев туда же с казаками донскими ходил, урон причинил немалый и полону русского, сказывали, тысяч десять освободил. Черту засечную от Козельска до Алатыря поставили, на Оке, в Серпухов, Коломну, Каширу, Калугу, Дедилов, Пронск, Михайлов, Ряжск, Мценск, Болхов, Одоев каженный год детей боярских и стрельцов по шестьдесят тысяч выставляем. Дубы в степи сажаем верстах в двадцати друг от друга, дабы дозоры на них выставлять, когда вырастут. Людишкам, что с земель западных, от ляхов, немцев, князя литовского в пределы московские бегут, указом государевым предписано по пять рублей выдавать на хозяйство. Коня, корову давать, землю отрезать, дабы рубежи русские на юге заселяли и службу ратную несли. За годы последние сто тысяч рублев казна потратила, двадцать тысяч людей новых в реестр записалось. Князю Дмитрию Вишневскому жалование положено и дети боярские дадены, а он на Хортицком острове, на Днепре, крепость поставил, и крымские кочевища оттуда воевать ходит.
Толбузин перевел дух:
– Мы не ждем со склоненной выей милостей татарских, Константин Алексеевич. Все силы государства нашего кладем, дабы от заразы этой избавиться, паразита, кровопицы, что к телу страны нашей присосался и ничего, кроме как земли наши грабить и людей в рабство красть делать не желает, – опричник рубанул рукой воздух, словно надеялся снести с плеч чью-то голову. – Татары как гидра, как змей многоглавый, как грибы-поганки. Одну стопчешь, рядом две других появятся. Поляну очистишь – а они туда же опять пролезают. Тысячу голов снесешь – назавтра уже новые тысячи скачут. Как ни стараемся, сколько сил не кладем, а басурмане эти все одно на наши земли просачиваются. Ордами по несколько тысяч подходят, осаду городов и крепостей затевают, а пока рать на помощь в одно место идет, иные отряды в других местах земли русские грабят. Да столь быстро навострились, псы смердящие, что убежать еще до того успевают, как воеводы наши про нападение прознают. Да еще предатели, князья и бояре земские, тайными тропами, бродами неизвестными прямо в глубь земель их приводят. Намедни известие дошло, что Девлет-Гирей в степи за Осколом с колдовской помощью отряд дьяка Шермова истребил. Про то, что с Дьяволом нехристи договор заключили, слухи уже давно приходят.
– Это называется шакалить, – скривился Костя Росин.
– Что? – не понял опричник.
– Шакалить. Ты знаешь, боярин, как шакалы мясо у львов отнимают? – Росин, пройдя вдоль стены, прислонился к полкам. – Сидит лев, жрет добычу. Подбегает к нему этакий маленький вонючий шакаленок, да и цап за хвост! Лев, естественно, рычит, разворачивается, дабы прибить наглеца. А в этот момент другой шакал кусок мяса у него из-под носа – хвать, и бежать. А за этим погонишься – стая тут же всю добычу сожрет, ничего не оставит. И что самое интересное: лев любого из шакалов одной лапой убить может, и даже всю стаю в одиночку перебить. Но в итоге именно он и голодным, и покусанным остается.
– История твоя зело интересна, Константин Алексеевич, – послышался из-за стола спокойный голос. – Однако не могу я над ней посмеяться, пока подобные шакалы в облике человечьем братьев и сестер моих, единоверцев, плоть и кровь земли нашей безнаказанно истребляют и в рабство сводят.
Царь поднялся из-за стола и повернулся к гостю:
– Скажи, Константин Алексеевич, как льву этому от шакалов избавиться навеки?
– Думаю, государь, прыгая на них возле добычи, пытаясь отогнать от куска или поджав хвост справиться с такой стаей невозможно, – развел руками Росин. – Единственное, что может лев, это не мясо свое от наскоков каждый день защищать, а отправиться к самому шакальему логову и разорить его начисто, дабы новых шакалят не появлялось. А коли появятся – льва дразнить зареклись навеки, и щенкам своим этот наказ завещали.
– Разорить гнездо, – в голосе Ивана Васильевича прозвучало такое разочарование, что Росин никак не мог его не заметить.
– Я не понимаю, – пожал плечами Костя, с некоторой растерянностью глядя то на одного, то на другого. – А что тут такого? Помнится, государь, под Казань ты аж сто пятьдесят тысяч воинов привел! Татар разбить втрое меньше сил понадобится. Они ведь больше ста, ста двадцати тысяч воинов выставить не могут. Да и те трусливые разбойники.
– Андрей… – отмахнулся царь, усаживаясь обратно за стол.
– Совсем ты одичал в своих лесах, Константин Алексеевич, – кивнул опричник, – стеклышки свои льешь и про мир окружающий знать ничего не желаешь. Крым, то враг не страшный, Крым мы за один год раздавить можем, и косточек не оставим. Но что потом станется? Ужель ты думаешь, султан османский спокойно смотреть станет, как мы землю его разоряем и волости отторгаем в пользу свою? Знаешь ли ты, боярин, что в дни сии султан войну с Персией ведет, в Палестинах далеких, в королевстве Молдавском, с немцами возле моря Адриановского, и все народы эти рукою сильной покоряет? И коли взор его покамест на восток, в русские пределы не обратился, то только потому, что опасности особой он с этой стороны не чует и дела ратные в иных пределах завершить желает.
– Боже мой, какой я идиот! – искренне хлопнул себя по лбу Костя. – Точно! Ведь Крым еще с прошлого века в состав Османской империи входит! Да! Точно, уже сто лет почти, как там наместник турецкий сидит.
– Пока мы опасными не кажемся, султан войск у наших рубежей не держит, лишь хана крымского в набеги за рабами шлет, – подтвердил боярский сын. – Но коли с силой большой в пределы турецкие вторгнемся, супротив нас не сто, триста тысяч воинов султан выведет. А может, и пятьсот. И не татар трусливых, а боевых всадников своих, что персов и немцев каждый год тысячами избивают, янычар, с младенческих лет для войны выращенных. Не останется после этого рати русской, Константин Алексеевич. А может, и самой Руси не останется.
– Мне и так юлить перед пашами его приходится, как смерду, урока не выполнившему, – добавил от стола царь. – Помощь казакам донским скрывать, письма им посылать грозные с запретами в татарские кочевья ходить. Дьяка Данилу Адашева, победы славные одержавшие, в немилость объявил пред всем народом, кары всяческие сулил. Дань хану Сахыбу обещаю платить постоянно. До того дошло, казакам нашим посольство построил в Белом городе, дабы посланникам османским на него указывать, и казаков, по украинам русским живущих, неподвластным мне народом называть. Поклясться пришлось, что помощи никакой им не дам, кроме как хлебом и сеном для коней. Из милости христианской к единоверцам, дабы голода и бескормицы в стадах казацких не допустить.
– А казаки не обижаются? Предателями не считают?
– Сено и зерно мы на тех стругах, что в Костроме и Казани делаются отправляем, – улыбнулся Толбузин. – Да там, на Дону, лодки эти и бросаем. Не тащить же их назад супротив течения?
– Хитро…
– Толку с этой хитрости никакого! – хлопнул кулаком по столу царь. – Казаки воюют, немцы и ляхи с литвинами в наши пределы бегут, а я, что не год, так тысяч и тысяч душ не досчитываюсь! Десять тысяч людишек у Дикого Поля расселю, а тридцать – татары угонят. Только пахарь землю поднять успеет, а глядь – его уже крымчане на аркане утянули, к османскому султану на галеры. Заканчивать с этой отравой нужно! Кровью живой страна истекает, кровью. Оборвать набеги татарские раз и навсегда!
– Но в турецкие пределы не вторгаться, – моментально уточнил Толбузин. – Ведомо государю, как в кампании ливонской хитростью и золотом тебе удалось войско немецкое в десять раз сократить. В поле, против порубежников наших, они так и не вышли. Вот на хитроумие твое мы и полагаемся. Измысли способ такой, Константин Алексеевич, чтобы остановить набеги татарские, войны большой с османским султаном не начиная…
– Ну ты, боярин, задачки ставишь… – невольно зачесал Росин у себя в затылке.
Общая обстановка стала ему достаточно ясна. Крымские татары, конечно, уроды и сволочи, но напасть на них – все равно, что в двадцатом веке объявить войну Флориде, наивно рассчитывая, что прочие Соединенные Штаты останутся в стороне. Или перестанут называть своих бандитов благородными борцами за демократию. Помнится, Куба в свое время не смогла избавиться от кровожадных американских контрас до тех пор, пока Хрущев не показал Штатам большую ядерную дубину.
Да-а, ядерную бомбочку бы сюда… Нет лучшего стимула к миролюбию, нежели боевая граната с выдернутой чекой перед носом.
Росин отвернулся, подошел к оштукатуренной стене рядом с дверью, приложил к ней руку – горячая. Наверное, топка от печи, что с той стороны топится, как раз здесь, за кирпичной кладкой находится. Хорошая вещь – стена. Но ее уже пробовали. Вон, Засечную черту поперек всей страны отгрохали. Нужно придумать что-нибудь другое…
– Бегать за каждым шакалом бесполезно, – задумчиво сказал он. – Если нельзя разорить логова, значит нужно собрать их всех вместе и истребить одним ударом. Сами они не соберутся, поскольку знают, что лев их перебьет. Значит… Значит, нужно их убедить, что все вместе они сильнее льва.
Костя встрепенулся, ловя за хвост удачную мысль:
– Если убедить шакалов, что собравшись все вместе, они смогут одолеть льва, посадить его на цепь и спускать на дичь, как охотничью собачку, они наверняка захотят это сделать. Какой смысл воровать чужую добычу, рискуя своей жизнью, если можно получить все сразу, и почивать на лаврах?
– Что ты хочешь этим сказать? – не понял боярский сын Толбузин.
– Татары… – прикусил губу Росин. – Они налетают, кусают и удирают. Налетают – удирают. Если они поверят, что Русь слаба, что не сможет противостоять хорошему сильному удару, в Крыму наверняка захотят покорить ее, сделать своей вотчиной, разоружить и сесть прямо здесь, в Москве. Зачем рисковать жизнью в набегах, если можно стать хозяином и сидеть на всем готовом, ничем не рискуя? Брать, чего хочется в любой момент, или просто приказывать, чтобы принесли? Так?
– Дальше, – коротко приказал царь.
– Чтобы покорить страну, наскакивать на ее рубежи и тут же убегать бесполезно. Нужно собирать войско и идти громить вражескую армию. Значит, коли крымский хан поверит, что способен покорить Русь и сесть в Кремле на трон, он будет должен собрать все свои силы и идти на Москву. Не бежать от сражений, а сам давать битвы, чтобы разгромить русскую рать и укрепиться в новых землях. Так?
– Дальше.
– Дальше? Дальше нужно будет заманить собранные все вместе татарские отряды, все их силы поглубже в наши земли, окружить и вырезать всех до последнего шакаленка. Чтобы в Крыму не осталось не то что мужчин, оружие держать способных, чтобы там даже баб брюхатить некому было! Пусть тогда султан сколько хочет на свои земли любуется, они никому и на фиг ненужны будут. Нет татар, нет проблем. А что касается обид или претензий – какие претензии? Сами пришли, сами по кумполу схлопотали. Первым их никто не трогал. Можно мило улыбаться и уверять в своей полнейшей дружбе. Дескать, мы за набег не в обиде. Всякое бывает.
– Собрать всех вместе, заманить и прихлопнуть, – задумчиво повторил царь. – Навсегда.
– Хорошо бы так, государь? – вопросительно сказал Андрей Толбузин.
– Хорошо… – кивнул Иван Васильевич и принялся задумчиво пережевывать верх гусиного пера. Молчал он минут десять, потом сломал перо и откинул в сторону: – План твой, Константин Алексеевич, кажется мне исполнимым. Что нужно тебе для него? Золото? Отряды стрелецкие? Должность в Посольском приказе?
– Золото лишним не бывает, – согласился Росин, – но в деле сем большой пользы от него не станет. Перво-наперво ты, государь, изо льва грозного и могучего трусливым и больным прикинуться должен.
– И как ты собираешься это сделать?
– Думаю, для начала надлежит послам, что в Крым и Стамбул ездят, наказать, чтобы вели себя пожалостливее, оскорбления терпели, про набеги ужасающие и разорительные плакались. Отписать королям европейским, что татары разорили вконец, что сил никаких не осталось и о помощи старательно просить, всякие блага и уступки обещая. Приюта спрашивать на случай, коли неверные большим походом пойдут и из страны выго…
– Да как ты смеешь, боярин! – взорвался гневом опричник. – Государя нашего перед правителями европейскими опозорить хочешь?! Что они подумают?!
– Да начхать с высокой колокольни, что в этой вшивой Европе про нас думать станут, – безразлично пожал плечами Росин. – Какая разница? Нам не о них, а о себе заботиться надо.
– Европейские государи почти все родня мне кровная, – сообщил царь.
– И много пользы от той родни видеть доводилось? Хоть какую помощь они оказывали, окромя стрихнинчика, что в стакан то и дело подсыпать норовят?
– Я потомок древнего рода Рюриковичей, – поднялся со своего кресла царь. – Предкам моим сам император византийский дань платил, от имени их все пределы земные дрожали, а ты славу всю единым махом псам смердящим на потеху отдать желаешь?! Да как только ты измыслить такое посмел?!
– Я про дело думаю. Про крепость рубежей русских, про покой жителей ее. А что слова? – пожал плечами Росин. – Слова – это дым. Коли ты трус, то сколь храбрецом не называйся, отважней не станешь. А если для обмана врагов своих глупцом и трусишкой выглядеть полезней, то почему бы и нет? Что от этого в сердце твоем изменится?
– Что изменится от того, что весь мир станет считать меня трусом? – приподнял брови царь, и в серых глазах его ощутился ледяной холод.
– А какой прок от пустого хвастовства? От похвальбы и гордыни что за выгода?
– То не слова пустые! – рявкнул Толбузин. – Наш государь не раз в атаку первый мчался, жизни своей не жалея, в Казани…
Царь вскинул руку, и опричник моментально смолк.
– Скажи, Константин Алексеевич, – ласково поинтересовался русский правитель, – не спрашивала ли супруга твоя, Анастасия, про родичей своих?
– Про тех, что в заговор против тебя затевали? – глядя царю в глаза, уточнил Костя. – Нет, не спрашивала.
– Это хорошо, Константин Алексеевич, – кивнул правитель. – Потому, как после слов твоих думы всякие бродить начинают.
– Заманить и уничтожить, – повторил Росин. – Уничтожить всех и навсегда. Скажи, государь, что дороже тебе: слава твоя великая, или крепость земли русской? Стоит ли слава сломанных судеб человеческих? Позор страшнее смерти – но что, если именно им победы добиться можно? Страну спасти? Ты же правитель, царь. Подумай! Слова – пыль. Россия – вечна.
– Ступай, Константин Алексеевич, – отвернулся царь. – Боярский сын Толбузин тебя проводит. Андрей, дьяка Данилу Адашева найди и ко мне пришли. Славы мне не надо, но гибели стрельцов татарам не спущу. Пусть в новый поход готовится.
Глава 3
Змеи крови
В этот год половодье доставило обитателям усадьбы немало страха. Вода в Осколе поднялась неожиданно высоко и плескалась под самыми стенами. Но Бог миловал, и до ворот земляной крепости вешние волны не дотянулись. Второй бедой была извечная опасность татарского набега – и задолго до подхода земских сторожевых разъездов боярин Варлам выслал в еще сырую степь десяток своих оружных смердов, разбив их попарно, а сам с холопами засел возле Изюмского шляха.
Однако и эта беда обошла стороной. Сказывали потом заплаканные беглецы, что по южному берегу Сейма басурмане все-таки прошлись своей разбойничьей лапой, да местами переправились по бродам на эту сторону, попугав пахарей под Рыльском и Обоянем, но близко к Осколу не подходили, явно страшась засевших в крепости боярских детей.
Пока Батов со своими воинами сторожил границы поместья, Юля вполне успешно посадила на землю сразу семь семей, перебежавших вместе зимой из недалекого Польского королевства. В усадьбе их приняли, оставив до весны, из милости кормили без всяких спросов, а ляхи рассказывали совершенно невероятные для русских смердов ужасы про барщину по шесть дней в неделю, про то, что земли своей покидать нельзя вовсе, что шляхтич волен любой суд над пахарем чинить по своему усмотрению, и даже продать может, ако бессловесную скотину.
Как снег начал сходить, боярыня предложила всем семьям пойти в закуп на десять лет, пообещав взамен по две лошади из зимней добычи на семью, соху, земли, сколько захотят, посевное зерно, небольшой припас на первое время и три года без оброка и барщины. Ляхи согласились сразу – подобные условия показались им райскими. Особенно осознание того, что отдав долг они снова станут вольными людьми, и что дети остаются вольными не смотря на то, что родители продаются в крепость. Эмигранты даже не захотели переселяться на западный берег Оскола, на свободные государевы земли, которые Иван Васильевич дозволял распахивать любым охотникам. На вольных землях сам за себя отвечаешь. А крепостному – от опасности в усадьбе укрыться можно, при недороде или беде какой барин завсегда из закромов своих поддержит, сирот приютит, от станишников отобьет. Хороший хозяин смерда гнобить не станет, на смердах все хозяйство держится.
И бывшая член сборной Союза по стрельбе, не моргнув глазом и начисто забыв свое безупречное комсомольское прошлое, заставила новых крепостных целовать крест, что они выполнят весь уговор без утаек и хитростей.
За прошедшие годы хозяйство переселенцев из Северной Пустоши заметно окрепло, и ныне Юля уже не ходила к реке поправлять загородки верши или вынимать рыбу – подворников посылала, да мальчишек из смердов, что Мелитинии помогали. Однако это вовсе не означало, что хлопот по хозяйству стало меньше. Скорее, наоборот: для большего числа обитателей усадьбы и припасов требовалось куда как больше, скотный двор расширять пришлось, птичник отдельный рубить, погреб и ледник копать новые. Каждый день решать приходилось, чем ораву всю кормить, что себе на стол поставить. Помнить, с кого и какой оброк назначен, когда подвезут, где забрать потребуется. Она же назначала уроки крепостным смердам, распределяла на работы дворню, следила за запасами дров и хлеба, а так же – за огненным припасом к пятнадцати пищалям, наконечниками для стрел, рогатин, копий и прочим оружием на случай татарской осады.
Без Юлиного разрешения даже приказы самого боярина никто не исполнял. Потому, как дело его мужское: чуть что – сам умчится шайку какую перехватить из Дикого поля в поместье забредшую, государь али воевода исполчит, на земское собрание уедет да на неделю-другую пропадет. И кто тогда за хозяйство в ответе? Кто смердов вооружит, коли отсиживаться за стенами придется? Кто накормит всех, напоит, спать уложит? Кто знает, что из содержимого погребов для чего и на какой срок предназначено?
Хозяйству рука хозяйская постоянно нужна, а потому с ранней весны и до поздней осени у Юли не оставалось времени даже на любимое развлечение – охоту. Только зимой, когда на лугах и полях наступает блаженный покой, ненадолго отлучиться и можно.
– Мама, мама, там дяденьки с оружием пришли! Много!
Сердце неприятно кольнуло, и Юля, уронив крышку сундука, повернулась навстречу Стефании.
– Какие дяденьки? – она прижала к животу дочку, одетую в полотняный, с красной вышивкой на груди сарафан. Взять на руки сил уже не хватало: восемь лет девчушке, маме до плеча успела вымахать.
– Не знаю, незнакомые.
– А отцу сказала?
– Он с ними ужо разговаривает.
На душе сразу стало легче: коли говорит, значит не татары подступили. Значит, кто-то из бояр оскольских мимо проезжает или в гости нагрянул. Хорошо, когда муж дома. И за спину его кольчужную всегда спрятаться можно, и к груди горячей прижаться.
Юля подошла к окну, приоткрыла ставень. С высоты второго этажа были отчетливо видны десятки вьючных коней, что собрались кучей за стенами, насколько оружных мужчин рядом с ними. Во дворе стоял только один воин, совершенно лысый – разве только под тюбетейкой какие-то волосики прятались, в ширококольчатой байдане, шестопером на поясе и саблей в ножнах. Варлам стоял рядом вовсе безоружный и спокойно разговаривал, а дворня уже разошлась и занималась обычными делами. Стало быть, гость не тревожный.
– Стефания, Юра и Михаил где?
– На сеновале братья играют, – кивнула девочка. – Мама, а можно я бусы одену, что дядя Сергей на рождество подарил?
– Тогда и платье одевай синее, парчовое.
– В нем жарко будет, мама.
– Или все, или ничего, – покачала головой Юля. – К сарафану жемчужные бусы одевать – это безвкусица. И платок мой шелковый подай.
Привыкшая к тренировочной одежде, она по-прежнему предпочитала носить татарские одежды, благо в здешних местах это никого не удивсяло. Но платок подвязывала по общему обычаю: на Руси для женщины меньше позора вовсе голой по улице пройти, нежели с непокрытыми волосами показаться. Спустилась на первый этаж:
– Мелитиния, ковш квасу налей.
– Сей час, боярыня, – вдова, помогавшая барыне по хозяйству с самого дня строительства усадьбы, сняла со стены красивый резной ковш и побежала к бадье с еще шипящим, не до конца перебродившим напитком.
– Сны какие снились?
– Ничего не снилось, боярыня, прости Господи, – остановившись, перекрестилась женщина, и Юля окончательно успокоилась.
После того, как татары зарубили ее мужа, Мелетинию стали посещать вещие сны, большей частью тревожные. А коли ничего не снится – то и страшиться нечего.
Боярыня взяла у нее полный до краев ковш, и вышла наружу:
– Здравствуй, гость дорогой. Вот, испей с дороги, – Юля с легким поклоном поднесла угощение воину.
– Благодарствую, хозяюшка, – приложив руку к груди, низко, до пояса, поклонился ей гость, затем принял корец, выпил квас и перевернул деревянную чашу, показывая, что осушил до капли.
– То дьяк государев, Юленька, Даниил Федорович Адашев, – представил боярина Варлам. – А это жена моя, супружница.
– Наслышан, наслышан, Варлам Евдокимович, – кивнул дьяк, блеснув на солнце лысиной. Юля увидела множество черных точечек, и сообразила, что голова просто гладко выбрита. Говорят, обычай такой в Москве у служилых людей. – А у меня к тебе письмецо.
Боярин Адашев повернулся к воротам, махнул кому-то из своих людей, и к нему стремглав кинулся холоп в простой белой косоворотке, шароварах и коротких сапожках с обвязанным по ноге голенищем. В руках у него было не просто письмо, а довольно объемный сверток.
– Ого… – не удержалась от возгласа женщина, когда гость, забрав сверток от холопа, протянул его Юле. – Это все мне?
– Не знаю. Боярский сын Толбузин сказывал, то Зализа Семен Прокофьевич ему передал. Просил с оказией супруге боярина Варлама Батова завести. Вот, – пожал воин плечами, – привез.
Юля, не удержавшись, тут же развязала тесемки, откинула тонкую замшу, зашелестела желтоватыми бумажными листами, выхватывая то один, то другой, пробегая глазами несколько строчек, засовывая обратно и хватая другой лист.
– Варлам, да это же письма… От ребят… Да они мне все по письму написали! Господи, Варлам, мы должны к ним съездить. Хоть раз! Хоть ненадолго… Ты смотри, а Игорь, оказывается, женился! И даже двух дочек родить успел. И Серега… И Юра… Да они все такие! И дети у всех! От Зализы тоже письмо… Варлам, ты представляешь, оказывается у Кости Росина поместье под Тулой! Здесь недалеко совсем! А мы и не знали. У Саши Качина трое сыновей и дочь еще! Про мельницу пороховую что-то пишет.
– Ну, я задерживать вас не стану, – поклонился дьяк, и Юля наконец-то спохватилась, превратившись из взбалмошной девчонки двадцатого века во властную боярыню шестнадцатого:
– Ни в коем разе! Пока не попотчуем, баню не стопим, пока не поспите перед дорогой, никуда не пущу! Онисим, брось вилы, иди ворота запирай!
– Ну что ты, боярыня Юлия, – только и развел руками гость. – У меня же там полусотня детей боярских, и холопы.
– Онисим, стой! Всех бояр, что за стеной стоят, сюда зови. Пусть коней распрягают, брони снимают. У нас стены крепкие, покой защитить смогут. Ермил, Звяга, бросайте дрова, завтра поколете. Столы под навес выносите, все одно сена больше нет. И бычка Ваську выводите, хватит ему свеклу попусту есть, пора службу свою добрым людям сослужить.
– Не отпустим, Даниил Федорович, – с улыбкой покачал головой Варлам. – Не надейся…
По счастью, остановиться на отдых воину на так уж быстро: нужно расседлать скакунов, снять вьюки, вычистить лошадей, и только после этого можно отпускать их на луг пастись, если можно так выразиться – четвероногие отнюдь не щипали травку, а с громким ржанием носились друг за другом, кувыркались, катались на спине, тряся в воздухе всеми конечностями, словно призывающая к себе хахаля молодая кошка. Казалось, они не переход долгий только что выдержали, а застоялись в конюшне за долгую зиму, и не знают, куда силы девать.
Пока боярские дети снимали брони и прятали оружие, в усадьбе успели расставить столы, разделать бычка и отправить самые мясистые и сочные куски на кухню. Выставили холодные закуски: квашеную капусту, огурцы, соленые и маринованные грибы, расстегаи, пряженцы. По древнему русскому обычаю, обед полагается начинать с пирогов, а потому у Мелитинии с помощницами еще оставалось в избытке времени, чтобы приготовить мясные блюда.
– Извини, Даниил Федорович, вин немецких, французских и испанских у нас нет, – приглашая к столу, развела руками Юля. – Не довозят их сюда купцы московские. Посему, наливками своими потчевать стану, не обессудь.
– Как домой вернусь, обязательно пару бочек романеи вам пошлю, – немедленно пообещал Адашев, занимая место по правую руку от Варлама Батова. – А то и вправду непорядок получается. Однако, думаю, бояре, первым делом нам здравицу за хозяев поднять нужно! За боярина и боярыню, дай Бог им долгие лета! Многих им детей, и здоровья уже родившимся. Слава!
– Слава! – откликнулись воины, успевшие разместиться на длинных лавках, поднимая медные и оловянные кубки. – Слава Варламу и Юлии!
– Однако богатая у тебя усадьба, Варлам Евдокимович, – запуская зубы в пряженец с вязигой, похвалил дьяк. – Я, как с Андреем Толбузиным толковал, думал, младшего сына в роду увижу, только-только поместье от государя получившего. Ну, сам знаешь: усадьба – это изба рубленная, да пара сараев, частоколом окруженные. Пара смердов в подворниках, жена, свекровь, бабка приблудившаяся в кухарках, несколько детей голопузых. А тут подъезжаю: ба, крепость целая стоит! Поверишь, боярин, на Хортице у князя Вишневского крепость меньше. А он каждый год татар воюет.
– Так и здесь они каждый год являются, Даниил Федорович, – подлил дьяку еще наливки боярин Батов. – С самого первого лета басурман в гости встречаем. А на счет усадьбы ты прав. Как ты описал, таковая она поначалу и была. Мы ведь сюда впятером с братьями приехали, одинаковые усадьбы поставили. Да токмо женушку мою в первую же неделю едва в неволю не увели. Я тогда обеспокоился сильно, и со смердами тын первый земляным валом засыпал, а поверх еще частокол вкопал. Весной сюда татары пришли. У двух братьев усадьбы разорили, людей побили. Сергей, брат средний, погиб… – Варлам вздохнул грустному воспоминанию. – Ну, а мы со смердами многими за стенами земляными отсиделись. Сами уцелели, добро сберегли. Я летом пару пищалей купил, зелья огненного, Юлия моя нескольких холопов палить из них научила. Осенью татары пришли снова, и опять разорили братьев, а мы со смердами и детьми их отсиделись за стенами. Так и получилось, что у братьев моих Анатолия и Николая усадьба из пары сараев и одного дома, у Григория просто частокол высокий, а у меня крепость с пушками. Смерды, что из западных земель бегут, али из московских в поисках мест новых, стали ко мне поближе селиться, пашни здешние поднимать. Ныне они при известиях тревожных ужо не в леса и буераки прячутся, а в усадьбу ко мне сбираются. Верят, что опасности здесь нет. Приехал я сюда с пятью смердами, еще пять десятков семей остаться уговорил. Ныне же на землях, мне государем пожалованных, семь деревень, двести семнадцать семей и пятьсот тридцать три крепостных. Как сел я сюда, то с трех сотен чатей обязан был по воинскому уложению сам, да с двумя воинами в поход приходить. Ныне три десятка оружных выставлять обязан. И половина из них – холопы мои. Дабы крепостных всех от беды уберечь, два года назад усадьбу расширить пришлось, и стены новые я уже китайским образом поставил. По всем заветам: срубы дубовые с камнями, да земли на пару саженей. Углы, правда, странными кажутся, но Юлия говорит, для огненной защиты так строить надежнее. А боярыня у меня к воинскому делу зело разумная. Ей – верю.
– А братья не обижаются из-за разницы в делах такой?
– На что тут обижаться, Даниил Федорович? – удивился Батов. – Братья ведь. Коли помощь нужна будет, всегда друг друга поддержим. Коли беда – все одно вместе навстречу встанем. А дела разные – то ведь не моя беда. То татары вонючие каженное лето все, что нажито за год, отнять норовят. Братьям бы роздыху хоть пару лет, и они так же на ноги встанут, не хуже моего заживут. А лет пять без войны пожить – так не крепость земляная, палаты каменные у них встанут.
– Бог даст, вырвем у нехристей передышку малую, – взялся за кубок дьяк. – Токмо не просить ее надобно, а рукой сильной вырывать! Выпьем братья! За оружие русское выпьем, без которого не бывало бы на Руси ни покоя, ни праздника! Слава!
– Сам-то ты куда идешь, Даниил Федорович? – поинтересовался Варлам, осушив свою чашу.
– Дык, передышку братьям твоим добывать, – развел руками гость. – Ведомо государю нашему стало, что повелением султана турецкого, хан Сахыб-Гирей сбирается идти Терек воевать, селения русские там снести, рабов на галеры османские набрать, племена тамошние истребить. А поскольку все князья черкасские, кабардинские и жженские уже лет десять, как крест Ивану Васильевичу на верность целовали и в холопы к нему сами просились, повелел мне государь на их защиту идти, и его именем охотников по пути сбирать. Не желаешь со мной отправиться, Варлам Евдокимович? Басурман порубим, ясырь возьмем, дуван с казаками подуваним. Чем крепче по нехристям летом вдарим, тем менее охоты у них останется осенью сюда приходить.
– На басурман пойти? – Варлам покосился на сидящую рядом супругу. – Что скажешь, Юленька?
– Два месяца прошло, как в степь ходили, – вздохнула боярыня. – Мало? Усадьбу всю на меня одну на лето бросить хочешь?
– Два месяца? – моментально насторожился гость. – Куда?
– Разъезд степной, оскольского воеводы, лагерь татарский заметил. Странными стали басурмане в последние годы, Даниил Федорович. Ранее в весеннюю распутицу никогда в набег не ходили, зимой по своим кочевьям сидели. Даже стражу, бояре здешние сказывают, никогда зимой и по весне не выставляли. Но ныне начали. Вот и привез боярин Храмцов, что в дозор ходил, весть, что стоят татары за Изюмским бродом, и вроде ждут чего-то. Мы тогда волость исполчили, государь стрельцов от Тулы прислал. Ну, в степь пошли, да лагерь тот снесли в корень, со всеми нехристями. Юля моя тоже двух басурман на стрелу взяла, – не утерпев, похвастался Батов.
– Поведали мне в Москве, – недоверчиво покачал головой гость, – зимой в степи не вы татар, а они стрельцов побили.
– Было, – признал Варлам. – За беглыми татарами стрельцы погнались… И случилось что-то. Немногие живыми пешие дошли, и странное про сечу минувшую сказывали.
– Слышал, – кивнул дьяк. – Вести про колдовство басурманское мне так же проверить надлежит. Сам-то что думаешь, боярин?
– Думаю, побили их татары, – ответил Батов. – Вот со страху и померещилось лишнего.
– Вот и я так думаю, – согласился боярин Адашев. – Однако же священника и знахаря чухонского с собой прихватил. Может, и пригодятся… – доев пряженец, гость потянулся к расстегаю с грибами. – Так что, Варлам Евдокимович, пойдешь со мной татар бить? Отпустишь мужа со мной, боярыня?
– Ты знаешь, Даниил Федорович, – оправила Юля воротник на черной шелковой блузке с вышитой на ней золотой нитью драконом, – в тех землях, откуда я родом, девушки не любят выходить замуж за мужчин, мужским делом занимающихся. Ты, говорят, в любой из дней домой можешь не вернуться, голову сложить, а мне потом одной оставаться. Дети сироты, сама без ласки. Судьбы такой не хотят. Только здесь я поняла, что русских мужей иных и не бывает. Коли службы ратной страшишься, коли за Родину живота класть не хочешь – значит, не русский ты человек. Раб безродный. Посему мужа службой государевой или порубежной никогда не попрекаю. Однако же лук мой, и опыт воинский позволяют требовать для себя иное. Хочешь в поход идти – бери меня с собой.
– Да как же так, Юленька?! – растерялся Батов. – Сейчас же не зима, май заканчивается. Смерды репу только начинают сажать. Куда сейчас нам обоим? А хозяйство как же?
– Про хозяйство вспомнил? – прищурилась Юля. – Ты лучше вспомни, что просил, когда замуж выйти просил?
– Что?
– Десять сыновей тебе родить ты просил. Где я их тебе возьму, если ты что не месяц, из постели семейной в луга удрать норовишь?
Сидящие за столом бояре грохнули оглушительным хохотом. Дьяк Адашев, тоже смеясь, поднял руки:
– Все, молчу. Сыновья – это дело такое, что никаким ясырем не заменишь. Это дело никакому приказчику доверить нельзя. Только самому.
– Вот так, – поднялась из-за стола Юля. – Тогда я пойду, на счет горячего распоряжусь. И чтобы рыбу копченую и соленую принесли, а то блюда уже опустели…
Разумеется, дьяк Даниил Федорович Адашев, как и все государственные люди, бессовестно лгал. Ни на какой Терек он не пошел. Спустившись вдоль Оскола до Купеческого брода, он пересек реку и скорым маршем двинулся к Дону, затем вниз по течению до Калачевского волока, возле которого, ввиду окруженного тыном острога атамана Михаила Черкашенина и остановился на целую неделю, давая роздых людям и лошадям.
Атаман прислал пожилого чубатого казака, зазывая боярских детей в гости, но Адашев вежливо отказался, велев ответить, что ожидает корабли с воинским припасом для важного секретного дела, о котором боится разболтать. Спустя три дня тот же ответ получили и посланцы казацкого атамана Сары Азмана,[1] поставившего четыре городка несколько ниже по течению.
В первых числах июня на левом берегу Дона появились большие конные упряжки в несколько десятков низкорослых ширококостных меринов, волокущих по толстым, потемневшим от времени полозьям почти беленькие, свежеструганные новенькие ладьи.
Присматривали за перетаскиванием кораблей казацкие старшины – по какому-то странному совпадению, за строительством судов по государеву заказу и для торговых целей присматривали почему-то именно донские казаки. Они же и работу у артелей принимали.
Пятого июня тысяча пятьсот шестьдесят седьмого года все четырнадцать груженых вином, порохом, ядрами, сукном и пищалями ладей закачались на волнах полноводного Дона. В тот же день дьяк Адашев поднял своих воинов на коней и двинулся по берегу вслед за речным караваном. И в тот же день по его следам тронулись туда же три сотни под рукой атамана Чекашенина и две – Сары Азмана. Правда, сам атаман Азман сказался больным, но людей своих от похода удерживать не стал.
Даниил Федорович еще не успел произнести ни единого слова, ни дать ни намека, ни полунамека, а впереди него на два дня пути уже мчался будоражащий кровь любого казака волнительный клич:
– На татар! Поход на басурман сбирается! Кто хочет за христианскую веру быть посажен на кол, кто хочет принять всякие муки за святой крест – приставай к нам!
К тому, когда Даниил Федорович добрался до Белой Церкви, что уже десятый год считалась столицей донского казачества, вокруг него – позади, впереди, на левом берегу Дона – уже успело собраться никак не менее сорока сотен казаков, а по реке следом за его челнами плыло еще полсотни стругов.
Донская столица мало чем отличалась от обычного татарского стойбища: сотни войлочных шатров, орущие верблюды, блеющие овцы, всепроникающий запах кислятины и конского пота. Правда, здесь стояло несколько рубленных часовен, церквей и один настоящий большой каменный храм, сложенный из оштукатуренного известняка: та самая Белая церковь, выходящая главными вратами на центральную площадь, и с огороженным частоколом обширным подворьем, на котором виднелись крыши еще нескольких домов.
Остановившись перед храмом, Даниил Федорович скинул шлем и подшлемник, широко перекрестился на висящую над входом икону, низко поклонился, вошел внутрь. На площади, в ожидании, пока московский гость выйдет наружу, начал скапливаться народ – в свободных рубахах, широких шароварах и замысловато намотанными на пояс длинными матерчатыми поясами, поперек которых, на животе, была засунута сабля, а иногда – и пара длинных кинжалов.
Наконец боярин вышел, причем в сопровождении священника. Остановившись на ступенях, Адашев снова широко перекрестился, поклонился на три стороны и громогласно объявил:
– Люди православные! По указанию государя Ивана Васильевича и с благословения митрополита Московского отправляюсь я ныне воевать земли басурманские, татарские! Посему и клич бросаю: а пойдете ли вы со мной в поход священный?
– Любо!!! – с облегчением заорало в толпе сразу несколько голосов. – Любо! Пойдем с тобой боярин!
– Пойдем! – поддержали и другие казаки. – Смерть неверным!
Тут же мимо московского гостя выступил вперед отец Григорий, поднял тяжелый золотой крест:
– То есть повинность наша, братия, и кождого христианина за веру умрети, – казаки начали опускаться на колени, креститься покорно склонив голову. – За що от Господа в Троицы Светой Единого гойную и стократную заплату в небе одержати рачиш.
– Господи, спаси, помилуй и сохрани… – тихо завторили ему сотни голосов.
Адашев тоже перекрестился, одними губами читая молитву, и сделал условный знак холопам, чтобы выкатывали сгруженное с ладей пшеничное вино.
Дело шло к быстрому завершению. Только что он выиграл самое главное – право командовать войском. Кичащиеся своей вольностью казаки никогда не принимали присланных царем воевод, а посему ему пришлось пойти на маленькую хитрость – не просить признать себя воеводой, а позвать казаков присоединиться к нему. Дальше он разберется уже с сотниками, или атаманами кругов, или головами – и как там они еще своих главарей называют? Однако нужно было дать понять этим разбойникам, что и их мнение учитывается в предстоящем походе, что и от них зависит общий успех.
Выждав, пока затихнут молитвы, дьяк снова поднял руку:
– Вопрос у меня есть к вам, православные! Кому флот походный доверить? Кто ладьи через море поведет? Кто повезет нас всех басурман проклятых бить?
Казаки замерли в мучительных раздумьях, и стало слышно, как поскрипывают камушки под приближающейся объемной бочкой.
– Ваську Безусова нужно, – предложили слева. – Он о прошлом годе два корабля турецких потопил!
– Молод еще! – отозвались справа. – Матвея Водяного надо! Он давно плавает.
– Стеньку Рыжего! – начав входить в азарт, выкрикивали все новые и новые имена казаки. – Серьгу Грязного! Он самый лихой!
Поначалу Адашев решил, что общего мнения станишники не достигнут никогда, но постепенно в многоголосом оре начал побеждать атаман Безусый. На крыльцо рядом с дьяком поднялся молодой, круглолицый и кареглазый казак. Правда, с усами, и довольно длинными. Низко поклонился:
– Благодарствую за доверие братцы.
Разномастные крики стихли, слившись в единое дружное:
– Любо!!!
– А теперь ради благосклонности своей государь угостить вас всех желает! – боярин указал в сторону выставленных холопами бочонков. – А кто еще захочет, может на причал, к ладьям московским идти.
На этот раз Адашев перекрестился вполне искренне – похоже, дело окончательно срослось. Сколько раз уже он по указу царскому в походы с казаками донскими и днепровскими ходит, а все до последнего часа не верит, что под свою волю их подмять получится.
Васька Безусый, к его удовольствию, на дармовую выпивку не прельстился, оставшись стоять на ступенях, и Даниил Федорович обратился к нему:
– Сотников и тысячных собрать надо. Решить всем вместе, как поход зачинять.
– Сотников и тысячных у нас нет, боярин, – покачал головой казак. – Атаманов собирать надо. Но сегодня уже не получится. Только завтра. Моя ладья у причала рядом с твоими стоит. На носу череп лошадиный прибит, и усы к нему из пакли приделаны. Там около полудня и встретимся. Любо?
– Вполне, – согласно кивнул дьяк.
Казаки упивались вином далеко заполночь, пока не попадали от усталости, кто где был – иные прямо на ступенях церкви, в обнимку с попами, а иные в скотном загоне, вперемешку с овцами. А может, кто и к свиньям забрался, про то теперь не узнать – хаврюшки твари такие, они и сожрать беспамятного человека могут. Донская столица напоминала поле боя, усеянное телами павших в неравной битве. Над бесчувственными станишниками бродили одетые в бронь боярские дети и любовались своими будущими соратниками в боях.
Как и предсказывал Безусый, приходить в себя православные воины начали только к полудню, и вскоре стали выстраиваться перед часовнями и церквами в длинные очереди, собираясь исповедаться и причаститься перед ратным походом на нечестивые земли.
А утором следующего дня государев дьяк в сопровождении своих бояр и пяти сотен казаков под командой атамана Черкашенина вышел одвуконь из Белой Церкви и скорым маршем устремился вниз по Дону.
Амер Талык, гордо поглядывая на пощипывающих молодую травку лошадей, неспешно двигался вдоль табуна, помахивая сплетенной из трех тонких кожаных ремешков плеткой, и мечтал о том, как из-за холма выскочит огромная стая волков – но он ринется наперерез, прогонит их прочь, а вожака убьет нагайкой и завтра поутру привезет в род, небрежно сбросив возле отцовской юрты.
– Мне доверили пасти бейский табун, – вслух произнес он. – Вот я и стал совсем взрослым.
То, что он ушел в степь к табуну не один, а вместе с двумя дядьками ничего не меняло – ведь за сохранность коней отвечает каждый из них, и отправив его вместе со взрослыми пастухами отец явно признавал его равенство с прочими мужчинами.
– Вот я и стал совсем взрослым…
Он остановил коня, прислушиваясь к приближающемуся топоту. Никак, кто-то табун сюда гонит? Вот суслики безмозглые! Сейчас лошади перемешаются – вовек, где чья, не разобрать будет!
Амер повернул скакуна и пнул его пятками, торопя навстречу чужакам. Он хорошо понимал, что табунщики наверняка идут позади и его не увидят, а потому нужно успеть перехватить их как можно раньше, и отвернуть в сторону.
До чужаков было совсем рядом – два-три полета стрелы. Он с облегчением увидел, что пастухи мчатся впереди, верхом, и замахал руками, обращая на себя внимание. Однако те, не снижая скорости, повернули прямо на татарчонка. Оскаленные морды лошадей, стеганные халаты, загорелые усатые лица, болтающиеся на боках сабли, щиты, пики у стремени. Пастухи сидели на каждом из коней, а не гнали их перед собой и только теперь Амер сообразил, что видит перед собой самый настоящую воинскую полусотню, а не табун. Еще несколько драгоценных мгновений ушло на то, чтобы понять – это вовсе не татары.
– Казаки!!! – он рванул поводья так, что едва не своротил своему мерину голову. – Казаки!
Конь огромными прыжками начал разгоняться, а по сторонам со зловещим шелестом уже падали в траву стрелы. Седло внезапно ушло вниз, Амер заскользил вперед, чувствуя нарастающий в душе леденящий ужас. Черная грива скользнула по шароварам между ног, ступни зацепили землю – он кувыркнулся через голову, еще раз, ловко вскочил, и кинулся бежать, продолжая отчаянно вопить:
– Казаки!
Что-то кольнуло в спину между лопаток. Совсем не больно. Только в груди неожиданно стало очень холодно. Амер попытался оглянуться, чтобы узнать, насколько далеко ему удалось оторваться, но торчащая из груди пика сделать этого не дала, и он просто упал вперед.
– С нами Бог! – молодой казак, не останавливая коня, позволил руке вывернуться назад, после чего привычным рывком выдернул пику. – Ур-ра!
– Не ори, татар спугнешь! – упредил его более опытный товарищ. – Чую, рядом они!
Полусотня выметнулась на взгорок, увидела впереди множество конских спин, рванула туда, огибая табун справа и слева – и играющие в нарды двое пастухов заметили опасность слишком поздно. Пожилые татары вскочили на ноги и прижались спина к спине, обнажив сабли.
Отряд казаков быстро окружил их, лишая последних шансов убежать.
– Давай Лука, – разрешил пожилой казак с толстой золотой цепью на шее и большой серьгой в ухе. – Покажи удаль.
Совсем юный казак, лет пятнадцати, выехав немного вперед, опустил пику, пришпорил скакуна, помчался вперед, метясь басурманину в грудь. Тот в последний момент отбил острие в сторону, и даже попытался рубануть противнику ногу, но всадник успел отвернуть, и татарин не дотянулся.
– Расступись, братья, – приказал пожилой. – Скорости ему не хватает. Давай Лука, еще раз.
Всадник помчался в новую атаку, и опять пожилой воин смог отвести от себя смертоносное острие.
– Уже лучше, – кивнул казак. – Но все равно медленно. Нужно все свое тело в удар вложить, конем его припечатать. Тогда, даже если отмахнуться успеет, силы не хватит пику отвести. Давай снова!
Молодой казак под взбадривающие выкрики товарищей помчался в третью атаку – и на этот раз пика вошла нехристю глубоко в живот. Татарин, выпучив глаза, вцепился в ратовище обеими руками и медленно осел в лужу крови.
