Зигмунд Фрейд. Жизнь и смерть
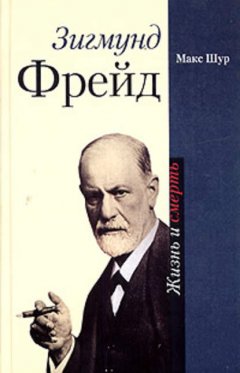
Вступление
Написать книгу о жизни выдающегося человека, особенно если придется коснуться темы его смерти, – дело совсем не простое; это потребует от автора большой деликатности. Особенно трудным это становится, когда книгу пишет врач, а выдающийся человек, о котором он собирается рассказать, – его пациент, которого он любил и уважал. Затея представляется совсем уж невыполнимой, если этого пациента зовут Зигмунд Фрейд. С тем, чтобы лучше объяснить, почему я считаю написание такой книги не только необходимым, но и рассматриваю это как мою личную обязанность, мне нужно сперва кратко изложить историю ее появления.
Предыстория этой книги
Психоанализ учит нас, что жизнь человека не так полна случайностей, как это обычно считается. И все же случай всегда найдет себе место в череде житейских событий. Именно ему я обязан тем, что в 1915 г., когда я только что поступил в медицинскую школу, моя очаровательная кузина, изучавшая тогда психологию у Спапареда в Женеве, убедила меня посещать лекции, которые читал не кто иной, как Фрейд. Они позже были опубликованы под названием «Лекции по введению в психоанализ».
Кроме меня, на этих лекциях присутствовало еще несколько студентов-медиков. Аудитория Фрейда состояла по большей части из студентов, «интеллектуалов» и просто любопытствующих. Присутствовавшие студенты-медики должны были удостоверять свои посещения личной подписью лектора. Фрейд имел обыкновение лично приветствовать каждого студента, обменявшись с ним парой слов и рукопожатиями. Особенно впечатлял проницательный взгляд, с которым он всегда жал руку. Мог ли я помыслить тогда, что тринадцать лет спустя мне доведется стать его личным врачом.
И в этом, и в последующем году я не пропустил ни одной лекции. Было бы совсем не просто объяснить удивительную притягательность тех встреч и оценить значение приобретенных познаний. Разумеется, в свои восемнадцать лет я еще не был готов к целостному восприятию этих лекций, однако органичное единство сути идей Фрейда и формы их представления производили неизгладимое впечатление. При этом перевод его работ всегда представлял особые трудности для всех, включая Стрейчи и конечно же меня: сопутствующие ему сложности можно было сравнить разве что с теми, которые существуют при переводе стихов.
Как бы то ни было, посещение вводных лекций не могло не вызвать у меня самый живой интерес к психоанализу. В то же время по ряду причин я решил специализироваться в сфере медицины внутренних болезней. Собственный анализ я начал в 1924 г.
И вновь стечение обстоятельств: в 1927 г. мой старший коллега, консультировавший Мари Бонапарт[1], направил меня к ней, чтобы взять анализ крови. Мы разговорились, и она оказалась приятно удивлена встречей с терапевтом, увлеченным психоанализом. В 1928 г. во время пребывания в Вене она тяжело заболела, и я лечил ее в течение долгих недель[2]. Именно она убедила Фрейда пригласить меня в качестве личного врача. Им я и оставался вплоть до самой его смерти в 1939 г.
Таким образом, мне довелось узнать Фрейда как учителя, ученого и почтенного отца семейства. Я заботился о здоровье членов его семьи, многих из его пациентов, о которых мы с ним часто и помногу беседовали. Я видел его страдающим от мучительных болей. Я видел его пренебрежение и презрение к грубости и глупости, как и нежную любовь к близким для него людям. Он всегда был гуманным и благородным человеком в самом высоком смысле этого слова. И я могу утверждать, что свою мучительную болезнь и смерть он встретил с тем же достоинством, которое было свойственно ему всю его жизнь.
После смерти Фрейда я переехал в Америку, где многие мои друзья, коллеги, издатели книг и журналов и даже кинопродюсеры настойчиво добивались от меня, когда же, наконец, я «поделюсь с общественностью» моими воспоминаниями о Фрейде. Однако я предпочитал воздерживаться от этого многие годы, и не только потому, что уважение к тайне частной жизни было неотъемлемой частью кодекса чести самого Фрейда, но и поскольку требовалось время, чтобы обрести необходимую объективность в освещении давних событий. Мне нужно было подготовиться к этой работе так основательно, чтобы с занятой мною позицией мог бы согласиться даже сам Фрейд.
В 1950 г. на английском была опубликована книга «Введение в психоанализ». Вряд ли можно переоценить важность этого события. Приложенная к этой книге значительная часть переписки Фрейда с Вильгельмом Флиссом, равно как и сопутствующие рукописи, в особенности «Проект научной психологии» (1895), во многом разрушают наше непонимание личности и работ этого великого человека. Все это особо подчеркивали Эрнст Крис, написавший предисловие к «Введению в психоанализ», Эрнест Джонс, автор книги «Жизнь и творчество Зигмунда Фрейда», и другие. Через знакомство с «Введением в психоанализ» мы можем глубже приобщиться к гению Фрейда, к особенностям его развития и деятельности. Мы можем видеть, что своими творческими озарениями Фрейд был обязан не только вспышкам своей поразительной интуиции. Ключевую роль здесь сыграли его высочайшая честность перед самим собой, решительность и мужество, с которыми, преодолевая ошибки и промахи, он шаг за шагом шел к своим открытиям.
Всякий, кто увлечен психоаналитическими изысканиями и, следовательно, изучал труды Фрейда, не раз мог заметить, что многие идеи, сформулированные им позднее, прямо или косвенно встречаются уже в его ранних рукописях. По этой причине систематическое изучение рукописей Фрейда представляет особый интерес даже для современного психоанализа. Даже в таких ранних его работах, как «Проект научной психологии» и в особенности «Толкование сновидений» (1900), мы можем обнаружить по крайней мере элементы многих идей, большей частью получивших развитие не только в трудах самого Фрейда, но и в работах последующих поколений психоаналитиков.
В своем вступлении к опубликованному сборнику переписки с Флиссом и в сносках внутри издания Эрнст Крис особенно стремился сопоставить отраженные в этих письмах идеи Фрейда с теми, которые он параллельно развивал на страницах своих научных трудов. Сверх того, Крис взялся проследить и судьбу впервые прозвучавших в письмах к Флиссу идей, которые сформировались в научных работах Фрейда значительно позже. Многие его теории продолжительное время оставались в неоформленном состоянии, пока Фрейд собирал для них необходимые фактические подтверждения. Они вновь могли возникнуть у него лишь спустя десятилетия самоанализа и работы с пациентами. Для конкретного примера здесь можно вспомнить о концепциях «Я» и «Сверх-Я» или о переформулированной им теории тревоги.
Я уже говорил об уважении к частной жизни как о препятствии к опубликованию некоторых биографических подробностей. Однако сам Фрейд нередко преодолевал стремление оградить свою личную жизнь от внимания, если полагал, что научные соображения требуют обратного. Так в «Толковании сновидений» и «Психопатологии обыденной жизни» он с готовностью очень искренне обсуждал весьма интимные подробности своей жизни, своих мыслей и фантазий, которые обнаружил в процессе самоанализа. Впрочем, при написании «Толкования сновидений» Фрейд не пренебрегал правом определенным образом «цензурировать» свои тексты. Иначе обстояло дело с личной перепиской, которую он вел с Флиссом. В одном из писем к нему Фрейд сам отмечал, что эта переписка имеет для него особое значение из-за той предельной искренности, которую порой можно позволить при общении с близким человеком. Неудивительно, что Фрейда крайне взволновала возможность ее публикации в момент, когда вся переписка неожиданно оказалась в распоряжении Мари Бонапарт. В ее обращении к нему ярко обнаруживается конфликт между стремлением сохранить в неприкосновенности личную жизнь и потребностями научной общественности. Мари Бонапарт писала Фрейду:
«Возможно, Вы сами… не в полной мере понимаете всю меру Вашего величия. Вы принадлежите истории человеческой мысли, как Платон или, скажем, как Гёте. Какой потерей для нас, их несчастных потомков, обернулась бы утрата бесед Гёте с Эккерманом или диалогов Платона…»
Фрейд отвечал:
«Печально, что мои письма к Флиссу находятся все еще не в Ваших руках, а в Берлине… Мне нелегко принять Ваше мнение, равно как и использованные Вами сравнения. Я могу лишь полагать, что через 80 или 100 лет интерес к этой переписке заметно ослабеет».
Издатели переписки с Флиссом вполне осознавали всю деликатность проблемы и отразили ее во вступительной части сборника. И все-таки переписка была опубликована, хотя и частично.
С ее выходом в свет появилась возможность не только в новом свете взглянуть на научные построения Фрейда, но и получить бесценный источник биографического материала, позволяющего хотя бы частично приобщиться к поразительному подвигу Фрейда – его самоанализу.
Переписка с Флиссом представляет особую ценность для всех, кого интересует творчество и личность Фрейда, включая и меня. Возможность сопоставить образ Фрейда, которого я знал по вводным лекциям и лично знал на протяжении одиннадцати последних лет его жизни, с тем Фрейдом, который предстает на страницах этих писем, многое может объяснить. Сверх того, эта переписка представляет особый интерес для меня. Будучи знаком с его работами и благодаря опыту личных контактов я довольно хорошо представляю себе отношение Фрейда к жизни, болезням и смерти. Я видел, как он держался в годы тяжелейших страданий. Находясь на пороге смерти, Фрейд рассказывал мне в общих словах о наблюдавшихся им у себя симптомах болезни сердца, которые беспокоили его до сорока лет. Лишь в некоторых научных и автобиографических работах Фрейда можно обнаружить редкие разрозненные упоминания об этой проблеме. Не чаще можно встретить и указания на навязчивую сосредоточенность (правда, в легкой форме) Фрейда на вопросе якобы строго предопределенной продолжительности собственной жизни. Я не знал, однако, что проблемы с сердцем у Фрейда были так серьезны, что по крайней мере в течение двух лет он действительно жил в страхе внезапно умереть от сердечного приступа. Подробно эта тема будет обсуждаться во 2-й главе этой книги.
Опубликованная переписка с Флиссом охватывает период с 1887-го по 1902 г. Особенно драматичным во многих отношениях для Фрейда было время с 1893-го по 1900 г. В 1893-м Фрейд с Брейером опубликовали предварительный вариант их работы «Психические механизмы истерических явлений». В том же году у Фрейда появились первые симптомы стенокардии, а в 1900 г. вышло его «Толкование сновидений».
Мы узнали немало ценного из переписки с Флиссом, однако многие вопросы остались без ответа, и я пришел к выводу, что мои наблюдения, особенно последних десяти с половиной лет жизни Фрейда, все же следует опубликовать. Я свел воедино все имевшиеся у меня материалы, большую часть которых использовал д-р К.Р. Эйслер для пополнения архива Зигмунда Фрейда.
В то время Эрнест Джонс готовил издание своей биографии Фрейда. Семья Фрейда всецело поддерживала его в этом начинании. Джонс получил право доступа к большой части переписки Фрейда, содержавшей и сохранившиеся в неприкосновенности его письма к невесте.
Поэтому с разрешения семьи Фрейда я решил предоставить в распоряжение Джонса все собственные материалы, равно как и записи профессора доктора Ганса Пихлера – хирурга, оперировавшего Фрейда с 1923-го по 1938 г. Эти записи (примерно 80 печатных листов) дают подробный отчет по каждому медицинскому осмотру Фрейда, включая данные о более чем 30 проведенных операциях[3]. Я намеревался передать в распоряжение Джонса и все копии писем Фрейда, адресованных мне, перед тем как он начнет работу над третьим томом книги, поскольку тоже желал внести свою лепту в создание научной биографии, и, кроме того, хотел оказать помощь человеку, который помог мне и моей семье получить английскую визу и уже на английской земле вновь официально стать личным врачом Фрейда прежде, чем я, как эмигрант, прошел через необходимые процедуры перепроверки.
В 1953 г. появился первый том Джонса, содержавший большое количество нового, не публиковавшегося ранее материала, включая, например, подборку писем Фрейда к невесте. Работа, проведенная Джонсом, действительно отличалась высоким качеством и была оценена по заслугам. Все три тома останутся бесценным источником информации для историков и биографов Фрейда. Это событие вновь показало мне необходимость пополнения биографии Фрейда воспоминаниями современников, близко его знавших.
Впрочем, некоторые особенности первого тома вызвали у меня возражения. Прежде всего, я не согласился с оценкой Джонса симптомов болезни Фрейда. Джонс был склонен объяснять ее «тревожной истерией». Также он говорил, что определенное время Фрейд испытывал «частые приступы» страха смерти, чему я не нашел доказательств в опубликованной переписке с Флиссом. Не могу согласиться и с довольно поверхностной интерпретацией Джонсом некоторых аспектов отношения Фрейда к Флиссу, которые он рассматривал прежде всего в свете детской сексуальности и в особенности эдипова комплекса. Подобный подход не в состоянии отразить подлинные сложности этих отношений.
К тому времени я уже понял, что изменения в отношении Фрейда к болезни и смерти нельзя рассматривать в отрыве от мучивших его болезненных симптомов и вне их тесной связи с самоанализом и отношениями с Флиссом.
После опубликования первого тома биографии, который охватывал период жизни Фрейда до 1902 г., я, соответственно, переписал то, что Джонс позже назвал моим «эссе», включив туда некоторые мои мысли, расходившиеся с его позицией, в особенности в той ее части, где Джонс оценивал симптомы болезни Фрейда.
Перед тем как поставить Джонса в известность, я поделился своими соображениями с Анной Фрейд. Свое суждение она выразила в письме. Оно превзошло все мои ожидания: «Сам пациент высоко оценил бы Вашу позицию, если бы мог с ней познакомиться». Я решил отправить рукопись Джонсу, когда он возьмется за третий том.
В то время я вел с ним интенсивную переписку по поводу многих аспектов его работы. Тогда мы пришли к соглашению, что мое «эссе» будет опубликовано под моим именем в конце третьего тома и получит название «Последняя глава». Однако позже по ряду причин планы Джонса на этот счет изменились, и он предпочел все предоставленные мною материалы просто включить в свой текст, разумеется, при этом сославшись на меня должным образом. Тем не менее в результате много важной информации выпало из книги. В конечном итоге я понял, что даже рад, что мы отступили от намеченного плана. Прежде всего, я начал осознавать, что отношение Фрейда к смерти как к биологической, физиологической и психологической проблеме выступает в качестве важной составляющей его работы; это отношение изменялось по мере создания Фрейдом своей новой науки, и такое изменение неотъемлемо связано с его самоанализом, продолжавшимся всю жизнь. Придя к этому заключению, я понял, что требуется нечто большее, чем просто «последняя глава». Следовало предпринять попытку возвратиться к истории ее появления.
Ранее я выразил свое нежелание писать биографическое исследование, объяснив это, в частности, тем, что «уважение к частной жизни было частью кодекса чести самого Фрейда». Это утверждение требует некоторых разъяснений. Я упомянул, что в «Толковании сновидений» и прочих работах Фрейд раскрыл некоторые интимные подробности собственной жизни. Он обсуждал их столь открыто, поскольку считал это необходимым для правильного «толкования сновидений» и адекватного понимания «психопатологии обыденной жизни».
На протяжении всей жизни Фрейд очень свободно обсуждал свои самые сокровенные мысли как с Флиссом, так и с многими другими коллегами и друзьями. Однако всегда именно он сам устанавливал пределы допустимой откровенности. Более того, он не мог и представить, по крайней мере сознательно, что все эти материалы попадут в распоряжение биографов. Поэтому в 1936 г. он вначале ужаснулся, узнав, что его переписка с Флиссом оказалась у Мари Бонапарт.
Когда на рубеже веков Фрейд вышел из состояния изоляции, которая была отчасти самоизоляцией, и стал всемирно известен, ему было крайне неприятно находиться в центре всеобщего внимания, в том числе и внимания прессы.
Известно, что со времени своего визита в США в 1909 г. Фрейд стал относиться к этой стране с некоторой предвзятостью. Одной из причин того, возможно, стала именно столь распространенная в Америке как в академических, так и в обывательских кругах атмосфера крайней бесцеремонности. В самом деле, у Фрейда всегда было очень мало друзей, с которыми он бы легко общался и переписывался, что называется на «ты».
Каково же было отношение Фрейда к биографическим изысканиям? Говоря об этом отношении, следует, прежде всего, обратить внимание на то, кто именно выступал объектом такого исследования – другие или он сам. Фрейд без колебаний применял методы психоанализа как к известным произведениям искусства, так и к их создателям. Примеров тому немало. Среди прочих можно вспомнить царя Эдипа, Гамлета, короля Лира, новеллы К.Ф. Мейера, «Градиву» Йенсена, «Моисея» Микеланджело. Фрейд писал биографические эссе о Гёте, Достоевском и Леонардо да Винчи.
В письме Хэвлоку Эллису от 12 сентября 1926 г., написанном после получения автобиографии последнего, можно видеть, что Фрейд вполне осознавал противоречие между своим любопытством к жизни выдающихся людей и нежеланием делиться той же информацией личного порядка с другими. В его ответе были такие слова:
«Я вижу, сколь великодушно вы готовы предоставить в распоряжение биографа столь большой объем личной информации. Сам же я не нашел бы для этого никаких стимулов».
Фрейд по-разному реагировал на свои биографии, написанные Ф. Виттельсом (1924) и Стефаном Цвейгом (1931, 1933).
Предпубликационную копию немецкой версии книги Виттельса он получил в декабре 1923 г., вскоре после своей второй онкологической операции (см. главу 13). Ответ Фрейда содержал острую критику этого труда наряду с признанием его отдельных положительных моментов. Например:
«Стоит ли говорить, что сам я никогда бы не пожелал такой книги и не способствовал бы ее появлению. Я считаю, что у общества нет никаких прав на мою персону, и оно ничего у меня не почерпнет, пока мой случай… не получит полного освещения!»
Одна из основных претензий Фрейда к Виттельсу, бывшему студенту Штекеля, заключалась в том, что тот не смог объективно представить причины его разрыва с последним.
Фрейд также составил список замеченных им неточностей, ожидая, что Виттельс внесет должные поправки. Закончил письмо он следующими словами: «Пожалуйста, воспринимайте сказанное так, что, хотя я и не одобряю Ваших усилий, я никоим образом не могу их и недооценивать».
В опубликованную версию этого письма не была включена оценка Фрейдом построений Виттельса: «Возможное не всегда действительно».
Позже, ознакомившись с английским переводом книги Виттельса и не обнаружив там большей части рекомендованных им поправок, 15 августа 1924 г. Фрейд писал:
«Я убежден, что если некто знает о ком-то так же мало, как Вы обо мне, то ему не следует что-либо писать об этой персоне и уж тем более называть написанное биографией. По крайней мере, следует подождать, пока персона уйдет в небытие, чтобы возражать было уже некому».
Особенно Фрейд возражал против некорректного изложения Виттельсом эпизода с кокаином (см. главу 1), но еще больше – против истолкования им окончательного разрыва с Флиссом. Тем не менее на следующий год Фрейд дал свое согласие на восстановление Виттельса в Венском психоаналитическом обществе.
Из этих писем можно видеть, что Фрейд весьма негативно относился к биографическим исследованиям его жизни, а если и шел навстречу устремлениям авторов, то требовал от них строго придерживаться действительных фактов. То самое «возможное не всегда действительно» относится именно к многочисленным безосновательным домыслам и гипотезам. Несмотря на всю свою нерасположенность к подобного рода затеям, Фрейд не мог отказать в определенной поддержке даже этому, столь критикуемому им биографу.
На работу Стефана Цвейга Фрейд отреагировал более благосклонно. Он писал:
«Нежелание признать себя в собственном портрете или неузнавание себя в нем – факт обыденный и хорошо известный. Поэтому я поспешу выразить удовлетворение тем, сколь точно Вами подмечены мои наиболее характерные черты. Действительно, то, чего я достиг на настоящий момент, все это прежде всего благодаря моему характеру, чем интеллекту. Полагаю, что это стержень Вашего мнения, и я придерживаюсь такой же точки зрения…
В действительности человек – более сложное существо: с созданным Вами образом не согласуется, что я испытываю головные боли и временами устаю, как и любой другой человек, что я был страстным курильщиком (я бы и желал им оставаться), что своим самоконтролем и упорством в работе я по большей мере обязан сигаре, что, несмотря на всю свою хваленую непритязательность, я многое отдал за то, чтобы собрать свою коллекцию греческих, римских и египетских древностей, что я больше интересуюсь археологическими книгами, чем психологическими, что до войны и сразу после ее окончания каждый год я чувствовал острую потребность провести в Риме хотя бы несколько недель или дней, ну и так далее».
Более определенно по проблемам, возникающим при изучении жизни «великих людей», Фрейд высказался в своей благодарственной речи, написанной им по случаю присуждения премии Гёте в 1930 г.:
«Я готов принять упрек, что мы, аналитики, недостойны находиться под покровительством Гёте, ибо преступили черту, пытаясь применить аналитические методы к нему самому, низведя тем самым великого человека до объекта исследования. Однако я не соглашусь, что тем самым мы умаляем его величие.
Все мы, почитающие Гёте, без особого протеста принимаем усилия его биографов, пытающихся по имеющимся сведениям воссоздать его жизнь. Но что значат для нас эти усилия, если даже лучшие и исчерпывающие биографические работы не могут ответить на два вопроса, которые только и представляют для нас интерес; не могут пролить свет на происхождение того великого дара, который создает гения, и не помогают нам сколько-нибудь хорошо понять ценность и значение его творений? А ведь, без сомнения, именно такие биографии способны удовлетворить нашу столь сильную потребность. Мы ощущаем ее особенно остро, когда история безапелляционно отказывает нам в ее удовлетворении, как, например, в случае с Шекспиром… Но что оправдывает нашу потребность узнать подробности жизни человека, когда его работы приобретают для нас столь большое значение? При ответе на этот вопрос обычно отмечают желание приблизить к нам такую личность в ее человеческих чертах. Допустим…
И все же следует признать, что существует и другой мотив. Оправдание биографа содержит также признание. Разумеется, биограф не стремится развенчать своего героя, но желает сделать его ближе, понятнее нам. Однако это означает уменьшение расстояния, которое отделяет нас от него, и определенное умаление его исключительности. Неизбежно, что, узнав больше о жизни великого человека, мы узнаем и о тех случаях в ней, в свете которых он совсем не выглядит героем, выглядит не лучше нас и по-человечески действительно приблизился к нам. И тем не менее, я полагаю, что нам следует узаконить усилия биографов. Наше отношение к отцам и учителям всегда имеет двойственный характер: глубокое почтение к ним всегда содержит и компонент враждебного протеста. Это психологическая неизбежность, которая не может быть изменена без насильственного вытеснения истины, и ей надлежит распространяться на наше отношение к великим людям, истории жизни которых мы намерены изучать».
Эти строки ясно указывают на те конфликты и ограничения, перед лицом которых оказывается любой биограф. Осознать их – его обязанность. Пусть нехотя, но Фрейд все же признал, что «усилия биографов следует узаконить». Никакое выполненное психоаналитиком биографическое исследование не может отказаться от применения к своему объекту методов психоанализа. Следовательно, биографические изыскания оказываются в сфере внимания так называемого прикладного психоанализа.
Фрейд подошел к этой проблеме и с другой стороны. Арнольд Цвейг, с которым он интенсивно переписывался на протяжении последнего десятилетия своей жизни (см. главы 20–27), с 1930 г. увлекся идеей провести сравнительно-сопоставительное исследование трудов и личностей Фрейда и Ницше.
В 1934 г. А. Цвейг отправил Фрейду набросок своей, как он ее называл, «новеллы», целиком посвященной «помешательству»
Ницше. В последующей серии писем он набросал для Фрейда общий план своей работы, которая, в сущности, оказалась биографической фикцией[4].
Фрейд ответил серьезным письмом, в котором обсудил «проблему взаимосвязи исторической реконструкции с исторической реальностью». Фрейд допускал, что, когда существует невосполнимый недостаток достоверной информации, биограф вправе заполнить пробел за счет своего воображения. Ради примера он обратился к таким произведениям, как «Макбет» Шекспира, «Дон Карлос» Шиллера и «Эгмонт» Гёте. Однако Фрейд утверждал, что в случае с Ницше, значение трудов которого было очень велико и в первой половине XX века, биографу следует прежде всего позаботиться о максимальной исторической точности в представлении его личности. В следующем письме Фрейд обратил внимание Цвейга на две проблемы, которые неизбежно предстанут перед биографом Ницше. Прежде всего, довольно мало известно о «сексуальной конституции» Ницше. Еще важнее то, что на протяжении по крайней мере последних двенадцати лет своей жизни Ницше страдал от прогрессирующего слабоумия, и отсутствует возможность узнать, когда эта разрушительная болезнь начала себя проявлять. Фрейд поднял вопрос о позволительности домысливания в таких случаях «силы влияния патологии» (15 июля 1934 г.).
Фрейд также упомянул, что не может принять и половины оценок своей персоны, которые Цвейг сделал в своей книге «Немецкое еврейство: попытка подвести итоги» (1934).
Несмотря на свои возражения относительно предложенного Цвейгом плана, Фрейд спросил Лу Андреас-Саломе (одну из женщин, сыгравших важнейшую роль в жизни Ницше) о возможности предоставления ею Цвейгу некоторой информации о Ницше. Однако она наотрез отказалась рассказать что-либо, что могло бы поддержать идею проведения такого исследования. По всей видимости, основное возражение Фрейда по плану Цвейга касалось, прежде всего, невозможности получить надежную информацию[5].
Наиболее объективное – научное – мнение по вопросу применения психоанализа в биографических исследованиях Фрейд выразил в вышеупомянутой торжественной речи, написанной по случаю присуждения ему премии Гёте:
«Когда психоанализ ставит себя на службу биографии, он, естественно, имеет право на то, чтобы с ним обращались не жестче, чем с самими биографами. Благодаря психоанализу можно добыть некоторые сведения, которые невозможно получить другими путями, и тем самым отразить новые связующие нити в «полотне мастера», восходящем к влечениям, переживаниям и работам художника».
Это замечание касается и любых биографических исследований, посвященных самому Фрейду и обращающихся при этом к методу психоанализа. По этой причине я воздержусь от каких бы то ни было утверждений, не подкрепленных собственными откровениями Фрейда, выраженными в его письмах, беседах с окружающими, в толкованиях снов, автобиографических работах и иных произведениях, а равно и фактами из некоторых биографических материалов о нем (как, например, в недавно опубликованных метрических данных (см. главу 1). Перефразируя высказывание Фрейда из одного упоминавшегося ранее письма к Виттельсу: возможное не всегда действительно, но оно может быть таковым. Соответственно в каждом конкретном случае следует быть крайне внимательным в выносимых оценках.
Работая над этим биографическим исследованием, я столкнулся с еще одной проблемой. Пожалуй, она была наиболее трудной; ведь я был врачом Фрейда и предполагал опубликовать в моей книге и его историю болезни. Дилемма разрешилась, когда я предоставил Джонсу все сведения, имевшиеся в моем распоряжении. Я уже приводил соображения, из которых исходил, принимая подобное решение. Как бы то ни было, в этой книге я предполагаю представить имеющиеся у меня данные в целом. Именно Фрейд «пробудил мир от сна» (см. главу 11), пролив свет на доселе скрытые стороны нашей подсознательной жизни, развенчав вековые мечты о бессмертии и выявив нашу неспособность постичь собственную смерть (см. главы 5, 10, 11, 14, 18). Поэтому я намерен действовать в духе самого Фрейда, который всегда стремился знать всю правду, какой бы тяжелой она ни была, не воздерживаясь от рассказа о его долгой болезни и тяжких страданиях.
Источники информации
Некоторые эссе Фрейда автобиографичны, например «Ширма памяти» (1899) и «Автобиографическое исследование» (1925). Работа 1936 г. («Расстройство памяти на Акрополе») главным образом является частью самоанализа Фрейда. Изложенное в ней можно легко увязать с обстоятельствами событий 1899-го и 1904 гг., а также с некоторыми его снами (см. главы 5, 7, 12 и 14). Автобиографический характер других работ более завуалирован. Примером таких произведений могут служить «Толкование сновидений» и «Психопатология обыденной жизни», в которых Фрейд представил значительный объем информации личного характера и воссоздал некоторые наиболее важные события своего раннего детства. Некоторые новые любопытные подробности тех лет недавно были выяснены Шайнером («Отношения Зигмунда Фрейда с его родным городом Фрайбергом»). Эти факты позволяют пристальнее всмотреться в некоторые наиболее спорные гипотезы Фрейда.
Наиболее важны письма Фрейда. Анализ переписки с Флиссом показывает, что во многих отношениях письма Фрейда более откровенны, чем опубликованные им работы. В 1956 г., за год до выхода в свет третьего тома биографии Джонса, Бинсвангер написал «Воспоминания о Зигмунде Фрейде» (позже вышедшую на английском под названием «Зигмунд Фрейд: Воспоминания дружбы»). Многие письма Фрейда, опубликованные в этой замечательной книге, весьма существенны с точки зрения основной направленности моего исследования. Много других важных сведений, обнаруженных в письмах Фрейда, содержит любой из трех томов написанной Джонсом биографии.
В 1960 г. вышла большая подборка писем под редакцией Эрнста Л. Фрейда. В 1961 г. Мари Бонапарт согласилась предоставить в мое распоряжение и свою обширную переписку с Фрейдом, которая хранилась в Лондоне, в его семье.
Джонс собрал обширную информацию из всех доступных источников. Письма Фрейда к невесте, 93 из которых были опубликованы в 1960 г., тоже являются важным источником информации о Фрейде, особенно если учитывать, что начиная с 1901 г. уже прекращается обширнейшая переписка с Флиссом. Впрочем, со временем число тех, кто получал письма от Фрейда, неуклонно росло. В настоящее время совместными усилиями доктора М. Балинта и Эрнста Л. Фрейда готовится к публикации очень интересная переписка Фрейда с Ференци[6]. Я признателен доктору Майклу Балинту за предоставленные копии этих писем. Много важной информации содержат собственные публикации Фрейда за последние три десятилетия его жизни (см. главы 8—14).
Кроме Джонса, биографические работы о Фрейде или воспоминания о нем публиковали его студенты-пациенты: Лу Андреас-Саломе, Бинсвангер, Г. Захс, Ф. Виттельс, С. Цвейг, сын Фрейда Мартин, если вспомнить лишь наиболее известных, а также некоторые его современники, внеся тем самым свой вклад в наше понимание многих аспектов его личности. Мой личный опыт общения с Фрейдом в 1928–1939 гг. может также стать источником неоценимых по важности сведений о нем.
По счастью, Фрейд за свою долгую жизнь написал великое множество писем. Большая часть его переписки сохранилась. В 1963 г. я прибыл в Лондон, где получил право ознакомиться с большим количеством материалов, среди которых находились письма Фрейда к Абрахаму, Лу Андреас-Саломе, Эйтингтону, Джонсу, Юнгу, Арнольду и Стефану Цвейгам[7]. В 1964 г. мне предоставили копии его переписки с Флиссом[8]. За все это я особенно благодарен мистеру Эрнсту Л. Фрейду и мисс Анне Фрейд.
Подбор материалов
Когда в 1964 г. я читал лекцию в Нью-Йоркском психоаналитическом обществе, приуроченную к двадцатипятилетней годовщине смерти Фрейда, то дал ей название «Проблемы смерти в творчестве Фрейда и его жизни». Тогда я был способен обсуждать эту тему лишь в общих чертах. Та лекция была прочитана прежде, чем я смог в полной мере проанализировать весь объем переписки Фрейда с Флиссом. Уже тогда я попытался выделить три взаимосвязанных направления исследований: поведение Фрейда в повседневной жизни, его письма и его работа. Развивая тему моей книги, я придерживался той же стратегии.
В упомянутом ранее письме ко мне Анна Фрейд подчеркнула, что мое первое «эссе» является не просто какой-то историей, а фрагментом подлинной биографии. Я понял тогда, что название моей юбилейной лекции, которое я предполагал использовать и при публикации книги, охватывает слишком ограниченную область. Проблемы жизни и смерти не следует рассматривать в отрыве друг от друга. Жажда жизни и все, что ее поддерживает; страх смерти, который может постепенно превращаться в принятие и даже в желание смерти, – противостояние этих противоположных влечений и изменчивое равновесие между ними являются неизменными спутниками человеческого существования. Соответственно, в данной книге я хочу попытаться рассмотреть эти составляющие так, как они отразились в жизни Фрейда. Тем не менее к материалам я подошел крайне избирательно, оставив многие работы Фрейда и события его жизни вне рамок этой работы.
В своем труде я подробно остановлюсь на так называемом «периоде Флисса», ведь то было время, описанное во «Введении в психоанализ», когда в результате самоанализа Фрейд пережил самые решительные перемены. Кроме того, в этом случае у нас появляется возможность узнать о Фрейде, что называется, «из первых рук». Рискуя быть обвиненным в использовании метода перетолковывания фактов, я все же предполагаю часто цитировать выдержки из переписки, которую Фрейд вел в пору своей дружбы с Флиссом.
Я детально рассмотрю множество факторов, каждый из которых оказал свое влияние на развитие взглядов Фрейда на жизнь и смерть: его болезненную – сперва сердечную – симптоматику, его никотиновую зависимость, прискорбное материальное положение, упорную борьбу за понимание неведомых доселе областей «бессознательного»; его склонность к резким переменам настроения, когда сопровождавшаяся спадом творческой активности депрессия внезапно сменялась горячкой «лихорадочной активности». Я остановлюсь на некоторых психопатологических механизмах и в особенности на самоанализе Фрейда.
Опираясь на исчерпывающее знание переписки с Флиссом, ее связи с некоторыми снами Фрейда и их интерпретациями, изложенными в «Толковании сновидений», я предполагаю отследить некоторые стороны его самоанализа, сыгравшие существенную роль для его дальнейшей жизни. Я обрисую множество причин и источников предрассудка Фрейда, вынуждавшего его зацикливаться на «роковых» рубежах своей жизни, и удивительной устойчивости этого предубеждения, сохранявшегося вопреки постепенному включению Фрейдом проблемы смерти в свою научную деятельность, и сформировавшемуся у него научному мировоззрению, что отразилось в достижении предельной уравновешенности и силы духа, полном отказе от любых иллюзий. Можно полагать, что такое преображение далось Фрейду отнюдь не легко, став результатом неослабевающей внутренней борьбы. Несмотря на то что я рассмотрю в этом ключе многие творения Фрейда, такие его поздние работы, как «По ту сторону принципа удовольствия», где он впервые сформулировал теорию стремления к смерти и некоторые собственные идеи о смерти, получившие окончательное выражение в «Я и Оно», «Экономической проблеме мазохизма» и «Торможениях, симптомах и тревоге», я предполагаю оценить иначе.
Структуризация
Методам психоанализа Фрейд находил место в самых различных областях человеческой деятельности: образование, антропология, литература, социология – вот лишь немногие из них. В последнее время подобное их использование стало широко распространенным, особенно в США, где прикладной психоанализ приобрел особый размах. Соответственно эта книга адресуется не только изучающим поведенческие дисциплины, но и всем, кто интересуется этими сферами деятельности, что, в свою очередь, вызвало целый ряд затруднений.
Когда я писал эту книгу, то оказался перед выбором: либо следовать принятому Джонсом методу отделения собственно биографического материала от анализа работ Фрейда соответствующего периода, либо опираться прежде всего на хронологический метод. По ряду причин именно ему я и отдал предпочтение. Прежде всего это произошло потому, что такого подхода требует сама идея этой книги. Я полагаю, что жизнь и творчество Фрейда переплелись между собой слишком тесно, не давая возможности поступить иначе.
Чтобы соотнести события жизни Фрейда с его письмами и научными произведениями, пришлось включить в эту книгу некоторые специальные сведения, которые могут несколько затруднить ее понимание теми, кто не очень хорошо знаком с теорией психоанализа. Особенно трудным может показаться, например, мое критическое обсуждение предложенной Фрейдом теории влечения к смерти.
Сложности иного рода проистекают из того, что задуманная мной биография может быть признанной лишь отчасти биографией в традиционном смысле. Неискушенный читатель, скорее всего, незнаком с некоторыми крайне важными фактами из жизни Фрейда; поэтому я постараюсь либо ссылаться на доступные источники этих сведений, либо приводить особо существенную биографическую информацию прямо на страницах этой книги.
Три части, на которые поделена книга, соответствуют трем фазам в изменении установок Фрейда касательно проблем болезни, умирания и смерти и их влияния на его жизнь и деятельность.
Часть первая
Через тернии к звездам
Глава 1
Атмосфера
Биографические исследования редко бывают исчерпывающими. Углубляясь в изучение вопроса, мы вновь и вновь наталкиваемся на неизвестные ранее факты. Так оказалось и на этот раз. Лишь сравнительно недавно обнаружились новые данные (Шайнер, 1968), проливающие свет на события ранних, наиболее значимых лет для развития жизни Фрейда. На них я и остановлюсь подробнее.
Раннее детство, первые годы во Фрайберге
Отец Фрейда, Якоб, родился в 1815 г. в Тисменице, местечке в Восточной Галиции. Это был небольшой городок, насчитывавший всего 6000 жителей, среди которых поляков, евреев и украинцев было примерно поровну[9].
Якоб Фрейд был торговцем шерстью. Он постоянно разъезжал между двумя провинциями Австро-Венгерской империи, Галицией и Моравией[10], продавая и покупая текстиль. Поскольку в Тисменице жизнь Фрейдов по ряду причин оказалась довольно неустроенной, семья вскоре перебралась во Фрайберг[11].
Есть ряд серьезных противоречий между информацией, которую приводит об отце Фрейда и его семье Джонс[12], и сведениями из архивов и метрик по Шайнеру. Согласно Джонсу[13] отец Фрейда в шестнадцать лет женился на девушке по имени Салли Каннер. У них родились два сына: Эммануил (1832) и Филипп (1836). После смерти Салли в 1852 г. Якоб примерно год колесил по Германии и, наконец, осел в Вене, где 29 июля 1855 г. женился на будущей матери Фрейда Амалии (родилась 18.08.1835 г.).
Ни Джонс, ни Александр Фрейд не имели в своем распоряжении добытой Шайнером архивной информации. Шайнер провел обстоятельное изучение метрических книг, фиксирующих рождения, смерти, свадьбы и переезды. Благодаря Шайнеру мы обладаем детальным описанием дома, где Фрейд провел первые три года своей жизни.
Факты, полученные из разных источников, свидетельствуют: Якоб и его сыновья Филипп и Эммануил[14] в 1840 г. обосновались во Фрайберге и прожили там вплоть до 1859-го или 1860 г. Однако о присутствии там Салли – первой жены Якоба Фрейда – не упоминается. Записи о ее смерти тоже отсутствуют, и установить точную дату не удалось[15].
В учетную книгу еврейских поселенцев за 1852 г. вписаны следующие члены семьи: Якоб Фрейд, 38 лет, его жена Ревекка, 32 лет, его сын Эммануил, 21 года, с женой Марией, 18 лет, и второй сын Якоба Филипп, 16 лет. Эти данные подтверждают, что Ревекка не могла быть первой женой Якоба; Ревекка и Салли – разные женщины, поскольку первая была слишком молода, чтобы быть матерью Эммануила. В реестре пришлых еврейских поселенцев, живших во Фрайберге в 1854 г., Ревекка уже не значится. Таким образом, либо она к этому времени тоже умерла, либо этот брак Якоба окончился разводом.
Дом, в котором был рожден Зигмунд Фрейд, на протяжении четырех поколений принадлежал династии ремесленников. Внизу располагалась мастерская, а на втором этаже было две комнаты. В одной из них жил домовладелец со своей семьей[16]. Во второй комнате ютилось все семейство Фрейда: Якоб, Амалия и дети, Зигмунд (род. 06.05.1856 г.), Юлиус (род. в 1857 г. – умер 15.04.1858 г.), Анна (род. 31.12.1858 г.). Старшие сыновья поселились неподалеку: Филипп – напротив, Эммануил с женой и детьми, Джоном (род. 1854 или 1855 г.), Полиной (род. 1856 г.), Бертой (род. 22.02.1859 г.), – на другой улице. Женщины часто работали в семейной лавке, упаковывая товары, в то время как за детьми присматривала нянька.
Добытые Шайнером сведения очень важны, поскольку позволяют не только лучше понять ту атмосферу, в которой рос и развивался Зигмунд Фрейд, но также отделить «архивную» правду от «семейной легенды»[17]. Расхождения между семейной легендой и информацией из архивов и учетных книг могли быть следствием искажения или полного забвения некоторых фактов. Похоже, что, таким образом, исчезли, например, воспоминания о второй жене Якоба Фрейда.
Возникают очевидные вопросы: кто не мог не знать об этой свадьбе и кто возможно слышал о ней? Конечно, о ней несомненно знал сам Якоб, оба его сына, Филипп и Эммануил, а также жена Эммануила. Мать Фрейда, третья жена Якоба, могла совершенно не знать о своей предшественнице, но это маловероятно. Вряд ли были основания держать ее в неведении, если, конечно, отсутствовали какие-то особые причины скрывать этот факт. Впрочем, в тесном семейном кругу такие вещи утаить крайне сложно. Даже если удается скрыть сам факт, то атмосфера «секретности» вокруг него наводит на мысли.
Знал ли сам Фрейд о второй жене своего отца? Вероятнее всего, только на подсознательном уровне. Существование такой семейной тайны имеет весьма важное значение, ибо у нас появляются основания внимательнее присмотреться к самоанализу Фрейда и к его письмам, реконструкциям и снам. «Тайна» эта вполне могла направлять его творческую мысль. В этой связи интересно переосмыслить и его теоретические рассуждения о значении смерти для маленьких детей и о том, какое влияние она оказывает, когда они больше узнают о ней в свои ранние годы.
Другое, более важное расхождение «легенды» с действительностью касается жилищных условий семьи Фрейда во Фрайберге. Полученные Шайнером данные обнаруживают и определенные неточности в воспоминаниях Фрейда о своем раннем детстве, которые, главным образом, рождались через самоанализ и сновидения. Я собираюсь подробнее обсудить эти расхождения, поднимаемые ими вопросы и допускаемые ими ответы в 4, 5 и 9-й главах этой книги.
Фрейд комментировал свои ранние годы во Фрайберге не только в автобиографических работах («Ширма памяти», «Автобиографическое исследование»), но и в письмах к Флиссу, в «Толковании сновидений» и в «Психопатологии обыденной жизни». Позже Фрейд с ностальгией вспоминал прожитые им во Фрайберге годы. Ему не хватало чудесной природы, прогулок по лугам и лесам и, несомненно, первых друзей детства. В 16 лет он снова посетил Фрайберг во время коротких каникул, о чем позже подробно написал в «Ширме памяти».
Фрейду не исполнилось и четырех лет, когда его отец решил покинуть Фрайберг (скорее всего, это случилось в 1859 г., но точно неизвестно). По-видимому, сперва Якоб пытался обосноваться в Германии, но в конечном итоге в 1860 г. осел в Вене.
Мы не знаем, каким образом он в то время зарабатывал на жизнь, но похоже, что по-прежнему пытался торговать шерстью. Много позже из писем Фрейда к невесте (1882–1886) стало известно, что в последние годы его отец не раз пытался поправить свое материальное положение, но ни одна из его попыток не увенчалась успехом. Содержать семерых детей (двух сыновей и пять дочерей), родившихся с 1856-го по 1866 г. (не считая Юлиуса, который, родившись в 1857-м, в 1858 г. умер), было совсем непросто. Семейство едва сводило концы с концами. Возможно, некоторую помощь оказывали Эммануил и Филипп, которые, переехав в Манчестер, жили относительно обеспеченно. Соответственно, семья Якоба Фрейда постоянно находилась в весьма стесненных Условиях, а порой даже бедствовала.
Культура восточноевропейских евреев и ее влияние на Фрейда
Джонс считал, что антисемитизм был одной из причин, по которой Якоб Фрейд покинул Фрайберг. Однако документального подтверждения этого предположения у нас нет. В своей книге о раннем детстве Фрейда, появившейся на английском в 1944 г., Бернфельды объясняли такой отъезд прежде всего причинами экономического характера. Шайнер (1968) был склонен разделять эту точку зрения. Впрочем, существовавшее в германском обществе отношение к евреям не могло не оставить особый след в душе Фрейда.
Я уже упомянул, что в Тисменице, где родился Якоб Фрейд, процент еврейского населения был довольно высоким. Населявших его евреев можно было назвать «хранителями культуры»: между собой они общались на идиш, но большинство евреев умели также говорить и писать по-немецки. Сверх того, им приходилось в определенной степени владеть и польским. Все евреи учили иврит, а некоторые наиболее образованные и достаточно зажиточные владели им настолько, что могли читать написанную на нем Библию. В те времена большинство евреев продолжали носить и традиционный кафтан.
Евреи Моравии были не столь ортодоксальны. Якоб Фрейд был достаточно либеральным и просвещенным человеком, который гордился своим еврейством, но не являлся фанатичным приверженцем традиционных обычаев[18]. Сам Фрейд всегда ощущал себя евреем и не раз выражал гордость своим происхождением, что можно видеть по двум нижеследующим примерам. Вот что он написал в предисловии к еврейскому переводу «Тотем и табу»:
«Вряд ли среди читателей найдутся такие, которым окажется легко разделить эмоциональную позицию автора этой книги, пренебрегшего языком Святого Писания, совершенно отошедшего от религии его отцов, как и от любой другой религии, не считающего возможным разделить национальные идеалы, но никогда не отрекавшегося от своих соотечественников и всегда ощущавшего себя настоящим евреем, не желающим сменить свою национальность на какую бы то ни было еще. Если бы его спросили: «После того как вы отвернулись от всего того, что всегда было свойственно настоящему еврею, что же могло в вас от него остаться?» – его ответ был бы таков: «Очень многое. И пожалуй, самое главное». Сейчас он не в состоянии объяснить это «самое главное» с достаточной ясностью, но пройдет какое-то время, и ученые умы несомненно постигнут эту сокровенную суть.
Соответственно, автор испытывает особые чувства от перевода этой книги на иврит, язык тех людей, которым близки исторические образы. Книга к тому же обращена к истокам религии и нравственности, хотя и не совпадает с сформировавшимися у евреев убеждениями и не делает выводов в их пользу. Однако ее автор надеется, что читатели разделят его уверенность в том, что объективная наука не должна находиться в стороне от духа просвещенного еврейского народа».
Примерно двадцать лет спустя, 8 мая 1932 г., Фрейд писал Арнольду Цвейгу, только что обосновавшемуся на той земле, которая тогда еще называлась Палестиной: «Мы произошли оттуда, наши предки жили там веками, и невозможно представить, сколь многое из той жизни навсегда вошло в нашу плоть и кровь». (См. также главу 21.)
Пожалуй, ничто не может лучше охарактеризовать мироощущение Якоба Фрейда, чем сделанная им дарственная надпись на Библии, которую он преподнес Зигмунду на его тридцатипятилетие:
«Мой дорогой сын.
Тебе было всего семь лет, когда Бог призвал тебя на путь познания, сказав: «Читай внимательно мою Книгу, и тебе откроется неиссякаемый источник знания и мудрости». Это Книга книг; это отрытый мудрецами бесценный кладезь, из которого люди столетиями черпали наши законы.
Ты узрел в этой книге лик Всемогущего, внял словам его и высоко воспарил на крыльях Святого Духа. Я сохранил эту Библию для тебя и теперь, в день твоего тридцатипятилетия, передаю ее в знак любви к тебе твоего старого отца».
Эта краткая надпись может многое сказать и об отце, и о сыне. Отец Фрейда тоже вырос с той уверенностью, которая только и позволила еврейскому народу преодолеть века гонений и бед, всякий раз напоминая им, что они – «люди Книги», народ избранный.
Веками евреи видели в Библии источник мудрости. Важнейшим отличием между людьми они почитали отличие тех, кто «познал» этот источник, от тех, кто его «не знает». Человек, написавший такие строки посвящения, несомненно, разделял сокровенную мечту многих еврейских отцов, желавших, чтобы их дети обязательно оказались среди «познавших», пусть даже если им самим и не удалось стать такими. Его желание, безусловно, исполнилось. Фрейд стал именно тем самым «человеком Книги», искателем истины.
В добавленной в 1935 г. к «Автобиографическому исследованию» строке Фрейд говорил: «Как я понял позже, моя глубокая увлеченность Библией (почти с тех самых пор, как я овладел искусством чтения) оказала серьезное влияние на направленность моих интересов».
Мы могли бы добавить, что человек, адресовавший такие строки своему сыну, был, как заметил сам Зигмунд после его смерти, человеком «глубокой мудрости». Соответственно Фрейд получил возможность идентифицировать себя с ним в этом отношении и сформировать соответствующий образ идеального «Я». Это гораздо убедительнее объясняет некоторые характерные черты его личности, чем его собственное «образное» утверждение о древнем наследии, вошедшем в его «кровь и нервы».
Однако существенны и некоторые другие аспекты влияния на Фрейда культуры восточноевропейских евреев. У каждой культуры есть свой собственный идиоматический язык, проявляющийся, к примеру, в шутках или в некоторых суевериях. Фрейд часто обращался к еврейским анекдотам, которыми, как и цитатами из литературных произведений, постоянно иллюстрировал свою научную позицию.
Некоторые наиболее типичные суеверия, свойственные представителям его национальной культуры, тесно связаны с Библией или еврейской письменностью как в том, что касалось ее орфографической системы, так и системы счисления. Например, одно из возникших из библейских текстов суеверий делит дни недели на «плохие» и «хорошие». Понедельник, второй день недели, считался плохим днем, поскольку Бог, говоря о втором дне творения мира, не упомянул, что «это хорошо». Напротив, после создания на шестой день творения человека Господь сказал: «это очень хорошо». С тех пор пятница и считается очень хорошим днем. Согласно этому суеверию, например, в понедельник не следует отправляться в путешествия или принимать важные решения.
Некоторые типичные суеверия связывались с определенными числами. К примеру, число 18 могло быть истолковано как написанное на иврите слово «жизнь» и, следовательно, было хорошим числом. Число 17 приравнивалось к слову «навсегда». В качестве примера суеверности Фрейда Джонс вспоминал эпизод, как тот некогда рассказывал своей невесте, что, будучи еще мальчиком вытянул в лотерее число 17, соответствующее по своей сути слову «постоянство» (на немецком «bestandigkeit» – устойчивость, стойкость, неизменность), и их помолвка состоялась именно 17-го числа. На протяжении многих лет они праздновали этот день. Я практически уверен, что в основе повышенного внимания Фрейда к числу 17 лежало именно древнее суеверие.
Число 52 истолковывалось как «пес» и, следовательно, считалось плохим числом. Соответственно 52-й день рождения тоже считался «критическим» – особенно для мужчин (также см. главу 5).
Если еврея спрашивали о возрасте члена его семьи или возрасте какого-либо другого близкого ему человека, то, отвечая на вопрос, он наряду с сообщаемым возрастом неизменно добавлял «до 120», подкрепляя этой уловкой свою надежду, что именно так долго тот, о ком его спрашивали, и проживет.
Другим важным числом считалось «36», соответствовавшее комбинации еврейских букв «Ламед» и «Вов». Согласно хасидскому сказанию, на Земле всегда должно оставаться 36 святых людей. Если один из них умирает, то Бог тут же заменяет его другим – обычно мальчиком из бедной, простой семьи. Присутствие же всех 36 праведников защищает человечество от уничтожения за его грехи. Если некий человек особенно одарен и просвещен, то его называют «Ламед-вовник»: это слово образовано комбинацией упомянутых символов. Само число 36 осталось неназванным, но 36 – это два раза по 18, а 18, как уже упоминалось, приравнивается к слову «жизнь».
Можно не сомневаться, что семья из Тисменице была хорошо знакома с такими умозаключениями, поскольку этот город был тесно связан с династией хасидских раввинов.
Позже я подробно коснусь предрассудка Фрейда, который вынуждал его задумываться о якобы предопределенной продолжительности его собственной жизни. Скорее всего, именно описанные «культурные» суеверия оказались среди множества факторов, обусловивших появление этого предрассудка. В письме, где приводился яркий пример проявления такого предрассудка, Фрейд отмечал: «Вы найдете подтверждение… еврейского происхождения моего мистицизма»[19] (см. главу 5). В этом контексте следует вспомнить об одном важном для затронутой мною темы эпизоде, Фрейд привел его на страницах «Толкования сновидений». Процитирую лишь наиболее существенный отрывок, где он вспоминает о своем сне и размышляет об ассоциациях к нему:
«Я зашел на кухню в поисках съестного. Там находились три женщины, и одна из них – хозяйка – что-то вертела в руках, словно готовя клецки. Она ответила, что я должен подождать, пока все будет готово… Я ощутил нетерпение и с чувством обиды вышел из кухни… Когда я начал анализировать этот сон, я вдруг совершенно неожиданно вспомнил первый прочитанный мною роман (кажется, мне было тогда тринадцать)… Я очень хорошо помню, чем он заканчивается. Герой этого романа… постоянно повторял имена трех женщин, с которыми были связаны величайшие в его жизни счастье и страдание… В этой связи эти три женщины напомнили мне трех Парок, плетущих нить судьбы человека. И одна из тех трех женщин – хозяйка из сна – была матерью, дающей жизнь и, сверх того (как это было в моем случае), первую пищу. Любовь и голод, как я думаю, пересеклись в образе женской груди.
…Одна из Парок что-то вертела в руках, словно готовила клецки, – нетипичное занятие для богини, требующее объяснений. Их я нахожу в других своих воспоминаниях, относящихся к еще более раннему детству. Тогда мне было шесть лет, и мать преподала мне первый урок. Я был поставлен перед фактом, что все мы сотворены с помощью земли и в нее же должны вернуться. Мне это не слишком понравилось, и я позволил себе возразить. И вот тогда моя мать сделала такое же движение руками, как та женщина из сна, и в доказательство своей правоты продемонстрировала мне черные, отшелушившиеся от трения частички кожи. Потрясенный столь убедительным доказательством, я вынужден был согласиться с материнским утверждением, которое я впоследствии услышал выраженным во фразе: «Ты тоже смертен, как и все живое»[20]. Таким образом, те женщины из сна действительно были Парками. Я встретил их, направляясь на кухню, как часто поступал в детстве, когда был голоден, а моя мать, стоявшая у плиты, всякий раз одергивала меня, напоминая, что я должен подождать обеда».
Ориентируясь на материалы автобиографии Фрейда, мы можем считать, что он был знаком со строками Книги Бытия «Из праха создан, в прах и обратишься» еще до того, как прочел Шекспира. Таким образом, мысль о неизбежности смерти рано запала ему в душу, и именно при непосредственном участии матери!
Мотив же трех Парок с тех пор не раз повторялся в рукописях Фрейда.
Доаналитический период
Нам крайне мало известно о жизни Фрейда с 1860-го по 1873 г. – год окончания им гимназии. Он был одним из лучших учеников, почти всегда первым в классе. В конце этого цикла обучения каждый ученик обязан был успешно пройти сложный письменный и устный экзамен, называвшийся «Matura», прежде чем ему позволялось выбрать какой-либо университетский факультет.
В автобиографии Фрейд упоминал, что в свои ранние гимназические годы под влиянием старого друга[21] подумывал изучать законы и участвовать в общественных движениях. То, что вместо этого он решил заняться медициной, Фрейд объяснял влиянием на него трудов Дарвина и эссе Гёте «Природа».
Круг его студенческих интересов вряд ли можно назвать заурядным. Уже в первый год обучения он прослушал курс «Биология и дарвинизм» зоолога Карла Клауса, последователя Геккеля, одного из первых и наиболее убежденных сторонников эволюционного учения Дарвина. Именно Геккель сформулировал фундаментальный биогенетический закон «онтогенез повторяет филогенез», занявший позже особое место в генетическом мышлении Фрейда.
Медицинское образование Фрейда затянулось на восемь лет вместо нормативных пяти или пяти с половиной, поскольку еще студентом он занялся исследовательской работой, сперва в Институте сравнительной анатомии Клауса, а с 1876 г. в Институте физиологии, во главе которого стоял Брюкке. У Клауса Фрейд написал свои первые статьи, в Институте физиологии познакомился с Брюкке и его ассистентом Фляйшлем. Там же он повстречал и Йозефа Брейера.
Работая в Институте Брюкке, Фрейд вплотную подошел к открытию того, что нейрон (структура, образованная нервной клеткой с отходящими от нее отростками) является анатомической и функциональной единицей нервной системы. Это открытие позже принесло Вальдейеру мировую известность.
Фрейд получил степень доктора медицины 31 марта 1881 г., однако задержался в Институте Брюкке еще на год. Окончательно эти стены ему пришлось покинуть, поскольку молодой врач был недостаточно обеспечен и к тому же еще и был евреем. По тем же причинам не обещала быть успешной и академическая карьера. На эти сложности Фрейду вполне недвусмысленно указал Брюкке. Таким образом, молодому врачу в любом случае пришлось бы покинуть этот институт, где он чувствовал себя почти как дома, даже если бы он и не влюбился в Марту Бернейс, помолвка с которой произошла 17 июня 1882 г.
Упомянутые события вынудили Фрейда пересмотреть свои планы на будущее. Так он стал интерном при больнице широкого профиля, а 1 января 1884 г. перешел в отделение нервных болезней. Параллельно он работал в лаборатории знаменитого невролога Мейнерта. Он поставил перед собой задачу стать приват-доцентом в невропатологии и начать частную практику.
Звание приват-доцента имело в Вене немалый вес. Оно утверждало его обладателя как специалиста и консультанта, предполагая при этом и более высокое жалованье. Фрейд добился этого в 1885 г. и в тот же год, получив субсидию, приобрел возможность на полгода отправиться в Париж в знаменитую клинику «Сальпетриер», которую возглавлял Шарко – самый известный в те годы европейский психоневролог.
Написанные Фрейдом в тот период статьи неизменно обнаруживали его острый ум, способность делать далекоидущие выводы, скрупулезность и настойчивость. В те годы Фрейда привлекло и изучение фармакологических свойств кокаина, что, вообще говоря, находилось далеко от сферы его основных научных интересов.
Вскоре он обнаружил его обезболивающий эффект, стимулирующее влияние на эмоциональную сферу, а также качества кокаина как анестетика. Более всего его интересовали первые два свойства. Он очень надеялся, что кокаин найдет широкое применение и окажется весьма полезен при желудочных расстройствах, морской болезни, неврастении (в те годы частый диагноз), невралгии тройничного нерва, ишиасе и многих других недугах. Он также надеялся, что кокаин сможет избавлять людей от пристрастия к морфию, и намерен был это доказать на примере своего друга Фляйшля, упомянутого выше ассистента Брюкке. Фрейд тогда еще не знал, что кокаин может вызывать еще более опасное привыкание.
Не интересуясь анестетическими качествами кокаина, Фрейд поведал о них двум своим друзьям-офтальмологам, Кенигштейну и Коллеру. Именно Коллер и оказался первым, кто с успехом использовал это свойство, став «отцом» местной анестезии.
Впоследствии Фрейда жестоко критиковали за то, что он ввел в обиход этот опаснейший наркотик и долгое время упорно отказывался признать, что он может вызывать привыкание. В течение нескольких лет временами он принимал его и сам. Позже он использовал его в компрессах при лечении синусита. Фрейд справедливо утверждал, что кокаиновая зависимость может возникнуть не у каждого, а только у тех, кто особым образом к ней предрасположен. По счастью, сам он оказался не из их числа[22].
Можно ли было представить тогда, что по прошествии десятилетия Фрейд станет тем, кто изменит человеческую историю? Чувствовал ли сам он, что ему суждено свершить «невозможное»? Его научная деятельность на тот момент не предвещала такого поворота событий. Но в его письмах мы можем отыскать уже некоторые предпосылки к нему. Одно из писем, опубликованное в подборке от 1960 г., Фрейд написал в 17 лет своему другу детства (он писал его в перерыве между письменным и устным гимназическими экзаменами). Оно уже обнаруживает его способность к самонаблюдению:
«Ты воспринимаешь мои «заботы о будущем» слишком беспечно. Люди, которые, как ты говоришь, не боятся ничего, кроме посредственности, – в безопасности. В безопасности от чего? Разумеется, не от того, чтобы стать посредственностями. Разве в том дело, боимся мы чего-либо или нет? Не кажется ли тебе, что главный вопрос здесь должен был бы звучать иначе – имеют ли наши страхи под собой реальную основу? Не секрет, что и великие умы тоже ловят себя на сомнениях, но разве следует из этого то, что каждый, кто сомневается в своих способностях, – человек великого ума? Возможно, кто-то не слишком умен, но в то же время он вполне может считаться достойным человеком из-за своей образованности, упорства и даже самоотверженности. Я отнюдь не намерен советовать тебе, оказавшись перед выбором, решительно отбросить все чувства, но если ты сделаешь так, то убедишься, сколь в малом ты можешь быть уверен. Все-таки прелесть нашего мира именно в богатстве возможностей, несмотря на то что оно, к сожалению, не самая надежная основа для самопознания».
Второе письмо позволяет предположить, что уже студентом-медиком Фрейд был убежден, что станет не только человеком Книги, но и пера. Посылая другу две копии своих первых публикаций, он писал:
«Я… посылаю тебе собрание моих работ, не полное, разумеется, как я имею основания полагать, ожидая правки третьей и будучи увлечен четвертой и пятой, которые завораживают мой ум, словно тени английских королей Макбета».
С 1882-го по 1886 г. особое место в жизни Фрейда заняла его помолвка с Мартой. К удовлетворению будущих биографов и критиков, но к глубокому разочарованию самих влюбленных, большую часть этого времени им пришлось провести вдали друг от друга. Фрейд писал ей почти каждый день[23]. Эти письма, как, впрочем, и многие другие написанные им, были признаны высоким образцом литературного искусства. (Фрейд, который на протяжении своей жизни совсем не часто получал общественные награды, в 1930 г. был награжден премией Гёте по литературе.) Некоторые из них особенно ярко обнаруживают необыкновенную силу и выразительность его письменного слова, иные предоставляют биографу прекрасную возможность проследить преемственность его творчества. Многие выдвинутые в них идеи получили свое обстоятельное воплощение лишь по прошествии многих десятилетий.
В это время Фрейд с головой погрузился в свою исследовательскую работу. При этом он также подумывал о возможности обосноваться где-нибудь в маленьком городке в качестве терапевта, чтобы ускорить свою свадьбу, поскольку ему постоянно не хватало денег. По счастью, он имел друзей, которые всегда были рады помочь ему материально: Брейер, его старый преподаватель религии Хаммершлаг, а также его коллеги и друзья Панес и Фляйшль.
Когда своими планами он поделился с Мартой, она настоятельно посоветовала ему лучше подождать, чем жертвовать научной карьерой. То, что Фрейд стоял тогда перед сложным выбором, видно из отрывков письма от апреля 1884 г.:
«Скорее всего, ты всерьез восприняла то, что я тогда сказал. Пожалуйста, не переживай; я не стану приносить тебе жертв, принять которые тебе будет нелегко. Поверь, естественно, что я больше возражаю против затянувшегося ожидания. Я переношу его хуже тебя; общеизвестно, что невесты всегда счастливее женихов. Так что я решился на подобную карьеру прежде всего ради себя… Я не зайду особенно далеко, так что в ближайшие два года решительных изменений с нами, скорее всего, не произойдет. В лучшем случае произойдут незначительные перемены в моем положении в обществе. Это не потребует от меня никаких усилий… Вдобавок… в одной из научных областей я достаточно независим, чтобы добиться успехов без какой-либо особой поддержки или помощи. Я имею в виду мои познания в области нервной системы… Так что миру непросто будет позабыть мое имя. Я не очень амбициозен, но я и без того знаю себе цену.
Если в Германии[24], то я, конечно, думал о Нижней Австрии, Моравии или Силезии.
В настоящее время я в любом случае по-прежнему готов к борьбе и не намерен проиграть битву за будущее в Вене. «Борьба за существование» все же означает для меня борьбу за существование именно здесь. Однако перспективы стать доцентом следующей зимой представляются мне весьма зыбкими».
Подобные перепады настроения в пределах одного письма наблюдались довольно часто, когда Фрейд бился над формулированием своих новых открытий. Фрейд не признает себя амбициозным, но при этом оговаривается, что, несмотря на это, сам прекрасно знает себе цену. Подлинные амбиции состояли для него в следовании высокому внутреннему стандарту.
Годом позже у него появился шанс повысить и упрочить свое положение в госпитале, где он работал, а также возможность получить стипендию для работы в парижской клинике Шарко. Это значило для него найти упомянутую ранее «надежную» работу. Он писал: «Большинство людей посчитало бы непростительной глупостью упустить работу, которую мне предлагали месяц назад. Однако искушающий человека демон по большей части есть он сам. Не следует приниматься за что-либо, если не чувствуешь к этому внутреннего стремления». В последующие годы он нередко упоминал о своем внутреннем демоне.
Это время было также и временем болезней и печали. В 1884 г. Фрейд, по-видимому, перенес легкую форму тифа[25]. В 1884 г. он несколько недель страдал от ишиаса. Ему предписали постельный режим, но вскоре это ему так надоело, что он решил «не связываться с ишиасом больше никогда». Ввиду позднейших утверждений о склонности Фрейда к ипохондрии крайне важно привести здесь его описание следующего эпизода:
«О принцесса, попробуй догадаться о произошедшем со мной. Готов спорить – угадать не получится. Приготовься услышать самое невероятное. В это утро я лежал в постели, ужасно страдая, и глядел на себя в зеркало до тех пор, пока вид моей всклоченной бороды не заставил меня содрогнуться. Это чувство нарастало и нарастало, пока, наконец, не перешло все границы. Я решил: «Больше никакого ишиаса, снова стать человеком, пожертвовать роскошью быть больным». В мгновение ока я был одет и, уже сидя у цирюльника, буквально вздохнул от облегчения, вновь увидев себя аккуратно подстриженным. Погода была великолепная, и я с удовольствием погулял в саду. Становилось все лучше и лучше, после теплой ванны я вполне уже мог ходить. Бросился в лабораторию, приготовил ум к работе, после обеда играл в шахматы и после краткого визита профессора X. решил навестить его в тот же вечер, что и сделал. Гостеприимный хозяин был чем-то озабочен и вскоре выставил меня, однако вопреки всему я снова в седле, хотя и утомлен, что понятно. Главное, что я вновь могу работать и, кроме того, мне необыкновенно приятно от того, что именно я так решил. Таковы факты. На следующий день боли при ходьбе конечно же вряд ли исчезнут полностью, однако если они будут не сильнее, чем после моей сегодняшней отчаянной попытки, то я вполне смогу работать и вскоре все будет хорошо.
Спокойной ночи, моя маленькая принцесса, и больше ни слова об ишиасе…»
В апреле 1885 г. Фрейд, возможно[26], перенес легкую форму оспы. Вот как он это описывал:
«Суббота, 25.04.1885 г.
Моя любимая Марточка!
Люстгартен, мой врач, нашел для меня возможность написать тебе письмо. Вместе с конвертом оно пролежало несколько часов в сухом стерилизаторе при температуре 120 градусов, чтобы, кроме этих строк, к тебе ничего не попало. Как ты считаешь, приемлема ли для нас такая цензура?..
У меня настоящая оспа, правда, не совсем такая, какой ты представляла ее в детстве. У меня нет ни одной пустулы, только пять маленьких бугорков на коже да дюжина характерных узелков, которые еще меньше. Нет никаких уродств, рубцов, жара и т. п. Я даже не лежу в постели, однако я действительно болен, временами невероятная слабость, у пищи вообще нет никакого вкуса, а читать могу только утром. Вторая половина дня особенно мучительна из-за слабости, тревоги и неспособности работать; к вечеру вновь становится немножко лучше… и все-таки в целом я вполне доволен, прежде всего, потому, что мое истощение не носит психологического характера, а является результатом болезни, а во-вторых, поскольку эта болезнь, с которой я должен, как медик, в конце концов найти общий язык, все же не слишком сурова по отношению ко мне».
После этого эпизода Фрейду пришлось пройти через своего рода карантин. Возможно, это обстоятельство придало ему дополнительной решимости в намерении уничтожить все свои записки и рукописи. 28 апреля 1885 г. Фрейд писал:
«Это был плохой, тяжелый месяц. Как я рад, что он заканчивается! Я весь день ничего не делаю; временами листаю историю России да наблюдаю за двумя объедающимися репой кроликами. Впрочем, одно из своих намерений я уже почти осуществил; много лет спустя пока еще не родившимся людям оно явно придется не по вкусу. Поскольку ты не догадаешься, о ком я говорю, то объяснюсь: я говорю о моих будущих биографах. Я уничтожил все мои записи за последние 14 лет: письма, научные заметки и рукописи моих статей. Сохранилась только семейная переписка. О твоих письмах, моя дорогая, говорить не приходится; они неприкосновенны.
… Я не находил себе места при мысли о том, что мои бумаги могут оказаться в чужих руках. Кроме того, все, что произошло до поворотного момента моей жизни, до нашей встречи и моего выбора профессии, давно уже мертво, и я не мог отказать воспоминаниям о тех далеких годах в праве на почетные похороны. Что касается биографов, то почему бы не позволить им посуетиться, ведь мы же не стремимся сделать их задачу слишком легкой. Разумеется, каждый из них будет уверен в справедливости своего мнения о «Пути развития героя», и я уже сейчас с удовольствием предвкушаю, насколько далеки они будут от истины».
Разве не звучат эти строки так, словно Фрейд почему-то догадывался, что по прошествии некоторого времени его персона окажется в центре внимания многочисленных биографов? К несчастью, Фрейд повторял подобную церемонию «очищения огнем» еще не один раз: в 1915 г. он сжег некоторые из своих метапсихологических работ, а в 1938 г., перед тем как покинуть Вену, уничтожил значительную часть своей переписки и рукописей.
В тот же период Фрейд пережил смерть и самоубийство близких ему людей. Минна, сестра Марты, была помолвлена с Шенбергом, другом Фрейда. Он заболел туберкулезом[27]. В июне 1885 г. Фрейд понял, что Шенберг неизлечим: туберкулез, уже поразив горло, вошел в заключительную стадию. Шенберг навестил Минну в последний раз, и Марта тоже догадалась, что он обречен. 23 июня 1885 г. в письме к Марте Фрейд писал:
«Только что я получил твое долгожданное письмо с прискорбными ожидаемыми известиями, видимо, наши мнения в основном сходятся. Он [Шенберг] не может сейчас жениться на ней, и это совершенно понятно; он не сможет это сделать, если болезнь не отступит, но ему не следует видеть ее чьей-то женой, если он останется жив. Что здесь можно сделать? Он решил разорвать помолвку прямо сейчас, ввиду возможного трагического исхода, что явно было не обязательно. Сама же Минна не пожелает ничего другого, кроме как остаться с ним до самого конца. Мне кажется, что и ты не поступила бы иначе, не покинула бы меня, коль скоро и я стоял бы на пороге смерти. Я же ни за что бы не отказался от самого ценного в моей жизни, пока она у меня есть…»
Несколькими неделями позже Фрейд писал:
«Поскольку ты видела его [Шенберга] недавно, я не буду рассказывать тебе, как он сейчас выглядит – бескровный, исхудавший, едва дышащий. Одно его легкое окончательно уничтожено болезнью, другое, возможно, тоже сильно поражено. Думаю, с ним все кончено; рано или поздно сгорят и эти жалкие остатки…
Для нас он в любом случае потерян. Его измученный дух ослаб; энтузиазм в достижении цели, страсть и вдохновение, которыми человек окружает женщину своей мечты, – все это предполагает хорошее здоровье. Когда конец близок, интересы сужаются, желания уходят и не остается ничего, кроме усталости… и стремления к покою… Он спросил меня: «Я ведь правильно поступил?» И я вдруг понял, что был не прав и его любовь уже умерла, умерла раньше его. И все же я не могу понять, как он смог отказаться от всего, что имело для него такое значение: работа, положение, независимость от брата, личная воля. Конец ли это долгой и тяжелой борьбы или знак душевного расстройства?»
Незадолго до смерти у Шенберга наступил краткий период эйфории, который иногда случается в последней стадии туберкулеза. Он говорил о своей надежде, что Минна сможет забыть его, поясняя: «Разве тебе не кажется, что бремя такого союза слишком велико для меня? Да, это начинает заявлять о себе мой эгоизм, но все, чего я действительно хочу, – продержаться еще несколько лет». Оценивая эти слова, Фрейд писал:
«Прогноз его дальнейшего состояния остается тем же, независимо от текущего улучшения.
Вечером я задумался, что, если бы серьезный недуг сделал бы нашу женитьбу невозможной, мы бы повели себя иначе. Долгое время я ощущаю тебя своей неотъемлемой частью, и я бы никогда не смог расстаться с тобой; я бы смирился с тем, что ты бы страдала со мной и из-за меня, и я сомневаюсь, что ты, моя малышка, поступила бы по-другому. Человеческая жизнь превращается в существование, когда остается единственное желание – желание еще пожить».
После смерти Шенберга в начале 1886 г. Фрейд писал Минне:
«Твой грустный роман подошел к концу, и когда я об этом размышляю, то не могу не признать: хорошо, что известие о его смерти появилось во время столь долгого перерыва в ваших отношениях.
…На мой взгляд, эта болезнь больше всего страшна тем, что уничтожает человека прежде, чем начинает его мучить. Можешь ли ты представить себе, какая перемена должна была в нем произойти до того, как он мог так неправильно оценить свое состояние, как то было в его последние месяцы? Всякий, кто страдает от такой болезни, питает определенные надежды на скорое выздоровление. Каждый раз, когда от лежащего в госпитале пациента приходилось слышать, что он чувствует себя хорошо и что его пора выписывать, мы понимали, что через сутки он умрет. Природа не всегда столь благосклонна к своим жертвам…»
Природа не была столь же «благосклонна» и к Фрейду, когда пришло его время, но в ту пору он уже не нуждался в ее милости.
Хотя за такими письмами мы легко можем угадать личность Фрейда в его более поздние годы, но вместе с тем мы можем заметить и испытывавшееся им острое чувство незащищенности. Фрейд описывал, как ему удалось привлечь внимание Шарко, продемонстрировав свое знакомство с его публикациями. В результате Шарко попросил одного из своих ассистентов исследовать одного из пациентов вместе с Фрейдом. Фрейд продолжал:
«…С тех пор отношение этого ассистента ко мне изменилось… После того как мы решили отложить заключительный осмотр до четырех часов вечера, он пригласил меня (!) отобедать с ним и несколькими другими докторами из клиники – в качестве своего гостя, разумеется. И все это в ответ лишь на намек со стороны мастера! Но сколь тяжело далась мне эта маленькая победа и как легко это для Рикетти! Я считаю большой неудачей, что природа не одарила меня тем неуловимым качеством, которое обладает свойством привлекать к себе других людей. Мне кажется, что именно его отсутствие в наибольшей степени закрывает мне путь к безмятежному существованию. Мне всегда было очень непросто отыскать друга. Как долго мне пришлось бороться за расположение моей драгоценной девочки, и каждый раз, когда я встречаю кого-то, то ощущаю вначале некий неосознанный им импульс, побуждающий его недооценивать меня. Возможно, это вопрос взгляда, или чувства, или же иного секрета природы; что бы то ни было – на другого это оказывает глубокое отрицательное воздействие. Меня утешает лишь верность тех, кто оказался в числе моих друзей».
Марта, должно быть, возражала против столь низкой самооценки, на что Фрейд ответил еще более углубленным самоанализом:
«Твои слова так очаровательны и чутки, что всякий раз, когда я имею возможность услышать тебя, я ощущаю умиротворение. Не знаю, как тебя и благодарить…
… Я продолжу писать о твоей критике моей жалкой личности. Задумывалась ли ты, как странно устроен человек, что способности часто являются предвестником падения, а изъяны служат залогом благополучия и процветания?.. Но если бы этот день должен был бы оказаться последним для меня и некто спросил бы меня, как я жил, то услышал бы, что вопреки всему – бедности, долгой борьбе за успех, малому признанию окружающих, нервозности и тревогам – я все же считаю, что был счастлив, уже просто предчувствуя очередной день, что проведу вместе с тобой, из-за уверенности, что ты любишь меня…
Ты действительно находишь меня привлекательным? У меня же на этот счет серьезные сомнения. Мне кажется, люди видят во мне нечто чуждое им. Возможно, подлинная причина в том, что в свои юные годы я никогда не был молодым, а потому теперь, когда вступил в зрелый возраст, я не могу стать старше. Было время, когда все мои помыслы были сосредоточены на учебе и я постоянно чувствовал обиду, что Природа не смилостивилась отметить меня печатью гениальности, как она порой поступает с другими. Теперь мне совершенно ясно, что я не гений, и не могу понять, как я мог когда-то даже мечтать стать им. Я даже не слишком одарен; возможно, моя способность работать прежде всего определяется моим характером при отсутствии выраженной интеллектуальной слабости. Но я знаю, что такое сочетание весьма благоприятно для постепенного достижения успеха и при благоприятных условиях я, возможно, мог бы… достичь уровня Шарко. Я не могу сказать, что это осуществимо, поскольку у меня отсутствуют столь благоприятные условия, равно как и гений с силой, чтобы создать их. Однако вернусь к тому, на чем остановился. На самом деле я хотел сказать совсем о другом. Я хотел объяснить причину моей неприступности и резкости по отношению к незнакомым людям. Это лишь результат подозрительности, которая сформировалась у меня от общения с посредственными и дурными людьми. Однако по мере того, как я буду становиться все сильнее и независимей, эти качества будут у меня постепенно исчезать. Мне всегда отрадно сознавать, что люди, находящиеся ниже меня или же равные мне, не считают меня неприятным. Так считали лишь те, кто в том или ином отношении находился выше меня. Возможно, нелегко об этом догадаться, но еще в гимназии я всегда находился в жесткой оппозиции к своим учителям; я всегда был готов отстаивать правое дело, не считаясь с опасностью для себя лично. Зато когда я заслужил право занять в своем классе привилегированное положение, когда мне все доверяли, у них больше не было оснований упрекать меня.
Знаешь, что однажды сказал мне Брейер? Я был так тронут услышанным, что в ответ раскрыл ему тайну нашей помолвки. Он рассказал, что открыл для себя, что под моей внешней застенчивостью скрывается отчаянная смелость и бесстрашие. Я тоже всегда так думал, но никогда не осмеливался говорить об этом. Я часто ощущал, что унаследовал всю ту отвагу и страсть, с которой наши предки защищали свой Храм, и ради великого дела был бы готов не задумываясь отдать свою жизнь. В то же время я всегда чувствовал свою беспомощность и неспособность выразить эти бушующие страсти даже в слове или стихотворении. Поэтому я всегда сдерживаю себя и полагаю, что со стороны это бросается в глаза».
Фрейд всегда утверждал, что обязан своим успехом упорству, а также интеллектуальной и душевной отваге, не позволявшей ему пасовать перед трудностями.
В одном из писем к Флиссу Фрейд говорил о своем темпераменте как о темпераменте «конкистадора», указывая на свойственную таким людям любознательность, отвагу и упорство (см. главу 6).
То, что одновременно Фрейд отказывал себе в способности влиять на людей, может только удивить. Еще более удивительно, что он придерживался аналогичных взглядов и позднее. В 1907 г. в письме К.-Г. Юнгу он говорил: «Я окончательно убедился, что все в моей личности, мои слова и идеи вызывают в людях неприятие, тогда как для Вас их сердца открыты». Не бурный успех, но обстоятельный, неустанный самоанализ освободил Фрейда от подобных тревог.
Следует вспомнить еще одно письмо. В 1883 г. один из коллег Фрейда покончил жизнь самоубийством через месяц после своей свадьбы. Фрейд подробно рассказал об этом Марте. Черту своим рассуждениям он подвел следующим образом: «…необычайно тщеславный человек… погибший, по сути, из-за своего характера, из-за патологической самовлюбленности, сочетавшейся с претензиями на особое место в этой жизни». Я привел эти слова, поскольку после смерти Фрейда нередко звучало мнение, что, страдая от рака, он якобы подумывал о самоубийстве.
В сентябре 1886 г. Фрейд наконец женился. Это событие обозначило важную веху в его жизни. Далее последовал относительно длительный период консолидации и постепенного развития его идей. Фрейд самостоятельно описал этот переходный процесс в двух своих автобиографических работах («К истории психоаналитического движения», «Автобиографическое исследование»). В первом томе биографии подробно остановился на этой теме и Джонс. Поэтому я отмечу лишь основные факторы, сыгравшие значительную роль на этом этапе его жизни.
Прежде всего, следует подчеркнуть важность влияния на Фрейда Йозефа Брейера, с 1880-го по 1882 г. впервые проведшего так называемую систематическую психотерапию тяжелого случая истерии. (В принятых ныне терминах состояние его пациента можно диагностировать как «пограничное».) Джонс утверждал, что Фрейд явно переоценивал влияние Брейера на его работы.
Мы не знаем, действительно ли Фрейд переоценивал роль Брейера, но, исходя из чувства глубокой учтивости, он, возможно, мог преувеличивать ее. Возможно, Джонс недооценил вклад Брейера. Ведь именно последний указал Фрейду на психическую обусловленность истерии, как и на то, что изначальная душевная травма чаще всего не осознается. Брейер многое рассказал Фрейду об исследованном им случае и предоставил возможность ознакомиться со своими обширными записями. Однако в том, что от такой посылки получила стартовый импульс революция в психологии, безусловно, заслуга гения самого Фрейда, его безмерной отваги и решительности.
Благодаря Шарко Фрейд понял, что к истерии следует подходить всерьез. Ее нельзя считать симуляцией, а ее симптомы могут быть воспроизведены в состоянии гипноза. Он также пришел к мысли, что в серьезном отношении к изучению гипноза нет ничего дискредитирующего. Непреклонная решительность и, возможно, чувство протеста против косного авторитета медицинского «истеблишмента» Австрии и Германии привели Фрейда в 1889 г. в Страсбург, где он несколько недель посвятил изучению гипноза у Бернгейма, – предприятие, учитывая то, что Фрейд едва начал сводить концы с концами, предполагавшее серьезный финансовый риск. В результате он не только улучшил свою технику гипноза, но также «вынес глубокое впечатление от возможности существования мощных психических процессов, остающихся скрытыми от сознания человека». Сперва Фрейд практиковал гипнотическое внушение, но вскоре последовал примеру Брейера и побуждал пациентов, находящихся в гипнотическом трансе, рассказывать о своем прошлом.
В то время, пока он скрупулезно собирал опытные данные, вышел его перевод работ Бернгейма (1888–1889 и 1892), важнейшая монография «Афазия» (1891), оцененная по достоинству лишь много позже, и, наконец, монография о детских церебральных параличах, написанная в соавторстве с О. Рие (1891). С накоплением достаточных объемов клинических наблюдений Фрейд предложил Брейеру вместе трудиться над созданием «Очерков об истерии» (1893–1895).
Этой книгой психоанализ впервые заявил о себе как о научной дисциплине. Как способ лечения он начал применяться Фрейдом после отказа от применения гипноза и перехода к использованию метода свободных ассоциаций. В следующие восемь лет ему предстояло достичь принципиальных успехов, путь к которым лежал через мучительные сомнения.
Глава 2
Симптомы заболевания сердца и борьба Фрейда с никотиновой зависимостью
Одна из целей этого исследования предполагает наблюдение над постепенным изменением характера реакций Фрейда на полные стрессов и опасностей обстоятельства, в которых он оказался. Такое изменение позволило ему предотвратить превращение крайне тяжелой для него ситуации в травматическую. Необходимо также рассмотреть пути преодоления Фрейдом подобных ситуаций.
Во вступительном слове я упоминал о переписке Фрейда с Флиссом и подчеркнул ее огромную важность для понимания нами развития психоанализа как науки и Фрейда как личности. Я также подчеркнул особое значение самоанализа Фрейда с 1892-го по 1902 г.
Отношение Фрейда к Флиссу, как это следует из их переписки, носило очень сложный и глубокий характер и играло важную роль в его самоанализе. При этом некоторые наиболее интимные аспекты этой переписки порой очень напоминали процесс свободного ассоциирования в рамках сеанса психоанализа[28].
Развитие всяких отношений определяется множеством моментов. От Фрейда мы узнаем, что в его случае эти моменты следует искать в его раннем детстве. Особенности его детского опыта наложили свой отпечаток на все его последующие дружеские отношения. Взаимоотношения между людьми зависят также от той жизненной ситуации, в которой они встретились, и конечно же от их индивидуальных особенностей[29].
Однако на отношение Фрейда к Флиссу существенно повлиял еще и особый фактор. В пору, когда Фрейд имел основания сомневаться в возможности своего выздоровления, Флисс стал его доверенным врачом. Этот период серьезного недомогания, разумеется, особенно важен для основной темы моего исследования[30].
Во многих письмах к Флиссу Фрейд говорил о своих многочисленных болезненных симптомах: головных болях, которые он называл «приступами мигрени» (такими же болями страдал и сам Флисс), хроническом синусите, некоторых признаках желудочно-кишечного расстройства. Однако особо важное место заняли симптомы сердечного заболевания. Первый намек на эту проблему я обнаружил в неопубликованном письме Фрейда к Флиссу, датированном 18 октября 1893 г. Из него следовало, что эта тема уже обсуждалась ими во время одной из ранее состоявшихся встреч. Письма свидетельствуют, что Флисс объяснял появившиеся симптомы пристрастием Фрейда к курению или, по крайней мере, считал, что никотин существенно способствует их проявлению. В любом случае Флисс довольно жестко настаивал, чтобы Фрейд покончил со своей вредной привычкой. Это событие положило начало бесконечному ряду попыток Фрейда избавиться от никотиновой зависимости. Как мы сможем убедиться в дальнейшем, эти попытки почти всегда были следствием усиления симптомов сердечной болезни. Фрейд писал:
«Я бы не хотел утомлять тебя рассказами о состоянии моего сердца. В настоящий момент с ним гораздо лучше, хотя в этом нет моей заслуги, поскольку в последние дни было столько нервотрепки, что я курил совершенно безбожно[31]. Думаю, что они (проблемы с сердцем) еще дадут о себе знать в самом ближайшем будущем. Что касается курения, то твоему предписанию я буду следовать усердно (буквально: «мучительно»), как было, когда ты выразил по этому поводу свое мнение (в тот раз, когда мы находились на железнодорожной станции). Без курева мне очень тяжело, так что даже наступившие сильные холода не в состоянии ухудшить мое положение еще больше».
Эти несколько строк являются очень красноречивой иллюстрацией отношения Фрейда к Флиссу и курению: он обещает не курить, но при этом использует слово «peinlich», которое может быть переведено как «усердно», так и «мучительно». Он обещает «не утомлять» Флисса, но в то же время выражает уверенность, что состояние его сердца ухудшится (что и случилось). Это высказывание могло быть навеяно мыслями о смерти, но также и несогласием с мнением Флисса и отказом признать его утверждение о прямой взаимосвязи между сердечной симптоматикой и курением. В самом деле, ведь Фрейд говорит, что стал чувствовать себя лучше, несмотря на постоянное курение. Такая двойственность явно связана с множеством аспектов.
О курении идет речь и в следующем письме (17 ноября 1893 г.). На этот раз процветает и новый мотив, который неизменно будет возникать всякий раз, когда дилемма «курить или нет» становилась особенно острой. В нем Фрейд высказался вполне недвусмысленно, но следы мучительного внутреннего конфликта можно отыскать и здесь.
«Я не буду следовать твоим запретам [курить]; ты действительно почитаешь за великое счастье прожить долгую жизнь в таких мучениях?»
По прошествии нескольких месяцев вопрос о курении вновь обострился, возникнув в несколько ином контексте, когда 7 февраля 1894 г. Фрейд писал:
«Событие сегодняшнего дня – смерть Бильрота[32]. Как важно все-таки не пережить самого себя»[33].
Прогноз Фрейда, что его болезнь сердца заявит о себе с новой силой, целиком оправдался. 19 апреля 1894 г. он писал:
«После твоего милого письма я не стану больше сдерживаться и оберегать тебя: я чувствую, что вправе написать тебе о моем здоровье. Все научные и личные дела я отложу до конца письма.
Как всякий, кто, желая отбросить собственную критичность, оказывается вынужден подчиниться влиянию чужих указаний, я вот уже три недели совсем не курю и теперь уже действительно могу без зависти смотреть на наслаждающихся табачным дымом, вполне представляя себе, как можно без этого жить и работать. Я уже совсем было достиг такого состояния, но муки от отказа от курения оказались неожиданно велики, что, впрочем, совершенно понятно.
Пожалуй, менее понятно мое самочувствие в других отношениях. Через несколько дней отказа от курения я почувствовал себя лучше и начал излагать для тебя мою нынешнюю позицию по проблеме невроза. Затем внезапно сильно сжало сердце (буквально: Herzelend – тяжесть на сердце), и мне стало даже хуже, чем когда я курил. У меня появилась бешеная аритмия, сопровождавшаяся постоянной тяжестью, давлением и жжением в области сердца, жгучей болью в кисти левой руки, некоторая одышка – подозрительно умеренная, словно органического происхождения, – и все эти проявления долгое время продолжали заявлять о себе в приступах, которые случались у меня по два-три раза в день, сопровождаясь депрессией, заменившей мою обычную лихорадочную активность и сопровождавшейся видениями о смерти и сценах прощания. В последние два дня плохое самочувствие уменьшилось, но гипоманиакальность сохраняется, иногда, впрочем, делая мне любезность своим внезапным исчезновением (как это было прошлым вечером и сегодня в полдень) и оставляя по себе человека, который вновь уверенно рассчитывает на долгую жизнь и столь же большое удовольствие от курения.
Для врача, который ежечасно пытается углубить свое понимание неврозов, особенно мучительно то, что он не может определить, какая же депрессия у него самого: умеренная или ипохондрическая. В такой ситуации ему необходима помощь со стороны. Прошлым вечером я зашел к Брейеру и поделился своим мнением, что мои проблемы с сердцем не являются результатом никотинового отравления, а указывают на наличие хронического миокардита, который несовместим с курением. Я помню довольно внезапную аритмию, появившуюся у меня после гриппа в 1889 г. Я тешу себя надеждой на лучшее, но, как бы то ни было на самом деле, в любом случае я должен подвергнуться обследованию. Обещаю так и сделать, но чувствую, что это ничего не прояснит. Я не знаю, действительно ли можно различить эти два расстройства, но думаю, что это возможно на основе оценки субъективных симптомов и их протекания. Ты же, на мой взгляд, в этот раз что-то скрываешь, поскольку я впервые слышу, как ты противоречишь сам себе. В прошлый раз ты говорил, что происхождение этих симптомов связано с областью носа, утверждая, что не находишь признаков никотинового отравления сердца; на этот же раз ты сильно озаботился происходящим и запрещаешь мне курить. Такую непоследовательность я могу объяснить лишь твоим намерением скрыть от меня действительное положение дел, и я прошу тебя не делать этого. Если ты можешь сказать мне что-либо определенное, то, пожалуйста, сделай это. У меня нет преувеличенного представления ни о моих обязанностях, ни о моей незаменимости, и я смогу достойно принять весть о моем миокардите, вместе с той неопределенностью, которую он привнесет в мою укоротившуюся жизнь. Узнав о недалеком конце, мне даже удалось бы извлечь из этого пользу и в полной мере насладиться остатком жизни…»
Едва ли в этом письме найдется предложение, которое не имело бы самого прямого отношения к обсуждаемой мною теме. Оно обнаруживает одну из типичных для Фрейда установок: только особые обстоятельства вынуждали его «обременять» кого-то своими жалобами, и он чувствовал себя обязанным принести извинения за подобное беспокойство и за то, что обсуждение научных вопросов отошло на второй план. В строках этого письма отражена мысль, что иногда самокритичности приходится уступить «указанию». Это относится к борьбе Фрейда со своей вредной привычкой согласно указаниям Флисса, но без внутреннего убеждения в их правильности. В этом письме Фрейд также наиболее живо описывает свои проблемы с сердцем и свою реакцию на них, утверждая, что в этот раз его «сердечная тяжесть» оказалась гораздо тяжелее, чем тогда, когда он еще курил.
Фрейд определенно страдал от повторяющихся приступов тахикардии с «бешеной» (tollster) аритмией (delirium cordis), болей в груди, отдававших в левую руку, и одышки. Эти приступы были сильными и частыми; они не давали ему покоя целыми сутками. Не обсуждая пока вопросов происхождения этой тахикардии, по сделанному Фрейдом описанию можно предположить, что он страдал от приступов пароксизмальной тахикардии, возможно, с фибрилляцией предсердий, и такими признаками «коронарной недостаточности», как резкие боли, как при стенокардии, и одышка.
Фрейд реагировал на эти приступы по-разному. Говоря о своей депрессии, он упоминал, что она сопровождалась картинами смерти и сцен прощания.
Помимо этого, в том же письме от 19 апреля мы можем обнаружить и некоторые другие, уже бессознательные, проявления реакций Фрейда на то, что с ним тогда происходило. Всякий, кто знает, сколь мастерски Фрейд владел немецким языком, не может не обратить внимания на то, что, рассказывая о пережитых страданиях, он использует необычные или даже искаженные, неправильные слова, а предложения строит неуклюже и тоже неправильно. Поскольку эти особенности не могут быть дословно воспроизведены на русском языке, я процитирую этот абзац на немецком:
Tollste Arrhythmic, bestandige Herzspannung – Pressung – Brennung, heisses Laufen in den linken Arm, etwas Dyspnoe von verdachtig organischer Massigung, das alles eigentlich in Anfallen, d.h. iiber 2/3 des Tages in continuo erstreckt und dabei ein Druck auf die Stimmung, der sich in Ersatz der gangbaren Beschaftigungsdelirien durch Todten-und Abschiedsmalereien ausserte [курсив добавлен. – M. Ш.].
Слова «Pressung>> и «Brennung>> в немецком языке отсутствуют. Первое слово, очевидно, означает «давление» (по-немецки «Druck>> или «Beklemmung>>). Возможно, Фрейд изобрел весьма нетипичное для языка отглагольное существительное (от немецкого глагола «pressen>> – давить, сжимать, напрягать). Это слово он использовал лишь однажды в письме для описания своих симптомов.
Под словом «Brennung>>, видимо, понимается «Brennen>> (жжение); фраза «heisses Laufen in den linken Arm>> буквально может быть переведена как «горячий ток в кисти левой руки», то есть боли в кисти левой руки (так можно перевести на русский использованный им оборот) или «сильное (горячее, жгучее) движение в левой руке».
Фраза «некоторая одышка подозрительно органической умеренности» также неясна. Непонятно, почему умеренная одышка должна иметь органическое происхождение.
Фраза «uber 2/3 des Tages in continue erstreckt>> является частью этого нескладного предложения. В опубликованной английской версии этого письма она была неправильно переведена с немецкого как «наблюдавшихся в двух или трех приступах, неизменно повторявшихся на протяжении всего остатка дня».
Появление столь нескладного предложения из-под пера писателя такого уровня, как Фрейд, может объясняться только тяжелой стрессовой ситуацией. В соответствии с предложенной самим Фрейдом терминологией ее следует считать «травматической».
Дополнительное подтверждение этому можно найти при дальнейшем анализе письма, в тексте которого можно отыскать несколько характерных описок (крайне редко встречавшихся в письмах Фрейда и его научных работах). Ярко описав свои мучения и депрессивное, возможно даже безысходное, состояние, сопровождавшееся «картинами смерти и сцен прощания», Фрейд продолжал: «…гипоманиакальность сохраняется, иногда, впрочем, делая мне любезность своим внезапным исчезновением…» Фрейд заменил здесь слово «депрессивность» на его антоним «гипоманиакальность»[34]. Однако помимо отрицания депрессивного состояния эта описка могла указывать на то, что Фрейд предчувствовал грядущую перемену своего настроения и, соответственно, рассчитывал вернуться к старой привычке («оставлявшее по себе человека, который вновь уверенно рассчитывает на долгую жизнь и столь же большое удовольствие от курения»); таким образом, задействованное Фрейдом отрицание несло определенный смысл[35].
Другую описку Фрейд допустил в конце этого же абзаца[36]. Он определенно намеревался сказать, что уверенно рассчитывает на долгую жизнь и столь же большое удовольствие от курения (Rauchlust). Однако на самом деле Фрейд написал «Rauflust» – «драчливость»! Значение этой описки понять нетрудно. По окончании депрессии Фрейд воспрянет духом и вновь сможет бороться за свое право курить.
Итак, в этом абзаце дано сжатое описание недомогания Фрейда, его реакции на травмирующую ситуацию и способа ее разрешения. Именно по этой причине я подверг этот отрывок столь подробному анализу, что могло бы выглядеть неким талмудическим толкованием. Однако именно в психоаналитической традиции уделять особое внимание деталям и «мелочам»[37].
В следующем абзаце письма уже заметна новая тенденция. Фрейд стремится узнать правду: прежде всего, является ли его депрессия (Verstimmung) и, добавим от себя, его страхи реакцией на заболевание, или же это несомненный признак «ипохондрии». Он желал знать, проистекают ли его страдания от отравления никотином, или же первопричиной является миокардит, а курение только обостряет приступы. С одной стороны, здесь имеет место тонкое диагностическое дифференцирование. С другой же, Фрейд вполне допускает неприятную для себя возможность, что его сердце действительно слишком чувствительно к никотину.
Будучи не уверен в том, что Брейер сообщил ему всю правду о его состоянии, Фрейд испугался, что и Флисс захочет скрыть от него истинный диагноз, и поэтому просит ничего не утаивать[38]. Оказавшись в ситуации неопределенности, Фрейд сам принялся искать важные для диагностики факты, вспомнив о приступах аритмии после перенесенного в 1889 г. гриппа, что может помочь нам восстановить возможные причины его недомогания тех лет.
От некоторых людей можно слышать уверения, что они способны спокойно принять известие о серьезной или даже смертельной болезни. На деле же часто оказывается, что они совсем не желают знать правду о своем состоянии, а узнав, могут ее не вынести. Однако Фрейд полностью отдавал себе отчет в своих словах и позже действительно доказал свое мужество.
Таким образом, это письмо – свидетельство серьезного конфликта. Фрейд все еще нуждается в помощи отрицания, но превосходство «Я» – жизненная цель Фрейда и главная цель терапии – уже начинает заявлять о себе[39].
До какой степени Фрейду удалось восстановить свое душевное равновесие во время написания этого письма, видно по легкости, остроумию и даже беспечности тона следующих неопубликованных строк:
«Я буду иметь в виду твою мысль по поводу дневника[40]. Ты прав.
Мне тоже не очень-то нравится фрау доктор Фр. Возможно, я был несправедлив к ней, когда назвал ее «zwiderwurzen»[41]. Я охотно допускаю, что анализ был ей неприятен. Своим поступком она лишь подтверждает обоснованность моей концепции защиты. Она шарахается от меня уже в третий раз…
Множество новостей, которые ты сообщил, явно свидетельствуют, что ты – обладатель почти абсолютного здоровья. Я размышлял о причинах твоей второй головной боли. Я в самом деле не могу в это поверить. Может, у тебя все же проблемы с носовыми пазухами?[42]
Мои сорванцы и жена в полном порядке. Она не знает о моем бреде насчет близкой смерти. Пожалуй, это в любом случае было бы лишним»[43].
Как можно видеть, все это письмо очень напоминает запись аналитической сессии, в ходе которой пациент переживает полный спектр эмоций и выражает все стороны своего «Я». Именно таким образом может быть охарактеризована тональность большей части переписки Фрейда с Флиссом.
В этом письме (от 19 апреля 1894 г.) заметна и неприятная проблема, которая прошла сквозь всю жизнь Фрейда и получила свое отражение во многих его письмах к Флиссу, – никотиновая зависимость. Хотя Фрейд смог преодолеть «травматическую ситуацию», симптомы болезни сердца, сомнения относительно верного диагноза и противоречивое стремление к курению не покидали его, на долгие годы определив основное содержание его писем к Флиссу.
Флисс, по-видимому, не отступал от своего мнения, что именно никотин, а не миокардит – главный виновник всех неприятностей, поскольку Фрейд писал ему в ответ:
«Мой дорогой друг.
Написанные тобой строки были столь приятны мне, что я не могу заставить тебя ждать, пока у меня появятся какие-нибудь новости[44], и должен поделиться с тобой впечатлениями о повседневных событиях.
Я не сомневаюсь, что ты лучше всех разбираешься в этих трудных проблемах, но я опять испытываю затруднения с оценкой моего состояния. Брейер вполне допускает возможность версии, не связанной с отравлением[45]. По-видимому, сердце не расширено, [но] шумы (существенный признак органического заболевания), аритмия и т. д. остаются, несмотря на мое воздержание[46]. Либидо уже давно приглушено. Один грамм дигиталиса каждые два дня[47] заметно ослабляет субъективные симптомы и, возможно, влияет на аритмию, которую все же я постоянно ощущаю, когда нахожу свой пульс. Моя депрессия, вялость, плохая работоспособность и легкая одышка – все даже усилилось.
То есть дело обстоит по-прежнему. Я не могу оставить этот прекрасный мир, не попрощавшись с тобой, и эта мысль не покидает меня с самого начала болезни. Не думаю, однако, что обращусь к тебе в ближайшем будущем, но мучительный и бесполезный уход тяготит меня больше, чем любой возможный неутешительный прогноз.
Через несколько дней я пришлю тебе несколько страниц поспешно набросанного мной анализа, в котором можно найти корень невроза.
Я все еще не в состоянии взять себя в руки и подготовить для тебя отчет[48], за что очень себя ругаю. Раньше все было иначе. Мертвый штиль[49] в обществе и науке очень беспокоит меня. Я чувствую себя гораздо лучше в суете моей повседневной работы.
Надеюсь, что по крайней мере у тебя все в порядке. Я считаю, что один раз за эти последние дни я все-таки извлек нечто приятное из своей болезни. Несомненно, это случилось как раз тогда, когда я получил от тебя письмо.
Передаю тебе и твоей дорогой Иде самые сердечные пожелания, к которым присоединяется и моя семья.
Твой
д-р Зигм. Фрейд».
Сомнения по поводу диагноза вернулись спустя несколько дней. 6 мая 1894 г. (в свой 38-й день рождения) Фрейд писал:
«Я до сих пор не в состоянии закончить мой набросок по неврозам. Я чувствую себя лучше, временами даже гораздо лучше, но я не бываю свободен от симптомов больше чем половину дня. Мое настроение и работоспособность пребывают в упадке. Я до сих пор не могу поверить, что все это от никотина; в рамках моей практики я имел возможность порядком насмотреться на аналогичные случаи и полагаю, что это ревматический миокардит, от которого практически нет спасения. В течение последних лет я неоднократно обнаруживал у себя ревматические мышечные узелки.
Летом мне хотелось бы на время вернуться[50] к анатомии; пожалуй, это единственное благодарное занятие».
Последнее предложение указывает на сочетание множества факторов, оказавших влияние на настрой Фрейда: его недомогание, воздержание от курения, одиночество, длительная борьба, которая началась с его попыток понять происхождение невроза, постепенно приведя его к пониманию того, что на самом деле он пытается разобраться в законах функционирования человеческой психики. Хотя в это время он все еще находился лишь в процессе создания своего учения («Очерки об истерии»), он уже, если можно так сказать, превзошел самого себя. Вскоре Фрейд обнаружил, что каждый пациент ставит его перед новыми открытиями и что эти открытия могут быть поняты только в том случае, если он подтвердит их на собственном примере, сам став своим пациентом.
Борьба требовала хотя бы минимального физического здоровья, но, даже не говоря о мучившей Фрейда болезни сердца, отказ от курения лишал его того внешнего стимула, который имел для него особенное значение на протяжении всей его жизни.
Поэтому неудивительно, что Фрейд выразил, по крайней мере в письме, страстное желание вернуться в тихую гавань анатомии, в лабораторию, к микроскопу. Это получило отражение в следующем письме, отрывки которого уже были опубликованы (письмо от 21 мая 1894 г.). Из неопубликованной части я процитирую лишь несколько абзацев.
«Драгоценнейший друг.
Несомненно драгоценнейший, ведь ты изумляешь меня всякий раз, ибо, даже когда ты очень занят или нездоров – или даже и занят, и нездоров, – ты всецело готов принять на себя груз проблем, связанных с моими симптомами. Недосказанность в твоих письмах я начинаю воспринимать буквально как нечто сверхъестественное… Когда я читаю твое письмо, последовательно развенчивающее мои «терапевтически-дилетантские» фантазии, я не нахожу там ни слова о твоем собственном здоровье. С некоторых пор я понял, что ты переносишь страдания лучше и с большим достоинством, чем я, чье настроение постоянно колеблется то в одну, то в другую сторону.
Обещаю в самом скором времени прислать тебе подробный отчет о достигнутом; я чувствую себя лучше, хотя далеко не так, как хотелось бы; по крайней мере, я снова в состоянии работать. Сегодня я могу позволить себе целый час говорить с тобой только о науке. Я определенно не считаю благосклонностью судьбы то, что я могу обмениваться с тобой мыслями лишь около пяти часов в год, остальное время существуя совершенно оторванно от других людей. Ты для меня единственный другой, альтер[51].
Завтра я отправляю свою курочку с пятью маленькими цыплятами на Рейхенау[52], и в последующие одинокие, грустные времена… я буду чаще доводить до конца свои замыслы, по крайней мере в том, что касается писем к тебе.
Разве М. Д.[53] не прелесть? Ее случай не войдет в сборник [который я готовлю] с Брейером, поскольку второй уровень, связанный с сексуальными мотивами, там не был выявлен. Случай, который я сейчас описываю, относится к наиболее сложным разделам работы[54]. Ты получишь его раньше Брейера, если сможешь быстро вернуть обратно.
Последние несколько месяцев среди прочих мрачных мыслей, навеянных грядущим расставанием с женой и детьми, меня терзает и боязнь не суметь довести до конца доказательство своего сексуального тезиса. В конце концов, умирать не хочется ни сейчас, ни вообще».
Начало следующего абзаца иллюстрирует саму сущность положения Фрейда.
«Я совсем одинок здесь, толкуя неврозы. Они смотрят на меня как на одержимого, но у меня отчетливое ощущение, что я вплотную подошел к величайшей загадке природы».
Это одно из тех редких утверждений, где Фрейд признает исключительность своего открытия. Обещанный «подробный отчет о достигнутом» появился месяц спустя. 22 июня 1894 г. Фрейд снова пишет Флиссу[55]. Он начал с сообщения, что собирается прислать ему большое письмо о «теории и жизни», и продолжал:
«Сегодня я посылаю тебе последнюю историю. По характеру моего письма ты поймешь, что я болен. Между 4-й и 5-й страницами я признался в проблемах, которые так долго скрывал. Сам материал крайне поучителен, [и это] имеет для меня решающее значение.
Я буду рад лету, если оно принесет с собой осуществление моего заветного желания и я действительно смогу провести с тобой несколько дней… По большей части жизнь моя столь непредсказуема, что я теперь все более склоняюсь к мысли, что больше не стоит медлить с осуществлением моих сокровенных мечтаний. Прочие поездки следует отложить ради этой, поскольку год выдался особенно неблагоприятным, кроме болезни принеся с собой и денежные затруднения. Разумеется, несколько дней отдыха я мог бы позволить себе в любом случае, но я отказался карабкаться [в гору] «с тяжелым сердцем» во всех смыслах этого выражения! Если ты сможешь меня встретить так, чтобы оградить от слишком долгих поездок, и мы сможем действительно побыть наедине, тогда мы несомненно должны встретиться уже в этом году[56].
Далее пойдет моя печальная история, неприкрытая правда со всеми теми подробностями, которые кажутся важными несчастному пациенту, и даже с теми, которые, возможно, не заслуживают внимания.
Я не курю вот уже семь недель, со дня твоего строгого запрета. Сперва я, как и можно было ожидать, чувствовал себя невозможно [буквально: невообразимо] плохо: сердечная симптоматика в сочетании с депрессией плюс жуткие страдания из-за отказа от курения. Они ослабли примерно через три недели, но прежде, чем я избавился от первого страдания, прошло шесть недель. Однако же я остаюсь совершенно разбитым и неработоспособным[57]. По окончании седьмой недели я нарушил мое обещание, данное тебе, и вновь начал курить, чему было несколько причин:
1) За это время я встретил пациентов сходного возраста и примерно в похожем состоянии, которые вообще не курили (две женщины) или бросили курить. Брейер, которому я снова сказал, что не могу объяснить мое состояние никотиновым отравлением, полностью с этим согласился, также сославшись на этих женщин. Таким образом, я лишился той мотивации, которую ты столь точно выразил в одном из твоих предыдущих писем: человек может отказать себе в чем-то, если твердо уверен, что это поможет ему устранить причину своей болезни.
2) Выкурив пару сигар, я теперь вновь мог работать и справился со своим настроением; до этого жизнь была невыносима[58]. Я обратил внимание, что после этого симптомы болезни не стали более выраженными.
Сейчас я курю умеренно, постепенно увеличивая до 3 в день[59], и чувствую себя значительно лучше, чем прежде; намного лучше, но еще, конечно, не вполне хорошо. Опишу свое состояние.
Некоторая аритмия есть, кажется, всегда, но усиливается до степени delirium cordis[60] с ощущением тяжести на сердце лишь во время приступов, длящихся теперь меньше часа и почти всегда после ленча[61]. Умеренная одышка, наблюдавшаяся при подъеме по лестнице, исчезла. Кисть левой руки не болит уже несколько недель; грудная клетка все еще довольно чувствительна; [неразборчивое слово], тяжесть и чувство жжения не отпускают ни на один день. Объективные признаки вроде бы отсутствуют, но наверняка я сказать не могу. Сон и прочие функции не нарушены. Настроение в целом находится под моим контролем, однако я чувствую себя старым, вялым и нездоровым. Дигиталис помог чрезвычайно[62].
То, что особенно мучает меня, так это неясность моего положения. Я был бы удивлен, если бы у меня обнаружили ипохондрию, но я не вижу причин, по которым я мог бы склониться к этой версии. Я очень недоволен тем, как ко мне здесь относятся. Брейер полон очевидных противоречий. Когда я сказал, что чувствую себя лучше, он ответил: «Ты не представляешь, как я рад это слышать». Эти слова напоминают о серьезности моего положения. Если в другой раз я спрашиваю о чем-то взволновавшем меня, то получаю в ответ: «Ничего страшного; что бы это ни было – оно уже позади». Более того, он не обращает на меня никакого внимания, не видел меня две недели подряд. Я не могу понять, в чем дело: то ли это какая-то определенная линия поведения, то ли он просто совершенно безразличен; то ли дело настолько плохо, что об этом не стоит даже и говорить. В целом же я заметил, что со мной обращаются как с больным, причем весьма уклончиво и двусмысленно, вместо того чтобы успокоить меня, сказав все, что можно сказать в ситуации такого рода, то есть все, что известно.
Было бы колоссальным облегчением, если бы я мог разделить твою уверенность; даже новый период отлучения [от курения] стал бы менее трудным испытанием. Впервые наши мнения расходятся. С Брейером мне проще; он вообще не высказывает никаких мнений.
Пример Кюндта не слишком меня испугал, поскольку если бы некто действительно смог гарантировать, что я проживу еще 13 лет, дотянув до 51 года, то этого было бы достаточно, чтобы не портить мне удовольствие от сигар[63]. Мое же компромиссное суждение, для которого я, правда, не имею веских научных оснований, таково, что от четырех-пяти до восьми лет я буду больше или меньше мучиться различными болезненными симптомами, а между 40 и 50-ю годами спокойно умру от внезапного разрыва сердца. Если это случится заметно позже 40 лет, так это и вовсе не слишком плохо.
Я был бы крайне признателен тебе, если ты предоставишь мне точную информацию – что это [за болезнь], которая, как я в глубине души надеюсь, очень хорошо известна тебе. Ценность же твоего твердого запрета мне курить весьма относительна и значима разве лишь своим воспитательным и успокаивающим эффектом.
Но довольно об этом; очень грустно так зацикливаться на себе, когда можно было бы написать о чем-либо гораздо более интересном.
Я понял из твоего письма, что твои головные боли мешают тебе быть счастливым, и наше невнимание к ним вызывает у меня негодование. Ты ничего не пишешь о своей работе; наверное, тебе кажется, что она мне неинтересна. Прошу тебя, не сомневайся, что в этом ты глубоко заблуждаешься».
Последний абзац опубликованной части этого письма особенно важен в общем контексте:
«Фактически я провел весь день размышляя о неврозах, но, поскольку научные контакты с Брейером практически прекратились, теперь я могу надеяться только на свои силы, поэтому работа и идет так медленно».
Прочтя это письмо, Флисс, очевидно, отреагировал новой «командой», настаивая на необходимости по-прежнему отказываться от курения, на что Фрейд ответил письмом от 14 июля 1894 г.:
«Драгоценный друг,
твое одобрение – нектар и амброзия для меня, поскольку я полностью сознаю, сколь тяжело оно далось тебе или, пожалуй, сколь искренен ты был в тот момент. С тех пор как я сосредоточился на воздержании от курения, мало что произошло; появился новый набросок по тревожной истерии, который я отдал Брейеру. Элизабет фон Р. тем временем обручилась.
Мой распорядок – и спешу заверить тебя, что ничего от тебя не утаиваю, – таков: воздерживаюсь восемь дней подряд[64] с того момента, как в четверг (28 июня), то есть две недели назад, получил твое письмо. В следующий четверг я выкурил одну сигару в состоянии неописуемого уныния; затем вновь был перерыв в восемь дней; в следующий четверг – еще одна, и снова перерыв [это письмо было написано в субботу]. Словом, картина вырисовывается ясная: одна сигара в неделю вновь лишает меня удовольствия от курения. Практически такой режим немногим отличается от полного воздержания…
Мое состояние без изменений. В конце последней недели мне вновь пришлось прибегнуть к помощи дигиталиса; пульс снова прыгает (буквально: delirious) [то есть быстрый и совершенно нерегулярный]… С дигиталисом лучше, однако не так хорошо, как хотелось бы. Как мне принимать его: чаще или реже? Обещаю слушаться тебя…
Твои головные боли вызывают у меня бессильную[65] ярость…
С самыми теплыми пожеланиями…
Зигм. Фрейд».
Это письмо явно заставило Флисса еще более категорично настаивать на отказе от курения. Фрейд в недатированном (редкий случай) письме неохотно согласился.
«Дорогой Вильгельм.
Я едва могу оценить жесткость твоих доводов. Но, судя по всему, у меня есть достаточно физиологических оснований, чтобы согласиться с твоими распоряжениями. Поэтому сегодня для меня начинается второй период воздержания, который, как я надеюсь, продлится вплоть до нашей августовской встречи.
С сердечными пожеланиями,
Твой З».
Эти письма знаменуют собой хоть и временный, но конец кризиса. Хотя на протяжении 1895 г. Фрейд по-прежнему временами обнаруживал у себя знакомые симптомы, письмо, написанное им после августовской встречи с Флиссом, уже звучит вполне оптимистично. 18 августа 1894 г. Фрейд писал:
«Лелея приятные воспоминания о прекрасных днях, проведенных в Мюнхене, и встретив, по возвращении домой, чудесный прием от целой шайки цветущих сорванцов, я вновь почувствовал вкус к жизни».
И далее:
«Впредь я жду только хорошего и убежден, что эти ожидания сбудутся так же, как и мои последние мрачные пророчества»[66].
Следующее письмо, написанное 23 августа 1894 г., дает более подробную информацию об улучшении состояния сердца Фрейда:
«В четверг после нашего расставания[67] обстоятельства вынудили меня совершить четырехчасовую прогулку из Вайсенбаха до Ишля – ночь, кругом ни души, проливной дождь, спешка – и я перенес ее очень хорошо».
Обзор этого кризиса и реакций Фрейда на него важен по ряду причин. Особенно в плане развития воззрений Фрейда на проблемы болезни и смерти, которых он придерживался, особенно на протяжении последних двадцати пяти лет жизни.
Пытаясь оценить этот эпизод с медицинской точки зрения, я, разумеется, сознаю всю сложность попытки поставить достоверный диагноз через семьдесят пять лет. Ставя подобный диагноз, мы можем опираться лишь на следующие факты: 1) очень подробное описание Фрейдом симптомов собственной болезни, приведенное в процитированных выше письмах к Флиссу; 2) поздние и весьма скупые комментарии касательно этого эпизода, сделанные Фрейдом в ту пору, когда я был его врачом (1928–1939) и которые смог впоследствии сопоставить с его описаниями, фигурировавшими в его переписке с Флиссом; 3) проблемы с сердцем, которые наблюдались у Фрейда позже; 4) отчеты Фрейда о мнениях Брейера; 5) благоприятное влияние дигиталиса на Фрейда; 6) наши общие познания о патологии сердечной деятельности, ее этиологии и симптомах.
Из писем Фрейда мы узнаем, что впервые он обнаружил у себя «аритмию» после простудного заболевания, возможно, гриппа, перенесенного им в 1889 г. Очевидно, Фрейд не придал ему особого значения и не ощущал в связи с ним никакого дискомфорта. Вспомнил о перенесенном гриппе он лишь под влиянием обострения болезни в апреле 1894 г.
До осени 1893 г. упоминания о жалобах на состояние сердца отсутствовали. Летом 1891 г. Фрейд предпринял восхождение на Дахштейн (высота около 3000 метров). Подъем был сложным: приходилось преодолевать скалы и льды. Поэтому альпинист должен был быть в наилучшей форме. Незадолго до 18 октября 1893 г. Фрейд, должно быть, обнаружил у себя симптомы заболевания сердца, и Флисс посоветовал ему прекратить так много курить. Соответствующее письмо ничего не говорит нам о природе этих симптомов, но с его помощью мы получаем первое представление о попытках борьбы Фрейда с никотиновой зависимостью. Его двойственное отношение к запрету курить было очевидно.
Весной 1894 г. его сердечное заболевание обострилось. Письма Фрейда от 19 апреля 1894 г., 6 мая 1894 г. и 22 июня 1894 г. помогли нам узнать существенно больше о природе этих симптомов, чем было известно до этого. По-видимому, целыми неделями он непрерывно испытывал приступы сильной аритмии и тахикардии («delirium cordis») с резкими болями в сердце и одышкой, что существенно ограничивало его физическую активность. Из описаний Фрейда мы можем допустить, что во время наиболее тяжелых приступов у него наблюдалась пароксизмальная тахикардия, возможно, с предсердной фибрилляцией.
Фрейд, Брейер и Флисс указывали, что возможны два диагноза его состояния: «хронический миокардит» или отравление никотином (либо особая чувствительность к нему). Брейер, превосходный, опытный клиницист, вероятно, склонялся к первой версии. Флисс настойчиво поддерживал вторую, обвиняя во всем никотин. Сам же Фрейд – как это можно видеть из его писем – периодически соглашался то с одним, то с другим. По целому ряду причин ему было крайне трудно занять объективную позицию: согласиться с более утешительной гипотезой Флисса означало отказаться от курения, что было бы для него очень тяжело. Принять же сторону Брейера означало допустить возможность наличия у себя серьезного заболевания. Что же касалось воздержания от курения, то Фрейд знал и указывал в своих письмах, что неумеренное курение осложняет течение миокардита. Однако полный отказ от курения представлялся ему не вполне оправданным. Фрейд рассуждал таким образом: если некто страдает от неизлечимой болезни, то стоит ли ему отказывать себе в удовольствиях на последние оставшиеся ему годы.
Следует рассмотреть и другие диагностические возможности: говорить о «хроническом миокардите» крайне трудно. Для более точной диагностики весьма полезными оказались бы результаты электрокардиограммы, рентгеновских обследований и т. д. Современники Фрейда были знакомы с симптоматикой стенокардии; Нотнагель, руководитель кафедры медицины внутренних органов, один из немногих влиятельных членов венской медицинской школы, поддержавших карьеру Фрейда, не только изучал ее проявления, но и оставил подробнейшее их описание. Однако частота тромбозов венечных сосудов, разнообразие их симптоматики и особенно распространенность этого недуга среди еще молодых людей в то время были еще неизвестны. Всякий же, кто ознакомился с описанием симптомов болезни Фрейда, наблюдавшихся им весной 1894 г., должен, по крайней мере, допустить возможность того, что Фрейд страдал от коронарного тромбоза.
Упоминание Фрейдом о «болезненных мышечных узелках» на теле не доказывает справедливость предположения о том, что он страдал от «ревматизма», давшего осложнение на сердце. Состояние сердца Фрейда в последующие годы не дает никаких резонов в пользу этого предположения. Однако можно допустить наличие у него острого постинфекционного миокардита неспецифической природы.
Синдром пароксизмальной тахикардии с предсердной фибрилляцией или без нее хорошо известен. Она может протекать и в отсутствие каких-либо заметных признаков «органического» заболевания. Ее симптоматика не расходится с описаниями Фрейда. Боли, подобные стенокардическим, и одышка могут объясняться коронарной недостаточностью, вызываемой продолжительными приступами.
Однако пароксизмальной тахикардии свойственно часто напоминать о себе больному в разные периоды его жизни. Если бы такой человек прожил достаточно долго, то вряд ли от него довелось бы услышать, что приступы, мучившие его несколько недель или месяцев подряд, уже больше не повторялись в старшем возрасте. Отдельные приступы могут быть спровоцированы различными причинами, особенно перееданием и перенапряжением. Один мой коллега испытывал приступ пароксизмальной тахикардии всякий раз, когда у него начиналась морская болезнь. Известно и то, что появлению таких приступов порой может способствовать высокий уровень тревожности.
