Стикс
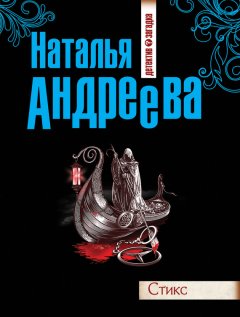
Герои романов Натальи Андреевой словно сговорились запутать и поразить читателя. До самой последней страницы вам предстоит плутать в лабиринте догадок, получая изысканное удовольствие от лихо закрученной детективной интриги и напряженных ситуаций, следующих одна за другой. Ведь существует не так много загадок, сам процесс разгадывания которых доставляет наслаждение. И одна из них – детектив от Натальи Андреевой.
Суммарный тираж книг автора превысил 4 миллиона экземпляров.
День первый, восход
Первое, что он почувствовал, – идти больно. Голова гудела, но хуже этого был маленький камешек, попавший в ботинок. Небольшой, но острый осколок асфальта. Он нагнулся, чтобы устранить досадную помеху, в глазах потемнело, пришлось присесть, и вдруг асфальт, еще не прогретый как следует утренним солнцем, коснулся щеки. Он и не заметил, как упал. Но сознание не угасло, как прежде, когда едва теплилось в нем сальным фитильком чадящей свечки, а вспыхнуло, словно костер, в который щедро плеснули из канистры бензина. И его затопило волной какой-то особенной, оглушающей боли. Он застонал, отполз на обочину и стал ощупывать свое тело.
Сначала голову. Огромная шишка на затылке, однако болит уже не остро, а глухо, тупо. Боль уходящая, как от удара, не достигшего цели. Но тошнит. Сильно тошнит. Во рту кисло. Он сплюнул на дорогу, потом застонал от стыда. Показалось, что все это чужое: и дорога, и одежда, и боль, и тело. Руки-ноги на месте, целые. Болели не они, невыносимо болела голова. Мимо проехала машина. Он понял, что никто не остановится, даже если лечь посреди дороги. Объедут. И не задержатся. Потому что он похож на бомжа. На горького пьяницу, еле-еле продравшего глаза после недельного запоя.
Он поднял глаза. Взгляд уперся в дорогу. Полоса пепельного асфальта, размеченная белой краской, уходила за горизонт, а по обеим сторонам ее настороженно молчал лес. Больше всего хотелось туда, в лес, спуститься с обочины, лечь под одну из березок с гладкой, тонкой, как у женщины, кожей, упереться взглядом в бездонное небо и вместе с облаками отдаться ветру и уплыть далеко-далеко… И больше ни о чем не думать…
Он знал, что нельзя. Надо идти. Если жить, то идти. Если умереть, то туда, под березку. «Умереть», – подсказал измученный болью разум. «Жить», – выстрелило тело, и он, повинуясь этому зову, резко поднялся и снова прилепился к дороге. Побрел.
Шел долго. Не думал ни о чем, потому что не ощущал себя человеком с будущим и прошлым. Знал только, что он есть, существует, раз куда-то идет. Что были у него когда-то и папа, и мама, возможно, даже друзья. Имя было. Какое? Нет вариантов. Идти. А во рту по-прежнему кисло. Он пригляделся: дорога разветвлялась. Возле указателя с надписью, которую он пока не в состоянии был понять, сидела баба в телогрейке и цветастом платке. Перед ней стоял деревянный ящик, на ящике пластиковые полуторалитровые бутыли с чем-то белым. Он догадался, что это белое можно пить, и хотя бы во рту боли станет меньше. Может, пройдет совсем.
Когда он подошел, баба испуганно ойкнула. Отшатнулась, заблажила. Он схватил бутыль с белым, поднес ко рту, стал жадно глотать. Теплое, живое.
– Да что ж ты, паразит, делаешь-то!
Баба схватила с земли большую сукастую палку, замахнулась. Он отнял бутыль ото рта, белое, теплое и живое пролилось на грудь, на грязную рубашку. «Молоко, – вспомнил он и счастливо засмеялся. – Молоко!»
– Вася! Василий! – взвизгнула баба.
Из кустов, застегивая на ходу штаны, выскочил бородатый мужик и выкрикнул слова, которые ему не понравились. Плохие слова, как мама говорила. Нельзя так. Плохо это. Нехорошо. Прижав к себе бутыль с молоком, он отвернулся и пошел прочь. Мужик, добежав до бабы и ящика, остановился, начал оглядываться по сторонам. Мимо пронеслась машина, скорости не сбавила. Мужик почесал в затылке, обращаясь к жене:
– Може, он больной? Блаженный? Ну его, Нюра. Пусть идет.
– Полицию бы позвать! Глянь, какой чернявый! На цыгана похож, ворюга! У-у-у! Отродье! – погрозила та кулаком вслед уходящему.
– Какая тебе тут полиция? Вот поближе к столице подойдет, там его и завернут. Али в тюрягу загребут, али в психушку упрячут. Пусть идет!
Он уходил от этих двоих все дальше и дальше, уходил почти счастливый, крепко прижимая к себе наполовину пустую бутыль с молоком. Теперь он точно знал, что это молоко, и ему стало легче. Первое слово, которое он вспомнил. А значит, вспомнит и остальные. Метров через двести он увидел указатель и теперь уже смог прочитать, что на нем написано:
«Москва – 78 километров»
И стало ясно, что ему надо идти вперед. К Москве. Что жить придется, потому что он должен сделать что-то очень важное. Вспомнить, что именно, и сделать.
Полдень
Молоко кончилось, солнце взошло, стало жарко и душно. Он шел, вытирая пот со лба. Руки были грязными, он чувствовал, что такое же и лицо. Машин на шоссе было много, все они проносились мимо, не замедляя хода. Люди, которых он встречал, шарахались от него, как от зачумленного, хотя ничего плохого он не делал. Просто шел.
Окликнули его возле белой с синей полосой машины. Номера тоже были синими. На крыше красовалась мигалка.
– Эй, мужик! А ну, двигай сюда! Документы у тебя есть?
Он замер. Из машины, зевая, вылез огромный парень в полицейской форме. Другой парень, сидящий за рулем, крикнул:
– Да ну его, Серега! Не наше с тобой дело бомжей подбирать!
– А вдруг он террорист? Премию дадут.
– Да обычный бомж! Воняет от него, наверное! Противогаз надень!
Парень заржал. Он сначала стоял, слушал, что они говорят, а потом вдруг развернулся и побежал.
– Стой! – кинулся за ним тот, кого назвали Серегой.
Догнал его быстро, повалил на землю, заломил руки, обшарил.
– Нет у него никаких документов, а рожа, глянь – черная! Чеченец, не иначе! Говорю тебе: террорист!
– Да, может, он цыган? – подошел и напарник. – В табор идет, к своим.
– Да типичное лицо кавказской национальности! Поехали, сдадим его в дежурную часть. Точно говорю: премию дадут.
Вечер
Допрашивали его долго. Он закрыл на всякий случай голову руками, особенно опасаясь за затылок, где была огромная шишка, но бить его не стали.
– Да ты кто такой-то? – все допытывался дежурный в местном отделении полиции маленького городка с незнакомым названием: до Москвы он так и не дошел.
– Не помню.
– Совсем ничего не помнишь?
– Нет. Ничего.
– Тебя что, по голове били?
– Не помню.
– Как оформлять-то тебя? – Дежурный безнадежно посмотрел в пустой протокол.
– Не знаю.
– Документов у тебя нет. Имени своего не знаешь. Ты хоть кто по национальности? Грузин? Чеченец? Армянин? Цыган?
– Русский.
– Да ты ж черный, как головешка! А говоришь чисто, – задумчиво протянул дежурный.
– Я русский, – упрямо повторил он. И вдруг добавил: – Иван. Меня зовут Иван.
– Ишь ты! Ваня, значит! И что мне делать с тобой, русский Ваня?
В это время вошел в дверь мужчина средних лет в форме, на каждом погоне по звезде.
– Товарищ майор! – вскочил дежурный, вытянулся. – Тут без вас экземпляр доставили. Думали – террорист. Когда документы спросили – он побежал. Ну, ребята догнали и…
– Били?
– Какое там! У него и так шишмарь здоровый на башке! И память отшибло напрочь! Ни документов, ни…
– Ну-ка, ну-ка… Из столицы ориентировка пришла, террористов ловят. В кабинет его ко мне. Быстро.
И пошло по кругу. Вопросы, вопросы. Одни и те же. Он отвечал, не упрямился: «Не помню». «Не знаю». Уже в сумерках молодой парень в штатском приоткрыл дверь кабинета:
– Разрешите?
– Входи, Игорь.
– Дежурный сказал, у вас тут находится мужик, который ничего не помнит. У меня друг в соседнем районе работает. Тоже опером. Так там уже двух таких подобрали. Шли по шоссе, без документов, без денег. Говорят, что ничего не помнят. Когда их потрясли как следует, один сказал, что последнее, что запомнил – вокзал и чемодан, который он должен был кому-то передать. А другой вспомнил крытую брезентом машину. Его долго куда-то везли, а потом выкинули на шоссе.
– И где сейчас эти двое?
– Как где? В психушку отправили. А куда их? Ничего ж не помнят.
Парень, которого назвали Игорем, повернулся к нему:
– Ты машину помнишь? Или вокзал?
– Нет. Бутылки помню. Много бутылок.
– Пили, что ли?
– Нет. Я не пил. – Он покачал головой и добавил, старательно выговаривая слова: – Меня зовут Иваном. Я не террорист.
– А мне сказали, что ты побежал, когда тебя окликнули. Зачем? Не помнишь?
– Как побежал, помню. Зачем побежал – не знаю.
– А почему ты черный такой? Загореть где успел? С юга, что ли?
– Не помню.
– Ладно, пусть его врачи попробуют в чувство привести, – сказал, поднимаясь, майор. – А потом поговорим.
– Эх, если б не физиономия! Типичное лицо кавказской национальности!
– Да-а-а… Проверить надо бы.
– Да русский он! Никакого акцента! Говорю вам: не террорист! Тут другое.
– Да и черт с ним! У нас что, дел мало? Сейчас скажу, чтобы отвезли в психушку. Дело-то завели на этих Иванов непомнящих?
– Завели. Они, похоже, курьеры, раз вокзал и чемодан. Наркоту, что ли, возят? А при чем здесь тогда бутылки? Чертовщина какая-то.
– Вот и подкинем его им. Соседям. Пусть объявление в газете дадут. И по телевизору. Что это за мужик, кто знает? Может, личность какая известная.
– Отмыть ее надо для начала, эту личность, товарищ майор, а там поглядим.
– Ты, Игорек, возьми на контроль.
– Есть!
День второй, утро
Он проснулся чистый, в чистой постели. Поел с большим аппетитом, после завтрака осмотрелся. Мысли еще путались, голова болела. Вспомнил, что накануне его отмыли, подстригли, побрили, одели в больничную пижаму. Пожилая нянечка, возившаяся с ним в душевой, даже умилилась:
– Экий ты ладненький да хорошенький у нас! Как звать-то хоть, помнишь?
– Иван.
– Ванюша, значит. Красавчик ты у нас, Ванюша. Цыганистый, да ладный. Хочешь чего? Может, еще покушать? Отощал ты, оголодал.
– Спать. Больше ничего не хочу.
Теперь он в обществе таких же людей, одетых в поношенные полосатые пижамы, сидел в огромной светлой комнате с решетками на окнах, бессмысленно улыбался и ловил на себе заинтересованные взгляды молоденькой медсестры. Наконец она подошла, поправила ему черные кудрявые волосы на лбу, достала из кармана маленькое зеркальце:
– Так хорошо? Гляньте.
Он посмотрел. Да, это его лицо. Теперь его, когда отмыли и побрили. Худое, смуглое, с жесткими, правильными чертами, словно отчеканенными. Глубокие карие глаза, взгляд горячий и впрямь какой-то дикий, цыганский. Нос прямой, губы узкие, темные. Пальцем потрогал – твердые на ощупь, трещинка, которой невзначай коснулся, тут же заныла. Он поморщился.
– Дайте, я вазелином смажу, – тут же вызвалась медсестра, не отводя от него взгляда.
Он понял, что нравится женщинам. Красавчик? Что-то всплыло в памяти. Нежные женские пальчики, ласково касающиеся его губ. Ему это, кажется, нравилось. Вот и сейчас молоденькая сестричка трогает нежно трещинку, застенчиво улыбается:
– Легче?
– Маша, новенького к главврачу!
Она тронула его за плечо:
– Ну, пойдемте. Провожу.
Он встал, сестричка оказалась ему по плечо. То ли она такая маленькая, то ли он высок ростом. Верхняя пуговица больничной пижамы расстегнулась, он глянул на черные курчавые волосы у себя на груди, потрогал их пальцем: жесткие. Тело, которое надо заново вспомнить. Худое, смуглое, но, похоже, красивое и ловкое. Вон она как смотрит! Почему-то он застеснялся, пуговичку верхнюю застегнул. Мужчина. Это тоже надо вспомнить. Сестричка зарумянилась, поторопила:
– Пойдемте, пойдемте! Владимир Степаныч ждет!
В кабинете несколько человек. Самый старый, в очках, похоже, главный. Он и предложил:
– Ну-с, присаживайтесь. Иван, говорите?
– Да.
– Это все, что вы пока вспомнили?
– Кажется, все.
– Бывали в нашей практике такие случаи. Да-с, бывали… Травма у вас в затылочной части имеется, но, похоже, не в ней дело. Стукнули чем-то тяжелым по голове, но такие удары приводят к временной потере сознания, не к амнезии. Она явилась следствием чего-то другого. Пили что-нибудь?
– Не помню.
– Значит, вливали насильно, пока вы были без сознания. Да-с… На бомжа вы не похожи. Такого ладного какая-нибудь дама да подберет. Женские персонажи в памяти не всплывают?
– Пока нет.
– Что ж. И речь грамотная. Акцента нет. Боли какие-нибудь мучают? Где?
Он поморщился:
– Что-то мне не по себе. Но сказать конкретно… Общая слабость.
– А меж тем состояние организма вполне удовлетворительное. Ничто не говорит о том, что вы наркоман со стажем. И печень не увеличена. Значит, алкоголем не злоупотребляли. Давление в норме, пульс хорошего наполнения, анализы еще не готовы, но я думаю, что и гемоглобин у вас в норме, и белка в моче нет.
– А лейкоциты?
– Простите, что вы сказали? – Главный посмотрел на него в упор и поправил очки.
– Не знаю. Вы сказали «анализы», и в памяти всплыло слово «лейкоциты».
– Неплохо, уже неплохо. Еще какие слова знаете? Из области медицины?
Он замялся.
– Так. Понятно. Что ж, я думаю, родные у вас есть. И они вскоре объявятся. Поживите пока на попечении у нашего персонала. Это в основном женщины. С такими-то внешними данными… Да-с… Довольны, говорю, будут очень. Тут еще полиция вами интересуется. Желаете поговорить?
– Полиция? – Он вдруг испугался.
– Что ж вы так напряглись?
– Не знаю. Боюсь.
– Милый вы мой! Вам не полиции надо бояться, а тех, кого она ищет! Не полиция же вас наркотиками пичкала до полной потери памяти!
– Это были наркотические препараты?
– Что-то вроде того. Какой-то очень умный человек изготовил сие зелье. Химический состав пока, увы, определить не можем, хотя вы не первый к нам в таком виде попадаете. Теряюсь в догадках: что это может быть? Следы препарата в организме отсутствуют. Так как насчет полиции?
– Если надо…
– Надо узнать, кто вы такой. Сколько вам лет, тоже не помните? Тридцать, тридцать пять, сорок?
Он поморщился. Снова вспомнил нежные женские пальчики на своих губах, потом они порхнули на веки, ласково прикрыли глаза. «С днем рожденья, любимый! Закрой глаза, я приготовила тебе подарок!»
– Кажется, тридцать пять.
– Я полагаю, что память к вам вскоре вернется. Вот увидите жену, детей…
– Детей?!
– А что вы так испугались?
– Не знаю. Что-то с детьми. Неприятное. Больно. Здесь, – он пальцем коснулся виска.
– Ладно. Сейчас приглашу молодого человека из органов. Сделаем ваши фотографии, отдадим в газету, на телевидение. Вот у предыдущего пострадавшего родные-то нашлись. Полгода у нас лежал, всех нянечек извел: «Кто я да что я». Но – нашлись. Оказалось – московский он. Вы зачем к столице-то шли? Не домой?
– Не знаю. Помню только, что мне важно было дойти. Очень. А зачем? Не помню. Зовите вашего дознавателя.
Вошли трое. Один в штатском, с фотоаппаратом, двое в форме. Замялись в дверях. Один был тем самым Игорем, который вчера доказывал майору, что он, Иван, не террорист.
– Добрый день, – сказал этот мент. – Я оперуполномоченный Майоров Игорь Алексеевич. Лейтенант.
Он улыбнулся. Похоже, с чувством юмора у него все в порядке. Майоров – лейтенант. Смешно.
– Здравствуйте.
– Да вас и не узнать! Я ж говорил: не террорист!
Тот, что в штатском, с фотоаппаратом, вдруг взволнованно сказал:
– Постойте! Да я вас, кажется, знаю! Мы же встречались!
– Где? – хором воскликнули все, кто находился в комнате.
– Да на совещании областном, вот где! Кажется, так. Да. На совещании.
– На каком совещании? – напряженно спросил лейтенант Майоров.
– Работников правоохранительных органов. Нашему прокурору там благодарность выносили. Меня откомандировали снимки делать для стенда. Я еще подумал: какое интересное, запоминающееся лицо!
– У кого, у прокурора? – спросил Майоров.
– У какого прокурора! Вот у этого… Простите. Вы были в форме. Вот насчет чина, извините, не припомню. Я еще подумал, что вы не на следователя похожи, а на киноартиста.
– На следователя? – напряженно переспросил Майоров.
– Ну да. Я точно знаю, что этот человек – следователь районной прокуратуры. Кто-то за спиной так сказал. Вот, мол, идет знаменитость, самый удачливый следователь, бандитов на допросах раскалывает на чистосердечное признание, как орешки. Фамилию вот только не припомню.
– Извините, – лейтенант Майоров вытянулся. – Так вы, выходит, свой? Выходит, из прокуратуры?! Ну ни хрена ж себе! Следователь! Вот это номер! Извините. Надо срочно запрос делать по районам! Это мы быстро. Как же так? Следователь где-то пропал, а у нас ничего не известно?!
– Может, и известно, – сказал второй товарищ в форме и козырнул: – Младший лейтенант Петренко. – Только вы, извините, были вчера в таком виде…
– Да, я бы никогда не подумал, что вы следователь, – с сожалением сказал Майоров. – Лицо в грязи, щетина многодневная, рваная одежда…
Лейтенант замялся, потом поспешно добавил:
– Так мы свяжемся. Мигом. Сейчас все проясним. Извините.
Майоров козырнул, потом чуть ли не строевым шагом направился к телефону. «Быть тебе скоро майором, по фамилии», – подумал он и почувствовал вдруг, что сильно устал.
– Я бы полежал. Можно в палату?
– Да, конечно, конечно, – не по чину засуетился главврач. И добавил: – Может, в отдельную?
– Нет. Не надо.
Выходя вслед за женщиной в белом халате в коридор, он услышал за спиной:
– Надо же! Вот тебе и террорист! Вот так номер!
Полдень
Его тронули за плечо бережно, словно погладили. Похоже, за сутки его цена возросла в несколько раз. Он был теперь вещью дорогой, но хрупкой, и мог невзначай разбиться, а меж тем представляет собой ценность для общества:
– Иван Александрович, вставайте!
Александрович, точно. Другого отчества рядом со своим именем он и представить себе не мог. Но в голове было по-прежнему пусто.
– Вставайте, надо ехать!
Вот ехать-то как раз никуда и не хотелось. Он даже глаз не стал открывать, но тот, кто тряс его за плечо, был настойчив:
– Ну же, Иван Александрович! Вас ждут! Жена волнуется!
Жена! Он тут же открыл глаза и сел на кровати:
– Какая жена?
Вот жены он как раз и не помнил. Надо же, а ведь такая важная деталь – жена. Интересно, любил он ее? В душе, как и в голове, пусто. Встал, одернул пижаму, поправил волосы. Все-таки женщина. А он мужчина. Это надо вспомнить.
– Я готов.
– Вам бы переодеться.
Его вчерашняя одежда была в ужасном состоянии. Даже если ее отстирать как следует, все равно останутся одни лохмотья. Это уже нельзя надеть. Вошедшая в палату сестричка, застенчиво румянясь, протянула сверток:
– Вот, собрали вам. Вернете.
Брюки были коротки, пиджак, напротив, висел мешком. Но последнее время все у него было с чужого плеча. И жизнь, в которую его сейчас возвращали, тоже казалась чужой. Жена. Что это такое? Может, и дети есть?
– Кто я? – спохватился он и внимательно посмотрел на лейтенанта Майорова, дожидавшегося важную персону в коридоре.
– Вы – Мукаев Иван Александрович, следователь по особо важным делам Р-ской районной прокуратуры. Это не соседний район, как оказалось, а тот, что на самой окраине Московской области. За ним другая губерния начинается. Вас ищут уже с неделю.
– Мукаев? Не помню.
– Ну как же так, Иван Александрович? Как не помните? – с тоской спросил лейтенант. – Дети же. Жена.
– Что ж. Раз дети. Значит, Мукаев. Пойдемте. Где она?
– Приехала за вами. На улице дожидается.
– На чем приехала?
– На машине. На вашей машине.
– Она что, водит мою машину? – Отчего-то ему вдруг стало неприятно. А меж тем ассоциации, связанные со словосочетанием «моя машина», он к неприятным не отнес бы. «Моя машина» – это звучало здорово. Да, автомобиль у него был, это точно.
Он мельком глянул на себя в зеркало, висевшее на стене в коридоре. Что ж, в костюме, даже таком безобразном, он чувствовал себя гораздо увереннее, чем в больничной пижаме. Костюм – это его. Рабочая одежда. Но хороший костюм. А этот как мешок. Значит, так надо. Не в пижаме же. Все-таки женщина. Какая она, жена?
Она стояла у машины. Недовольно поморщившись, он отметил, что машина не новая и не иномарка. И женщина старше, чем ему бы хотелось, лет тридцати – тридцати пяти. Волосы короткие, светлые, ему показалось, крашеные. Так и есть: на макушке отросшие корни темных волос. Не полная, фигура стройная, но уже не по девичьи, а зрело, по-женски. Это значит с округлостями, с приятной полнотой в нужных местах. Он пригляделся и вновь недовольно поморщился. Жена, значит. Невысокого роста женщина с крашеными волосами, внешности самой заурядной, широкобедрая, но с узкими плечами. Он сразу подумал, что такие женщины ему не нравятся. Как и такие машины. Что все это с чужого плеча. Увидев его, эта женщина зарыдала, кинулась с криками «Ваня, Ваня, где же ты был, родной?!»
Он сначала отступил, потом оглянулся, увидел высыпавший на крыльцо персонал больницы. Неудобно как-то получается. Позволил ей подбежать, но сам так и не сделал ни шага навстречу. Когда она повисла на нем, терпел. Когда стала горячо целовать, отстранился. Спросил осторожно:
– Извините, как вас зовут?
Она шарахнулась, схватилась за голову, завыла по-бабьи в голос:
– Господи, да что же это такое?! Да что же с тобой сделали?! Ваня!!
– Зоя, Зоя, – прошипел ему в ухо стоящий рядом лейтенант Майоров.
– Зоя, – послушно повторил он.
– Вспомнил? Господи, неужели вспомнил?!
Она снова кинулась на шею, ему стало мокро и неприятно от ее поцелуев и слез. Подумал вдруг: «Не то. Не то. Ни губы, ни пальчики».
Та, которую звали Зоей, оторвалась наконец от него и побежала в больницу, подписывать какие-то бумаги и улаживать формальности. Он понял только, что его повезут в район, где он якобы родился и жил, наверное, тоже в больницу. В другую, поближе к дому. Лейтенант Майоров помог ему сесть в машину, сочувственно сказал:
– Ничего, обойдется. Хорошая женщина.
Он не ответил, сидел на заднем сиденье, безразлично смотрел в окно. Эта Зоя все суетилась, все благодарила кого-то, всхлипывала, сморкалась, вытиралась белым носовым платочком, косилась на него, сидящего в машине, снова всхлипывала. Он же, глядя на все эти мелкие, суетливые ее жесты, думал только об одном: «Господи, как же я буду жить? Это же совершенно чужая мне женщина!»
Потом она села за руль, обернулась, заботливо спросила:
– Тебе хорошо, Ваня? Удобно?
Он кивнул молча, не найдя ни одного слова для нее. Майоров, Петренко и тот третий, в штатском, сели в другую машину. Ему хотелось крикнуть: «Не надо! Не оставляйте меня с ней наедине! Я же совершенно не знаю, что с этой Зоей делать! Не знаю, о чем говорить!»
Но, похоже, был он человеком сильным, потому что скрипнул зубами, промолчал. В конце концов, он мужчина. Разберется, что делать с женщиной, тем более с женой.
– У нас есть дети? – спросил тихо, когда машина тронулась.
Эта Зоя снова зарыдала, машина дернулась, вильнула в сторону, и он испугался. Теперь, когда все более или менее прояснилось, не хватало только врезаться в какой-нибудь столб! Да бог с ней, пусть будет Зоя. Жизнь. Да, именно жизнь. Откуда-то он знал, что так переводится с древнегреческого ее имя.
– Зоя, не надо плакать. Я все вспомню. Но ты мне помоги.
– У нас девочки, близнецы. Маша и Даша, – взяв себя в руки, сказала она.
– Да, наверное, так оно и есть.
Они выползли на шоссе и повернули в противоположную столице сторону. Он напрягся: что такое? Выходит, не в Москву? Со дна души поднялась муть. Закрутило, завертело, хотя вспомнить он по-прежнему ничего не смог. Но точно знал одно: ему надо сейчас ехать в другую сторону. Дело, ради которого он с таким упорством брел вчера по шоссе, собрав остатки воли, надо сделать там, в Москве. Но, как и многое другое, как всю свою предыдущую жизнь, он никак не мог вспомнить, что же это за дело.
Вечер
Когда эта Зоя ушла наконец, он вздохнул с облегчением. Хорошо, хоть детей сегодня не привезли. Нельзя же так сразу. Эта Зоя сказала, что завтра. Что ж, завтра так завтра. По крайней мере, он подготовится, соберется с силами. Дети, как это? Что надо сделать? Обнять их, поцеловать, прижать крепко к родительской груди? Считается, что именно в этот момент он должен умилиться от счастья и в слезах несказанной радости все вспомнить. Почему же ему все равно? При слове «дети» ничего не чувствует, кроме боли. Ни нежности, ни счастья. Ни слез умиления. Маша и Даша, две девочки. Может быть, он хотел сына? Потому и не рад. И откуда вообще взялась в его жизни эта Зоя с ее детьми?
Городская больница, куда его привезли, скучное серое здание, но решеток на окнах нет. Обычная больница для обычных пациентов. Считается, что он нормальный, раз не кричит, на людей не кидается, головой о стену не бьется. Просто у него черепно-мозговая травма, приведшая к временной потери памяти, по-научному – амнезии. Про наркотический препарат, которым его пичкали с неделю, все как-то позабыли. Вот подлечат, укрепят ослабленный организм и выпустят на волю.
Обычный человек… Не сумасшедший… Но если это не безумие, то что?
И тут он накрылся с головой одеялом и тихонечко, так, чтобы никто не слышал, взвыл: «Господи, за что?! Лучше бы я умер!! Кто это со мной сделал?! Кто?! Убью! Я знаю точно: вспомню все, найду и убью его. Непременно убью».
День третий, утро
В больнице он провел почти месяц. И как-то сразу вычеркнул его из жизни, потому что ничего важного для него за этот месяц не произошло. У него брали анализы, делали рентгеновские снимки, давали какие-то лекарства, кололи витамины, вливали внутривенно глюкозу, усиленно очищали организм, крутили, вертели, допрашивали с пристрастием и без, стараясь вернуть из небытия его память. В конце концов он понял, что надо признаться во всем. В том, что он – Иван Александрович Мукаев, следователь районной прокуратуры, муж Зои и отец двоих детей. Хотя, убей, ничего этого он так и не вспомнил.
Весь месяц эта Зоя таскала в больницу альбомы с фотографиями и детей. Две смуглые, черноволосые и очень хорошенькие девочки-близняшки десяти лет ему, в целом, даже понравились. Они были сдержанными, наверное в него, на шею не вешались, «папа-папа» не пищали. Держались вместе, поближе друг к другу, рассматривали его внимательно глазенками-угольками и почему-то не улыбались.
– Они тебя раньше редко видели, – всхлипнула эта Зоя. – Ты очень много работал, Ванечка.
Что ж, теперь дочки видели его каждый день и даже начали к этому понемногу привыкать. Стали садиться к нему на колени, Маша на правое, Даша на левое, сдержанно рассказывать об успехах в учебе. Вообще, они никогда не ссорились, без всяких споров и раздоров, так же как оба его колена, делили все, что доставалось им в этом мире. Ни одна из девочек не хотела правое колено вместо левого, розовый бант вместо голубого.
– Хорошие дети, – сказал он жене, и эта Зоя снова стала тихонечко всхлипывать.
– Ваня, неужели ты не помнишь, как их всегда называл?
– Как?
– Ну, Ванечка, родной, вспомни! Пожалуйста, вспомни!
– Нет, не могу, – поморщился он.
– Они родились такие махонькие, весом по два с половиной килограмма, я долго лежала в роддоме, потом в больнице, меня все не выписывали, а когда привезла их домой… Ты помнишь? Обе они родились с густыми темными волосами. Я положила их в детскую кроватку, под белое-белое одеяльце. Они лежали, смуглые, темноволосые, в тебя… И я сказала: «Ванечка, какие хорошенькие темненькие головёшки». Помнишь? Что ты мне ответил?
Он молча покачал головой. Эта Зоя снова всхлипнула:
– Ты сказал: «Не головёшки, а головешки». Ты всегда был шутником. Мы так и стали звать их: Головешки.
– Да? Не очень-то это хорошо звучит, – жалко усмехнулся он.
– Но я никогда с тобой не спорила, Ванечка. Я любила тебя со школы. Мы учились в одном классе… Ты помнишь?
– Нет.
Так было почти каждый день. «Ты помнишь?» – «Нет». Какая-то игра, которую и он, и эта Зоя приняли охотно. Он послушно листал альбомы с фотографиями, говорил свое «нет» и думал только о том человеке, которого должен найти и наказать. То, что он никому никогда не прощал насилия над своей личностью, помнил совершенно точно.
– А это твоя мать… Ванечка, ты помнишь?
– Такая молодая? – удивился он. – Она, должно быть, еще жива?
Неудачно сказал. Зоя снова зажала рот ладошкой, схватила в нее сдавленный всхлип, удержала. Потом сказала:
– Вы последнее время с ней не очень-то ладили, но она придет.
И в самом деле женщина, которая не выглядела на свои пятьдесят два, пришла к нему, и не один раз. И не одна. С каким-то мужчиной.
– Это мой отец? – спросил он, и женщина отчего-то здорово разозлилась.
Ушла она быстро, и он спросил у этой Зои:
– Что-то не так? Отчего она обиделась?
– Ой, Ванечка, я уж и не знаю, надо ли тебе говорить? Может, не помнишь и не надо?
– Где мой отец? – спросил он.
Эта Зоя замялась:
– Ну, ты понимаешь… В общем, это грустная история. Ты сам ее раскопал недавно, мать-то всей правды не говорила. Но ты добился. Ты ж следователь. Всегда хотел все про всех знать… Неужели не помнишь?
– Нет.
– В общем, ее изнасиловали в шестнадцать лет. В семнадцать она родила. Вот потому такая молодая у тебя мать.
– Что-о?!
– Ты только, Ванечка, не волнуйся, – засуетилась эта Зоя. Заговорила сбивчиво, путано, он еле улавливал суть. – Я знала, что ты будешь волноваться. Ты сам рассказал мне недавно эту историю и отчего-то здорово волновался. В общем, за год до твоего рождения к нам в город приехали иностранцы. Строители. Жили в городе лет десять, я их смутно, но еще помню. Болгары это, конечно, не американцы, не немцы какие-нибудь, но все равно – иностранцы. Мы иностранцев-то в глаза раньше не видали. Они строили у нас в городе новый микрорайон, ну, и все наши женщины, конечно, стали возле этих болгар крутиться. Мама твоя еще школьницей была. Никто толком и не знает, что в тот день произошло. Девочки, ее подружки, на танцы в болгарский городок бегали. Там, говорят, весело было. Ну и Инна Александровна, тогда еще Инночка, с ними увязалась. После танцев на нее и напал здоровенный мужик. Болгарин немолодой. Может, и не напал, а сама захотела. Говорят, выпили они немного после танцев, а мама твоя так впервые в жизни… Сразу-то она в милицию не заявила, да и потом… – Зоя глубоко вздохнула. – А у того болгарина жена, двое детей. И как ни крути – иностранец. В общем, потом уже поздно было заявлять, да и мать твоя сразу не сообразила, что же такое с ней произошло. Времена-то тогда какие были, помнишь? Слово «секс» говорили шепотом да на ушко. Что мы об этом знали? Ничего. Да что ты помнишь!
Она махнула рукой и замолчала.
– Значит, мой отец – болгарин? – спросил он. – Никакой он не цыган, не лицо кавказской национальности, а болгарин, иностранец. И поэтому я такой смуглый?
– Конечно, Ванечка! Инна Александровна говорит, что его вроде Димитром звали. Но тебя записала по своему отцу – Александровичем. Долго ее уговаривали от ребеночка-то не отказываться. Все хотела в роддоме тебя оставить. Да… А этот, что с ней приходил, – муж. Всего лет десять как ей повезло – встретила свое позднее счастье. А вы с ее мужем не ладили.
– Не помню, – привычно сказал он.
– Вот и славно, вот и хорошо, – заторопилась она. – Что плохое забыл – это хорошо. К чему оно тебе, плохое?
Он согласно кивнул. Записал в свою жизнь еще и мать с ее мужем. Потом пришел и этот человек. В возрасте, седой как лунь, страдающий одышкой. Пришел вечером, одетый в штатское, темные брюки и свитер домашней вязки, а когда представился прокурором, Ивана даже затрясло. Отшатнулся, побледнел.
– Иван Александрович, да что это с тобой? – Тяжелый вздох, дружеское похлопывание по плечу. – Ну-ну. Успокойся. Сколько лет мы друг друга знаем? Ты ж ко мне еще юнцом зеленым сразу после юрфака определился. Я ж тебе сам целевое распределение подписывал. В родной район. Неужели и меня не помнишь? Я ведь тебе вроде крестного отца. Да и родного тоже. Хе-хе.
– Извините, – ему по-прежнему было страшно. Прокурор!!! Нет!!! – Извините.
– Ну понятно. Не помнишь. Эх! Цыпин я. Владлен Илларионович Цыпин. Начальник твой. Лучший ты у меня следователь в районе, Ваня. И не скажу «был». Не дождешься. Замены тебе нет. Так-то.
– Владлен Илларионович… – Это же невозможно выговорить! Или язык заплетается от страха? Надо попробовать еще раз. – Владлен Илларионович, боюсь, что я больше не смогу работать. Я ничего не помню.
– Ну-ну. Вспомнишь. Должен вспомнить. Обязан. Ты помнишь, как звонил мне в тот день, когда исчез?
– Звонил? Я? Откуда?
– Ваня… Ты уж прости старику фамильярность, десять лет тебя пестую. Так вот, Ваня, у тебя был мобильный телефон… – (Да, у него обязательно должен быть мобильный телефон! И отличный аппарат! Со множеством функций!) – Подарок на тридцатипятилетие. Следователь должен иметь связь. Скинулись на юбилей, подарили. Дорогой, последняя модель. Так ты мне позвонил и сказал, что вычислил того человека. Надо только кое-какие данные проверить. Кто он, Ваня?
– Какой человек?
Цыпин тяжело вздохнул:
– Ну-ну. Совсем, значит, плохо. Эх! Но верю я в тебя. Вспомнишь. Дело увидишь и вспомнишь. Этот злодей уже лет восемнадцать у нас в районе орудует. Первый труп нашли, когда ты еще школу заканчивал.
– Женский? – еле слышно спросил он.
– Женский. Ну слава тебе! Вспомнил?
– Смутное что-то. И сколько их было?
– Нашли десять. Два мужика, остальные женщины. Раны характерные. Последний примерно полгода назад. Я еще, когда тебя в район вытребовал после института, знал: ты найдешь. Способный ты, Ваня. Да что там! Талантливый! Я потому на многое и глаза закрывал.
– На что?
– К чему о плохом? – махнул рукой Цыпин. – Забыл и забыл… И вот ты его действительно нашел. Ведь ты сам посуди: столько времени в нашем районе маньяк орудует! Делу-то, что у тебя в сейфе лежит, ни много ни мало восемнадцать лет! Уже местная достопримечательность маньяк этот. Как совещание, так другим награды, а мне ворох оплеух: а вы не рассчитывайте ни на что, у вас, Владлен Илларионович, в районе маньяк, вот посадите его, тогда и наградим. Ну, вспомнил, Ваня?
– Нет, – он с сожалением покачал головой.
– А хоть что-нибудь помнишь? Последнее что было?
– Бутылки.
– Пил много? – сочувственно спросил прокурор. – Ну, это ты любил. Бывает.
– Нет. Пустые бутылки. Без этикеток. Много. В ряд.
– Вот оно, значит, как, – напряженно сказал Цыпин. – Значит, ты и его нашел. А я не верил, что в нашем районе… Эх-эх… Никто не верил, кроме тебя. А ты нашел.
– Кого?
– Подпольный цех по производству паленой водки. У тебя последнее время два важных дела было: маньяк этот и водка. То есть я не про питие твое. Хотя, чего греха таить, осуждал. Но за талант все тебе, Ваня, прощал, даже в преемники хотел рекомендовать. Старый я уже. Да-а… Ты уперся, что заводик этот не где-нибудь, а у нас под носом. В самом городе. А ведь область – она большая. Значит, нашел. Где, тоже не помнишь?
– Нет.
– Значит, там они тебя и саданули по башке. А потом опоили. Ну что, будешь работать?
– Не могу.
– Брось, Иван Александрович! Я тебе говорю: брось это, – сердито сказал Цыпин. – Кем я тебя заменю? Ну кем?
– Я все забыл. Ничего не помню о своей прежней работе. Кажется, я должен подать… Как это называется? – Он поморщился. – Прошение об отставке, да?
– Забыл, как называется? Вот и не вспоминай. Не будет тебе отставки. Я понимаю, что ты теперь человек больной. Возможно, что и придется тебя отпустить, раз все позабыл. Но я тебя Христом Богом прошу: приди на работу. Только два дела закрытых от тебя хочу: вспомни, кто этот маньяк и где подпольный цех по производству паленой водки. Или найди их снова. Вот это сделай – и с миром иди.
Цыпин широко развел руками. Иван согласно кивнул:
– Хорошо. Я приду.
– Вот и ладненько. Был бы ты здоровый, я бы тебе, как начальник, приказал: «Цыц! На работу шагом марш!» И дел бы на тебя, милок, навесил. Ох и навесил! А может, ты притворяешься? Ну-ну… Шучу… Иди, отдыхай.
– Спасибо. То есть слушаюсь.
– Молодец! Ох, Ваня, Ваня, понимаю я теперь, за что так любят тебя бабы! Хорош. Отъелся, отоспался. Хорош. Красавец. Ну не можем мы без тебя. Никак не можем!
Потом Цыпин подмигнул и таинственно сказал:
– Может, сигаретку хочешь? Не дают небось, а? Закурим?
– Я не курю.
– Бросил, значит? Молодцом! А я вот не могу. Может, и мне стоит глотнуть того зелья, которым тебя траванули, а? Забуду о вредных привычках. Ну-ну. Шучу. – И после паузы: – А может, ты и с бабами завязал?
Про баб он вспомнил потом. Когда в больнице появилась молодая, высокая – под стать ему и очень красивая женщина. Правда, проникла она за больничную ограду тайком и все время оглядывалась. Нашла его в саду вечером, когда эта Зоя с детьми уже ушла. Подкралась неслышно, присела рядышком на скамейку, прижалась крепким, стройным телом. Его обдало жаркой волной. Вот такие женщины ему всегда нравились, это точно!
– Ваня, Ванечка, а говорят, ты все забыл…
Уж этого он не забыл. Горячих, сладких поцелуев, от которых закружило всего, завертело. Мял руками ее тело и не мог оторваться. Потом увидел совсем близко загадочные, цвета воды морской глаза. Окунулся в них, поплыл, словно на ласковой волне закачался…
– Ну, как меня зовут? Ну как?
Он смотрел, не отрываясь. И, кажется, вспоминал. Такую женщину забыть невозможно. Вот это его!
– Оля.
– Ха-ха! Раньше Олесей звал. Оля! Ха-ха! Лучше уж тогда Аленой.
– Так ты не Ольга? – удивился он. Выходит, показалось?
– Ну, Мукаев, ты даешь! Ты из чьей постели в то утро выпорхнул, когда памяти лишился?
– Ты кто?
Она разозлилась:
– Ваня, ты это брось! У нас с тобой любовь не первый год. Олеся я. Леся. Ох. Все равно тебя люблю!
Оглянувшись, не видит ли кто, она снова принялась его целовать. Горячо, жарко. Гладила его плечи, пальчиками забираясь за ворот больничной пижамы, нежными губами трогала волосы на груди. Потом зашептала:
– Соскучилась… А здесь никак нельзя?
– Где здесь? – хрипло спросил он. Жар уже затопил его целиком, руки налились силой. Взять бы ее сейчас и…
– Ха-ха! Где! На мягкой травке! Ванечка… Ваня…
– Постой…
– Ладно. Постою. Когда выйдешь отсюда, ко мне придешь ночевать?
– Где ты живешь?
– Ноги сами приведут. Или это, – она горячей ладошкой игриво провела по ширинке. Лукавые глаза цвета морской волны вспыхнули, заиграли. Он тут же подумал о юге, о жарком солнце, о пляже. Белоснежный шезлонг под ярким зонтом, а на нем это стройное загорелое тело. И снова поцелуи, жаркий шепот: – Ванечка, Ваня…
Всю ночь он не мог успокоиться. Значит, кроме жены была еще и любовница. Это нормально. И понятно теперь, почему эта Зоя показалась ему чужой. Любил он не ее, а другую женщину. Частенько ночевал у нее. Любовница, значит. И не первый год. Да, надо было там, прямо на мягкой травке.
Может, никто бы и не застал. Хотя… чего стесняться, весь город, наверное, и так знает про эту Лесю. Что ж, запишем в память и ее, красавицу-любовницу. А адресок как-нибудь сообразим. Хорошо, что он следователь. Удобно. Так будет гораздо проще разобраться с человеком, который напичкал его этим зельем. Найти и убить.
…День, когда его выписали из больницы, он отметил как третий важный день в своей новой жизни. Жизнь эта все еще жала и была неудобна, словно костюм с чужого плеча. И была ему явно мала. Он никак не мог втиснуть ее в рамки маленького провинциального городка на окраине Московской области. А говорят, он провел здесь всю жизнь, за исключением нескольких лет учебы в институте. Учился, женился, работал. Любил. Но себе, в личный календарь, так и записал: день третий, утро.
Забирала его из больницы Зоя. Взяв документы, выписку из медицинской карты, он официально признал себя Иваном Александровичем Мукаевым, тридцати пяти лет, следователем районной прокуратуры, проживающим по адресу, записанному в его паспорте и личном деле. Признал свою мать, свое детство, юность, высшее юридическое образование и тайно признал любовницу Олесю.
По городу из больницы шел пешком, чтобы признать и его. В конце концов, город маленький, ориентироваться в нем несложно. Спустился вниз по дороге с холма, на котором находилась больница, за руку цеплялась эта Зоя. Они прошлись по площади, потом мимо платной автомобильной стоянки направились к своему микрорайону, к своему дому, где, как ему сказали, на втором этаже находилась его трехкомнатная квартира.
И тут, возле стоянки, его словно ткнули под дых. Он захлебнулся, остановился.
– Ты что, Ванечка? Нехорошо тебе? – заботливо спросила эта Зоя.
Он не ответил, повернулся резко и направился прямо к стоянке. Такая машина на ней была только одна. Черная, большая, блестящая, с тонированными стеклами. «Мерседес». «Пятисотый» «Мерседес». Машина была не на сигнализации, но он, кажется, знал, что на ее руле висит противоугонный «костыль». Хотя за черными стеклами не мог его видеть. Но он про «костыль» знал. Подошел, подергал запертую дверцу, похлопал себя рукой по карману. Ключей, разумеется, не было. Откуда они там возьмутся?
– Ванечка, да что с тобой? – вцепилась в него эта Зоя. – Пойдем домой. Пойдем.
– Да-да, сейчас. – Он почему-то знал, что должен сесть в эту машину. Но ключей не было. Все равно стоял, не мог оторваться. Чувство гордости наполняло его. Хорошая машина. Но где же ключи?
Он обернулся: у кого бы спросить, давно ли эта машина здесь стоит? И не оставляли ли для него ключи? Нет, никого. Охранник, который на него подозрительно косится, ему не знаком. Что ж, и это надо вспомнить.
И, послушно продолжая под руку с этой Зоей свой путь к трехкомнатной квартире на втором этаже, он не удержался и несколько раз обернулся. Черный «пятисотый» «Мерседес» намертво ассоциировался у него в памяти со словами «моя машина».
Полдень
Квартиру он не узнал, дома себя не почувствовал, и это его не удивило. Эта Зоя сказала же, что здесь его раньше видели редко. Должно быть, часто ночевал у любовницы, у Олеси, а тут все чужое. Головешки только-только закончили учебный год, почти на все пятерки, только у Маши четверка по русскому, а у Даши по математике. Они вежливо сказали «здравствуй, папа» и убежали на улицу, наскоро пообедав.
– Почему мои дети так равнодушны ко мне? – спросил он.
Эта Зоя кормила его обедом. Готовила она хорошо, он это отметил еще в больнице, когда с удовольствием поглощал домашние пирожки, плюшки и кисели. Вот и сейчас съел с большим аппетитом целую тарелку наваристого огненного борща и собирался расправиться с макаронами, обильно политыми мясной подливкой, и с компотом. Аппетит у него в последнее время был зверский.
– А ты их хотел, детей? – ответила она сердито.
– Откуда же они тогда взялись, если не хотел?
– Не помнишь, да? Как переспал со мной по пьянке, не помнишь, как жениться тебя умоляла, не помнишь? УЗИ показало близнецов, и я поняла, что одной мне двоих детей не поднять. Пока прокурор не пригрозил, ты, Ванечка, ни в какую.
– Значит, я женился на тебе, когда ты забеременела?
– Раньше, Ваня, ты говорил, «по залету». Но ты мне всегда был нужен. Хоть такой, хоть ненадолго, хоть как…
– Не надо, не плачь.
– Я детей к родителям пока отправлю. Мать с отцом с апреля на даче живут, вот Головешки у них и побудут, пока мы с тобой… В общем, давай жить сначала, Ваня.
– Давай, – легко и охотно согласился он.
Ведь в доме было чисто, красиво, повсюду вышитые и вязаные салфеточки, цветы в горшках, от всех вещей веяло теплом. Красота в его жизни и раньше была, а вот уюта не хватало. Тепла не хватало. Не замечал, что ли, этого или не хотел замечать? А ведь женщина эта возилась с ним весь месяц, как с маленьким, и будет возиться до конца своих дней, что бы ни случилось. Вот она, значит, какая – любовь. Он нужен ей, этой Зое, любой. Нужен детям, просто они боятся привыкнуть к новому папе, который не убегает рано утром на работу, к полуночи возвращается, обедает вместе с ними и даже собирается дома ужинать и дома же ночевать.
– Ты на работу завтра пойдешь? – Она мыла посуду, ловко вытирала тарелки полотенцем, ставила в сушку.
– Да. Пойду. А где ты работаешь? – спросил он.
– В школе. Учительницей биологии.
– Биологии? – Что-то шевельнулось в душе. Учительница биологии в его жизни раньше была, это точно. Значит, она, Зоя.
– Ты не волнуйся: у меня каникулы начались. Остались только дежурства в школе. Но это недолго, до обеда. И не каждый день.
– Что ж. Значит, когда я приду с работы, ты будешь дома. Это хорошо.
Она вся вспыхнула, кивнула, засуетилась, прибираясь на кухне. Он сидел, смотрел на нее и невольно улыбался. Этот уютный домашний мирок пришелся по нему. В том, прежнем, было слишком просторно и пусто. Теперь же, когда все съежилось до размеров маленького городка и трехкомнатной чистенькой квартирки на втором этаже, он и сам весь как-то съежился и успокоился. Да, так проще. Надо переждать какое-то время. Просто успокоиться и переждать.
Вечер, ночь
Головешки прибежали с улицы, поели быстренько, до половины одиннадцатого смотрели телевизор, потом дисциплинированно улеглись в своей комнате спать. Он зашел, посмотрел. Кровать двухъярусная, сверху спит Маша, снизу Даша. Нет, не спят. Шушукались, когда он подходил к двери, когда открыл, затихли. Легли, натянули на нос одеяла.
Он подошел на цыпочках, сначала посмотрел вверх, потом вниз. Улыбнулся отчего-то. Совершенно же одинаковые! И хорошенькие какие!
– Спокойной ночи, – сказал он и поправил одеяла. Сначала Маше, потом Даше.
Когда выходил, обе, словно пушистые белочки, высунув из-под одеяла носы, смотрели на него внимательно и настороженно. И так же по-беличьи фыркнули и одинаково отвернулись к стене.
Эта Зоя посмотрела вопросительно и замялась:
– Ты где будешь спать?
– Как это где? В спальне.
Она обрадовалась, раскраснелась, побежала стелить и очень уж долго плескалась в ванной. Он лег первым, наволочка приятно пахла лавандой, одеяло оказалось не тонким и не толстым, в самый раз, как он любил. Слышал, как эта Зоя заглянула в соседнюю комнату, к Головешкам. Потом вошла и таинственно, каким-то особым голосом, сказала:
– Спят.
Легла она на краешек двуспальной кровати осторожно. Полежала немного, потом покосилась на него. Что-то ей было надо. Вспомнил: она женщина, он мужчина. Муж и жена. Развернулся к ней, посмотрел, неуверенно спросил.
– Зоя? Ты не спишь?
Она робко протянула руку, коснулась волос у него на груди:
– Можно?
– Как будто и не жена, – не удержался он. В конце концов, привык к ней за месяц. Хорошая женщина, правильно сказал лейтенант Майоров. Добрая. – Иди сюда, поближе, – позвал.
Целовала она его, как в последний раз. Как будто боялась, что следующую ночь он проведет в другом доме, в другой постели. И больше никогда не вернется. «Да, такие женщины мне никогда не нравились», – подумал он, ощупывая ее небольшое тело. Широкие бедра, грудь, потерявшая форму после долгого кормления близнецов. Ощущения незнакомые. Вот Леся – другое дело. Лесю он помнил. Но, в конце концов, с этим у него все в порядке. Никогда никаких проблем. Жалко, что ли?
– Подожди. Ты разве не наденешь?
Ах да. Кажется, эта Зоя сказала, что он не хотел детей. Что ж, не хотел так не хотел.
– В верхнем ящике, в тумбочке, – подсказала она.
Он послушно полез в тумбочку, зашуршал пакетиком, доставая презерватив. Жест, отработанный до автоматизма: вскрыть, дунуть, пальцами сжать пустой резиновый кончик, надеть. Она терпеливо ждала, а потом…
Он и не ожидал от нее такой страсти. Все сделала сама, как будто всю жизнь только этим и занималась: доказывала, что более надежной пристани, чем ее дом и ее тело, ему ни за что не найти. Что здесь ему никогда не позволят уставать, напрягаться, делать чрезмерные усилия. Он даже разозлился слегка. В конце концов, не мужчина он, что ли? Резким движением опрокинул ее на спину, оказался сверху. Вот так-то лучше. Даже азарт появился. Тело было ловким, сильным, он начинал его вспоминать. В конце концов забылся, перед глазами что-то вспыхнуло, голова закружилась, Зоя вскрикнула, он тоже захрипел, потом откинулся на подушку. Когда пришел в себя, увидел, что она счастлива. Лежит, улыбается.
– Что-то не так?
– Ванечка, милый…
Замолчали. Он догадался: что-то не так. Потом, когда пришел из душа и лег рядом, позволив ее голове уютно устроиться на плече, она все-таки решилась, зашептала быстро-быстро и горячо:
– Мне сначала было не по себе, когда я узнала. Муж память потерял! Ну как же это? Я любила тебя всегда. Как любила-то, Ванечка! Всю жизнь буду любить. Хоть и бросишь меня, все равно буду. Ты ж сколько со мной не спал? Даже в одной комнате, не то что в одной постели. Все злился на меня. За то, что жениться заставила. Ты был муж, который только зарплату жене отдает. Ничего нас больше не связывало. Чужие мы с тобой были, Ванечка. А теперь думаю… ты только не обижайся. Может, оно и лучше? Без памяти-то? А? Может, ты на меня теперь по-другому посмотришь? Ну чем я так уж плоха? Ведь никогошеньки у меня не было. Ни до тебя, ни после. Ты меня прости…
– Да за что?
Она замолчала, прижалась крепко, обняла так, как будто все еще боялась, что он оттолкнет. Но он уже привык к этой женщине. Он теперь быстро ко всему привыкал. И даже перестал про себя называть ее «эта Зоя». Зачем же? Просто Зоя. Жена.
День четвертый, утро
Утром пришлось, как было заранее решено, отправляться на работу в прокуратуру. «Здравствуйте». – «Здравствуйте» через шаг, оценивающие взгляды людей, якобы знакомых (он их никого не помнил), приветственные кивки. Маленький город, население двадцать тысяч, как случайно услышал он вчера по радио, все друг друга знают. Две школы, одна больница, та, где он лежал, один рынок, административное здание в центре. Все близко, все рядом. Зоя вела его под руку, ненавязчиво указывая дорогу. Довела до дверей, как маленькому ребенку слюнявчик, поправила на шее галстук:
– Ну, иди.
Он кивнул и шагнул вперед, набрав побольше воздуха в легкие. Ему было не по себе. Зоя осталась на улице, он же очутился в прохладе, в здании, обозначенном вывеской как «Районная прокуратура». В коридоре то и дело раздавалось:
– Здравствуйте, Иван Александрович, с выздоровлением!
– Иван Александрович, доброе утро!
– С возвращением, Иван Александрович!
Он кивал, отвечал, машинально шел по коридору, пока не споткнулся взглядом о свой кабинет с табличкой «…Иван Александрович Мукаев». Вошел. Огляделся в недоумении. Память ничего не подсказала. Что же делать? Сел за письменный стол, вновь огляделся, пожал плечами: кто-нибудь да придет. Подскажет.
Пришел мужчина в штатском. Волосы рыжеватые, глаза шальные, раскосые, крепкого коньячного цвета, на носу веснушки. С порога начал хохотать:
– Ваня, друг! Извини, что запанибрата! Ты ж и меня не помнишь! Смотри внимательней! Меня да не вспомнить! Такую выдающуюся личность! Скучал, честное слово! Скучал! Друг ты мой бесценный! Ну? Обнимемся, что ли?
А глаза холодные. Ограничились пожатием руки. Все равно обрадовался: ну, слава Создателю, у него есть хоть один друг! А то в этих бабах запутаться можно!
– …Ну, дела! Неделю тебя искали! – (Пауза, острый внимательный взгляд, до нутра, до печенок.) И резюме: – Теперь говорят у тебя амнéзия.
– Амнезия, – машинально поправил он ударение в последнем слове.
– Вот не знал, что удар по голове способствует выправлению грамотности! Это ж прямо научное открытие, в самом деле! – продолжал паясничать рыжий. – Хоть за диссертацию садись! Ну ты даешь!
– А что у меня с грамотностью?
– Что с грамотностью! Я тебе сейчас расскажу. Чай, в одном классе учились. Меня-то хоть признал? – Рыжеволосый по-прежнему смотрел на него холодно и словно прицениваясь. Профессионально смотрел. Как на допросе.
Он напрягся и вспомнил: Зоя показывала школьные фотографии. Попытался улыбнуться:
– Конечно, вспомнил. Вы – Руслан Свистунов.
– Оп-па! Амнéзия, точно. «Вы, Руслан!» В школе ты звал меня запросто: Свисток. Ничего, что я на «ты»? Все-таки друзья детства. Хотя ты следователь, а я – старший оперуполномоченный. Капитан, между прочим. При тебе. Выполняю указания. Не при погонах, извини, не подумал, что все так сильно запущено. Я твою болезнь имею в виду. Вспомнил? А как тебя в школе звали, вспомнил?
– Не очень. Если не трудно…
– Оп-па! Еще и вежливость проклюнулась! – (Опять долгий оценивающий взгляд.) – Тебя звали Мýка.
– Почему Мýка, не Мукá?
– А ты никогда не был хорошим и вежливым мальчиком. Хам, грубиян, нахал. Мучились с тобой, одним словом. Учителя, родители. Ты чуть что – в драку. Немало носов в детстве разбил. Тихим ты не был, нет… Если только теперь, после амнéзии.
– Амнезии.
– Ну да. А знаешь, что было, когда ты исчез? Вэри Вэл все внутренние органы района на ноги поднял! И наружные тоже! Ха-ха! Как же! Лучший следователь прокуратуры как в воду канул!
– Кто? – удивленно переспросил он. – Вэри Вэл?
– Владлен Илларионович. Ты же сам это придумал. Сократил имя-отчество, чтобы меж собой выговаривать было проще. Уж с чем с чем, а с чувством юмора… Точно: надо диссертацию писать… Когда прокурор просто благодушный, то ты называешь его Вэри Вэл. Что вроде бы по-английски означает «очень хорошо». Извини, я-то в языках не силен. А когда хозяин в отличном настроении, то он Вэри Вэри Вэл. Вспомнил?
– Разумеется. Но не очень.
– Тогда забираю авторство себе. Слушай, если ты это забыл, то, может, я еще кое-чем воспользуюсь? Присвою себе некие права, а?
– Ты о чем?
– О чем! О ком! Об Олесе!
И тут он впервые после болезни почувствовал это: сладкое бешенство. Волну, которая поднялась изнутри, захлестнула, подняла его высоко-высоко… Он встал из-за стола, свысока, с гребня этой волны, глянул на Свистунова так, что тот отшатнулся и невольно попятился. Потом капитан вдруг кинулся с объятиями:
– Мýка! Родной! Узнаю! Теперь это ты. Точно – ты. А то думаю: сидит холодный, красивый, как мрамор. И весь в разводах. Теперь ты. Узнаю, – с чувством сказал Свистунов. Потом добавил: – Ну, темперамент у тебя после амнезии восстановился, вижу. Всегда говорил, что бабам нравится не твоя смазливая физиономия, а темперамент. Темперамент в норме, а потенция?
Свистунов подмигнул. Он понял, что надо бы сострить, продолжить разговор с другом детства в такой же шутливой форме. Капитан этого и ждал. Но… Он сказал то, что посчитал в данной ситуации уместным:
– Это ты у Зои спроси.
Друг детства Свисток просто-таки глаза вытаращил. Кашлянул, словно поперхнулся, потом удивленно протянул:
– То-очно надо за диссертацию садиться. О влиянии удара по голове на характер человека. Нас всех надо как следует стукнуть! И непременно по голове! Авось и поумнеем! Надо же! Большой Хэ Иван Мукаев посылает справиться насчет своей потенции у жены Зои!
– А у кого?
– Раньше ты назвал бы мне с десяток фамилий и адресов! Это не считая Леси. У тебя ж, Ваня, кровь все время кипела.
И вот тут он что-то вспомнил. Конечно, их, то есть женщин, было в его жизни много! Перед глазами почему-то закружилось колесо рулетки, мелькнула блондинка в красном, брюнетка в черном, и тут же вспомнились приторные духи, кожаные сиденья в черном «Мерседесе», и под конец нежные женские пальчики на губах. «Ми-илый… Как хорошо!»
– А ты не допускаешь мысли, что мне это просто-напросто надоело?
– Тебе? Надоело?! Ха-ха! Может, и Леся надоела? – подмигнул Свистунов. – Тогда уступи, а? Я не гордый, мне и секонд-хенд сойдет.
Леся – «секонд-хенд»?!! И тут он почувствовал, как сладкое бешенство подступило уже к самому горлу. Пузырь, в который оно было заключено, вдруг лопнул. Никто не смеет обсуждать его женщин! Его с ними отношения. Никто. Никогда. Он сжал кулаки и отчеканил:
– Это мой кабинет. Я в нем работаю. Вы, будьте так любезны, приходите сюда по делу. А сейчас я занят, извините. Будьте любезны выйти. Вон.
На что Руслан Свистунов недобро прищурился:
– Ладно. Я уже понял, что ты вернулся. Друг мой, враг мой. Я думал: конец Ивану Мукаеву, Большому Хэ. Если честно, Ваня, я знаешь чему удивляюсь?
– Чему? – Он взял себя в руки, мысленно воссоздал вокруг кипевшей в нем злобы прежнюю оболочку и затолкал этот пузырь внутрь, поглубже. На самое дно души. Не стоит так скоро выдавать себя. Нет, не стоит.
– Тому, что тебя еще не пристрелили. Ограничились ударом по голове. И вот ты стоишь передо мной живой, здоровый. Память только потерял, ну это пустяк. Главное, что ты жив, – недобро сказал Свистунов. – А пришел я к тебе по делу. Дружеская часть беседы закончена, пошел официоз. Старший оперуполномоченный по особо тяжким преступлениям против личности Свистунов Руслан Олегович к следователю прокуратуры Мукаеву Ивану Александровичу. Разрешите?
– Слушаю вас.
Так ему было значительно легче. Оставался невыясненным один вопрос: черный «Мерседес». Руслан Свистунов не только друг детства. Он старший оперуполномоченный, капитан полиции. И, глядя в его лихие глаза коньячного цвета, следователь Мукаев негромко спросил:
– Как другу детства последний вопрос можно?
– Разумеется, – Свистунов тоже успокоился. Лихорадка прошла, обмен «любезностями» закончился, они начали друг к другу притираться. – Спрашивай… те.
– Я брал взятки?
Свистунов даже поперхнулся от неожиданности:
– Оказывается, хороший удар по голове способствует не только выправлению грамотности и проявлению вежливости, но и честность вдруг просыпается. Где ж ты раньше был, друг Ваня? Знаешь, я на ком-нибудь попробую. Обязательно. А насчет тебя, Мука… Мукаев. Как говорят: не пойман – не вор.
И он догадался, что вопрос со взятками остается открытым. Какие же надо было брать взятки, чтобы купить такую машину? И у кого брать?
– Ну хорошо. Раз я этого не помню, значит, не брал. Давайте к делу. Мы с вами расследовали это преступление вместе?
– Какое преступление?
– Об убийствах. Серийных, так, кажется, у вас говорят?
– Именно. У нас так говорят.
Свистунов ловко ухватился за старое кресло, пододвинул к столу, сел, ладони упер в колени и задумчиво сказал:
– Только видишь ли, какое дело… Давай все-таки на «ты»? – Согласный кивок: ладно. – Дело в том, что сначала мы действительно работали вместе. Ты делал свое дело, я свое. Я ноги, ты голова. Я должен бегать, улики собирать, раскрывать преступление, ты – допрашивать свидетелей и подозреваемых, сопоставлять факты, вести уголовное дело, чтобы в итоге его закрыть и направить в суд. Но после того как полгода назад обнаружили очередной труп, последний в списке, ты вдруг замкнулся в себе. И бумаги стал от меня прятать. Ни слова больше я не прочитал, хотя раньше мы друг другу доверяли.
– Почему?
– А вот этого я, друг детства, не знаю. Но мою оперативно-розыскную работу ты, следователь Иван Мукаев, вдруг взялся выполнять сам. Ездил по району, по тем местам, где нашли трупы, расспрашивал людей и что-то там себе думал.
– А завод? Подпольное производство водки?
– Это мы вместе. Ты очертил район, в котором, как предполагал, он находится, заводик этот. Район называется Нахаловкой. Это частный сектор, особнячки там стоят, дай боже! Вот в подвале (судя по всему) одного из особняков в Нахаловке и разливают эту дрянь по бутылкам, шлепают этикетки, акцизные марки и отправляют ящиками по всей области. Ночами, должно быть, вывозят. Тайно.
– Почему именно там? В Нахаловке?
– А это ты так решил. Ходил там с неделю перед тем, как исчезнуть, всех расспрашивал, выслеживал, в засаде ночами сидел.
– А ты?
– Я? Хочешь сказать, это мое дело выслеживать по ночам, откуда вывозят ящиками паленую водку? Из какого дома? Правильно, мое. Только я, Ваня, женатый человек, если ты сейчас этого не помнишь, то раньше знал. По-настоящему женатый. И моя жена справедливо полагала, что если друг детства Иван Мукаев зовет ее мужа ночью сидеть в Нахаловке в засаде, то это значит только одно: пьянку и женщин. Я не мог доказать обратное. Я не знаю, машину ты караулил по ночам или лазил в окна к неверным женам, но я с тобой не ходил. Да ты и не настаивал. А насчет заводика… Должно быть, ты его нашел. Какой дом, не припомнишь?
– Припомню. Обязательно. Я уверен, что память вернется. Только давай сейчас поговорим о другом. Об этих десяти трупах.
– Дело в сейфе, – спокойно сказал Свистунов. И посмотрел на него с интересом. Иван понял этот взгляд: неужели покажешь? И так же спокойно ответил:
– Покажу.
И загремел замком.
Полдень
Едва открыв папку, он почувствовал себя странно. Он так и не понял, а главное, не вспомнил, почему, отстранив Руслана Свистунова, стал заниматься делом о серийном убийце в одиночку. Но зато понял другое. Разложив перед собой фотографии, почувствовал вдруг головокружение и подступающую к горлу тошноту.
Не было никаких сомнений в том, что он все это уже видел и раньше. До боли знакомые, много раз пропущенные через себя детали: исколотые ножами тела, искаженные до неузнаваемости лица жертв, которые он, без сомнения, когда-то уже видел. Именно такими. И безобразные подробности истерзанной плоти: «…десять проникающих ранений грудной клетки спереди – справа и слева, повреждены сердце, сердечная сумка, аорта, легкие, легочная артерия…» Да, он думал об этом много и долго. Думал и размышлял: почему? Зачем?
– Ну что? – напряженно спросил капитан Свистунов. – Что-нибудь прояснилось?
– Не знаю. Но я видел это, – с уверенностью сказал он.
– Конечно, видел. Мы вместе выезжали на место происшествия. Я ползал, разыскивая улики, а ты заполнял в это время протокол. Разреши, я взгляну?
– Да, конечно.
Свистунов развернул пухлую папку к себе, на сто восемьдесят градусов. Сделался вдруг нервным, начал листать, морщиться, оттягивать ворот рубашки, словно тот его душил, сковывал движения и был собачьим ошейником, никак не воротником.
– Ты спросил, Ваня: «Не брал ли я взятки». А я ответил: «Не пойман, не вор». Так вот, Иван Александрович: я понятия не имею, почему ты не посвящал меня в подробности своего расследования. Потому что ничего такого, чего бы я не знал раньше, здесь нет. Ты понимаешь?
– Нет.
– А я думаю, что последние несколько листов в папке просто-напросто отсутствуют. Вырваны, изъяты.
– Как это?
– А так. Ты изъял их отсюда, Ваня. И где ж они теперь?
– Не знаю.
– Дома? Порвал? Сжег? Я хочу знать, где они?
– Клянусь тебе: не помню!
– Тебе заплатили? Кто заплатил? Как другу скажи, я ж никому… Все понимаю.
– Да не знаю я ничего! Я полжизни бы отдал, чтобы хоть что-нибудь в голове прояснилось! Но – не могу! Ты пойми, Свисток: не могу!
– Я видел, как ты уезжал в тот день, – сказал ему вдруг Свистунов. – И видел на чем.
«Мерседес»?!! Неужели он видел черный «Мерседес»?!! Нет!!!
– Следил за мной? Ты за мной следил?! – Спокойнее, туда его, внутрь, этот пузырь.
– Ну что ты, Ваня! Как можно? Присматривался. Последние дни внимательно к тебе присматривался. Машину свою ты из гаража не стал выводить. Выйдя на трассу, поднял руку, проголосовал, поймал частника и поехал.
– Куда?
– В сторону Горетовки.
– Горетовка? Что это Горетовка? – Вспышка перед глазами, и что-то мокрое, теплое разлилось внутри, во рту стало солоно. Вкус крови, похоже, он прокусил щеку. Невольно. Горетовка… До боли знакомое.
– Большой поселок на границе нашего района с соседним, километрах в тридцати отсюда. Там нашли первый труп. Восемнадцать лет назад. Вспоминаешь?
– Женский, – прошептал он.
– Ну да. Женский. Вообще, Ваня, странный тип наш серийный маньяк, и понять его очень даже непросто. На первый взгляд кто под горячую руку попал, того и истыкал ножом. Причем выбирает какой-то отстой. Та, первая, была всем известная б… Пила по-черному. И поначалу подумали, что ей очередной хахаль ножичком животик почесал. Всю Горетовку перетрясли. Задержали товарища. «Да, – говорит, – пили. Вместе пили. Больше ничего не помню». Ну его и посадили. Бытовуха. Дело-то житейское. Перепились, подрались. Никто ничего не помнит. Два года тихо было. Ты соображаешь, Ваня? Два года!
– А потом?
– Через два года осенью нашли еще один труп. На этот раз мужской. Алкаш из местных.
– Тоже из Горетовки?
– Именно. Собутыльник той бабы, что стала первой жертвой. Но на этом все. В Горетовке – все. Через год нашли труп километрах в трех, в Елях, потом в десяти в Богачах, потом… В общем, в окрестных деревнях, а один здесь, в Р-ске. В городе.
– Дальше.
– А дальше все. Прошло ни много ни мало десять лет. Тишь да гладь, божья благодать. Вэри Вэл совсем было успокоился, стареть начал, добреть. Папка в архиве пылью покрылась. Тебя пригрел, лелеять стал. У тебя ж, Ваня, талант. Все грамотно, правильно, четко, бандиты, как дети, высунув языки, чистосердечные признания пишут. Ты у Цыпина в любимчиках ходил. И, заметь, Ваня, заслуженно!
– Но я ж, говорят, пил!
– Пил, но никогда не напивался. Иной раз невозможно было догадаться, пьяный ты или трезвый. Разве по запаху. Поллитровая бутылка водки в сейфе у тебя всегда стояла, факт. Но алкоголиком тебя назвать… Нет, Ваня. Ты глушил странную, непонятную тоску в себе. Черную тоску. Недаром тебя прозвали Мукой. Что-то тебя за душу тянуло. Но что? Никому ты про себя всей правды не говорил. Даже со мной, лучшим другом, не откровенничал. Вот и поди, отыщи ее теперь, правду эту, – и Свистунов тяжело вздохнул.
– Когда прошло десять лет, что случилось?
– Два года назад нашли еще один труп. Снова в городе. На этот раз тоже женщина легкого поведения. Следователь, на котором висело дело, со страху ушел на пенсию, и оно попало к тебе. Ты взял. А потом нашли еще три трупа с разницей в полгода.
– Раньше, значит, был раз в год.
– А болезнь, Ваня, с годами прогрессирует. Сезонно обостряется. Осень и весна – вот когда у них кризис. У психов тире маньяков.
– Значит, последний труп нашли этой осенью?
– Ну да. Вспомнил?
Он вспомнил: деревня. Да, именно деревня. Под ногами жидкая глина ржавого цвета, листья еще цепляются за ветки деревьев, но края их съела все та же противная ржа. Еще чуть-чуть, и они осыплются в грязь, где вскоре сгниют. А потом все это покроет белый чистый снег. Тоска, смутная, непонятная тоска. Идет дождь, все время дождь. Небо стальное, над землей нависли тучи, солнца нет так долго, что кажется, будто на земле навеки наступила ночь. И в этой ночи, в киселе густого тумана, смутные очертания человека. Кто-то кого-то ищет. Так и хочется стряхнуть с себя этот туман, такой он липкий. Стряхнуть и вымыть руки.
Потом он вспомнил тело, лежавшее в грязи. Холодно и мокро. Склизко. А дождь все хлещет и хлещет. Какие уж тут следы! Все смыто к черту! И кровь тоже. Мерзкое ощущение, и название у деревни подходящее.
– Ржаксы, – еле выдавил он. – Деревня Ржаксы.
– Слава тебе, Господи! – с чувством сказал друг детства Руслан и откинулся на спинку кресла, расслабился. Потом спросил: – Закурим, что ли? Память возвращается, это дело надо перекурить.
– Я не курю, – машинально ответил он, глянув на пачку «Явы».
– Вот как? Ну что ж. А я закурю. Дым не помешает?
– Нет.
Пока Свистунов прикуривал и с наслаждением затягивался сигаретой, Иван встал и прошелся взад-вперед по кабинету, разминая затекшие ноги. В это время в дверь сунулся молодой человек в мешковатом костюме, с любопытством взглянул на них, спросил:
– Разрешите?
– Да, конечно, – кивнул следователь Мукаев. Парень вошел, остановился у кресла, где сидел Свистунов.
– Вот и наша цветущая юность, практикант Алеша Мацевич, – представил того. – Ты, Алеша, не стесняйся. Чего хочешь? Чаю? Кофе? Попрошайничать пришел? – Он, следователь Мукаев, сообразил, что Руслан взглядом указывает на стол, на открытое дело. Тут же захлопнул папку, отодвинул в сторону. Алеша обиделся и пожаловался:
– Вы меня всегда высмеиваете, Руслан Олегович, а я, между прочим, к вам с дарами.
– Бойся даров, которые от данайцев, так, что ли? Или от нанайцев? – подмигнул Свистунов. Глаза у Мацевича были темные, раскосые. – Чего надо?
– Абсолютно ничего, – заторопился Алеша, тайком разглядывая следователя Мукаева.
– Значит, простое человеческое любопытство. Коллектив прислал. Ну и как тебе следователь Мукаев? Вполне?
– Иван Александрович, вы выздоровели? И все вспомнили, да?
Он не знал, что ответить. Помог Свистунов:
– Давай презент и чеши с отчетом к коллективу. Мол, Мукаев полностью здоров, соответствует и готов снова тянуть лямку и повышать показатели районной прокуратуры, дневать и ночевать на работе, прикрывая вас, бездельников и тунеядцев.
Мацевич хмыкнул, но не обиделся. Достал из кармана пачку дорогих импортных сигарет, положил на стол:
– Вот. Мне подарили, а я не курю. И девушка моя не курит. Возьмите, Иван Александрович.
– А Иван Александрович тоже больше не курит, а раньше всем сигаретам предпочитал явскую «Яву».
– Так я ж помню. Может, знакомые ихние дорогие сигареты курят?
– Какие такие ихние? – прищурился Свистунов. – Эх ты, нанаец! Сейчас тебе следователь Мукаев грамотность-то выправит! Он теперь это может! Ты женщин имеешь в виду? Так? Сигаретками-то слабенькими да с ментолом только девки балуются. А ты их следователю принес!
Глаза у Мацевича забегали.
– Да ничего я не имею в виду. Просто зашел.
– Ах, Алеша, Алеша, – погрозил пальцем Руслан. – Будет тебе практика засчитана, будет. Хоть и не понял ты в следовательской работе ни черта. Что, Иван Александрович, взятку возьмешь?
Он уже несколько минут пристально смотрел на пачку сигарет, лежащую на столе, не слушая, что они говорят. Это казалось таким же знакомым, как Горетовка. Это было в его жизни и раньше, вне всякого сомнения.
– Да-да, – сказал Иван рассеянно, подошел к столу, взял пачку, машинально распечатал, открыл.
То, что он сделал потом, произвело на присутствующих в кабинете сильное впечатление. Следователь прокуратуры Мукаев вытащил из пачки длинную тонкую сигарету, взял со стола зажигалку Свистунова, красиво прикурил, сделал изящнейший разворот, точно и бесшумно опустился в кресло, обтянутое искусственной кожей, закинул ногу на ногу, затянулся, и на его лице появилась тонкая светская улыбка. В полном молчании он сидел с минуту в такой позе и курил, покачивая носком ботинка. Это его. Холодок ментола во рту, томная поза, изящно отставленный мизинец. Раздражали ботинки и открывшиеся взору из-под задравшихся брюк носки. Он не мог купить такие носки. И она не могла. Женщина, из-за которой к горлу подступало сладкое бешенство.
Друг детства вдруг вскочил, подошел со спины, положив руки на его плечи, надавил: сиди так и сиди. Потом нагнулся к самому уху и тихо, чтобы не слышал Мацевич, прошептал:
– Ты кто? А? Скажи мне правду: ты кто?
Он глубоко затянулся и ровно, спокойно ответил:
– Я следователь прокуратуры Иван Александрович Мукаев, тридцати пяти лет, проживаю с женой Зоей и двумя детьми по адресу…
Свистунов, обрывая его, расхохотался, всплеснул руками, возбужденно заговорил:
– Это шутка?! Да?! Шутка?! Ха-ха! Ну ты даешь! Мацевич, это же шутка! Пойди всем расскажи, следователь Мукаев опять шутит! Он вернулся! Ха-ха! Весело! Да?! Ха-ха!
Иван тоже улыбнулся, затушил сигарету в массивной пепельнице, медленно поднялся из кресла.
– Мацевич, выйдем на пять минут, – позвал Алешу Свистунов и направился к двери. Обернулся на пороге со словами: – Вернусь, и мы, Ваня, договорим.
После чего закрыл за собой дверь. Когда эти двое вышли, он с новой длинной сигаретой в руке подошел к большому зеркалу, висевшему на одной из стен кабинета. Зачем-то ему, Мукаеву, нужно было иметь здесь зеркало. Быть может, так нравилось собственное лицо? Он ничего этого не помнил. Ни кабинета, ни зеркала. Надо бы спросить, когда повесили, и он ли, следователь Мукаев, об этом попросил. Было ощущение, что перед зеркалом он часто отрабатывал такие вот изящные движения, которые только что продемонстрировал Свистку и практиканту. И при этом любовался собой. Но когда? Зачем? И здесь ли это было?
Он тронул волосы, потом губы, нос. С лицом все в полном порядке. Но костюм сидит не так. Он понял, что это плохой костюм, дешевый. Уже не с чужого плеча, с размером и ростом все в полном порядке, но все равно одежда не его.
Что же такое с ним происходит?! Раздвоение личности?! Еще поговори сам с собой! Человек, который раньше вел двойную жизнь! До того, как его ударили по голове! Теперь один Иван Мукаев исчез, растворился, а другой остался. Тот, что покуривал дамские сигаретки с ментолом, ездил на черном «Мерседесе», играл по ночам в рулетку и носил дорогой, отлично сшитый костюм. Что это за человек и откуда у него были на это деньги?
– Ванечка, ты здесь?
Она заглянула в кабинет, улыбнулась ярким ртом и цвета волны морской глазами, терпкий аромат духов расправился мигом и с сизым облачком сигаретного дыма, и со стойким запахом слежавшихся от долгого хранения бумаг. Теперь здесь пахло только ее духами, он даже задохнулся. И начал вспоминать запахи. Она вошла в кабинет, прикрыла дверь, но остановилась у порога, не приближаясь к нему. Стояла, смотрела, улыбалась, глаза играли.
– Здравствуй, Ванечка!
– Ты?! Откуда?!
– Вообще-то я здесь работаю, – Леся кокетливо повела плечом, показала ему всю свою стройную, обтянутую трикотажем фигурку. – Секретарем.
– А-а-а…
– Тебя Варивэл зовет, – шутливое прозвище Цыпина Леся произносила слитно и почему-то, заменив «э» на «а».
– Да. Иду.
Тот же холодок ползет по спине, что и при первой встрече с прокурором. Да что ж это такое? Чего он так боится? Цыпин был с ним ласков, сказал, будто опекает уже десять лет, обещал помощь и поддержку. Откуда же страх и неприязнь к прокурору у следователя Мукаева?
Поправил галстук, швырнул на стол сигарету, которую так и не закурил, и нехотя направился-таки к двери. Задержала его Леся. Прижавшись к нему грудью, шепнула в ухо, словно обожгла:
– Когда?
– Что когда? – Он думал только о Цыпине.
– Брось шутить. Мне не до шуток. Когда придешь?
– После.
– Да? А придешь? Не обманешь? – Она отстранилась, но тут же схватила его за руку, не давая открыть дверь. – А говорят, вы с Зоей под ручку по городу ходите, воркуете, словно два голубка? Так?
– Когда ходим? И куда?
– Да все уже знают, – прошипела Леся. Вильнула гибким телом, словно змея. Вся обтянутая блестящим трикотажем, похожим на змеиную кожу. – Видели, как вы из больницы шли и сегодня вела тебя до прокуратуры. Да что ж ты, Ванечка, так ко мне переменился? Что случилось, Мукаев? А Ну отвечай!
Он вспомнил о «Мерседесе», о сигаретах с ментолом. Это не его сигареты, он и в самом деле не курит. Но иногда попадаются под руку. Если он и вел двойную жизнь, то ту, красивую, должно быть, с ней, с Лесей. А с кем же еще? Очень красивая женщина и, без сомнения, дорогая. Наверное, он тратил на нее много денег. Леся должна все знать. И про взятки.
– Я зайду, – еле выдавил он. – Обязательно зайду. Сегодня. Вечером.
– Так я жду. Все хочу сказать тебе… Нет, погоди. Люблю тебя, – Леся скользнула губами по его щеке, сама открыла дверь, пропела: – Иван Александрович, я вас провожу.
Свистунов, стоящий в коридоре у окна, соединил их взглядом и нахмурился. Похоже, капитан ревновал. А как же жена? Если ему так нравится Леся, мог бы жениться на ней. Кто ж мешал?
– Тебя здесь подождать, Иван Александрович? – прищурившись, спросил друг детства. – В коридоре?
Он вдруг сообразил: следует закрыть кабинет.
– Да, конечно. Мы не договорили.
Вернулся за ключом и, запирая дверь, заметил неприятную усмешку Свистунова, который прокомментировал:
– Память возвращается, да? Что ж, в этом есть и положительные моменты и отрицательные. Ладно, поглядим, каких окажется больше…
Цыпин встретил его, словно родного сына, вернувшегося из дальних странствий: крепкими отцовскими объятиями.
– Рад, Ваня. Честное слово, рад. Ну, что скажешь?
– Я с самого утра просматриваю дело. С Русланом Свистуновым. Все пытаюсь вспомнить.
– Вот оно как! Это хорошо, это правильно. что помирились. А то как черная кошка между вами пробежала. Если бы женщина, оно понятно. Но женщину вы давно уже поделили. Я все думал: в чем дело?
– Он стал меня в чем-то подозревать?
– Скорее ты его. Ты к сердцу-то, Ваня, близко не принимай. Не стоит. И это пройдет. Экклезиаст говорил. Я вот смотрю сейчас на тебя и думаю: понял. Все пройдет. К чему горячился? Зачем со всеми конфликтовал? Последнее время как с цепи сорвался. Я тебя, Ваня, не узнавал. Что случилось?
– Не помню.
– Но вижу: ты успокоился. Вот и славно, вот и хорошо.
– Вэри Вэл, – не удержался он. Цыпин гулко рассмеялся, как в бочку ухнул, погрозил пальцем:
– Ох, Ваня! Люблю я тебя. Хоть и язва ты, но – люблю. Но к делу. Так что там с делом о серийных убийствах? – сразу стал серьезным прокурор.
– Я думаю, надо начать все сначала, Владлен Илларионович. Я вспомнил два названия: Горетовку и Ржаксы.
– Уже хорошо.
– Думаю, что со временем в памяти всплывет и остальное. Мне надо только съездить в те места. Осмотреться. С людьми поговорить.
– Вот-вот. Съездить, поставить следственный эксперимент. С подозреваемым.
– С каким подозреваемым?
– Как же, Ваня? Сидит у нас в СИЗО товарищ, тебя дожидается. Взяли его в Ржаксах.
– Да. Что-то припоминаю. Кто-то кого-то выслеживал. В тумане.
– Ты, Иван. Мужика-то этого ты в наручниках в прокуратуру привел, не Свистунов. И лично его допрашивал. Без свидетелей.
– Зачем же я тогда поехал в Горетовку? Перед тем как исчезнуть? Раз преступника уже задержал?
Цыпин тяжело вздохнул:
– Должно быть, за доказательствами. Кто ж тебя знает… И еще, Ваня. Неудобно об этом, но… Где пистолет?
– Какой пистолет? – Он невольно вздрогнул.
– За тобой числится пистолет. Табельный, «макаров». Любил ты, Ваня, это дело. Оружие, говорю, любил. А ведь не положено по городу ходить с заряженным пистолетом. Ты мужика того ведь под дулом «макарова» сюда в прокуратуру привел. Скажи мне: где оружие? За тебя же и опасаюсь. Вдруг ты не помнишь, как с ним обращаться? Наломаешь дров, а мне отвечать.
– Может, он здесь, на работе, в ящике стола? Или в сейфе?
– Нет, Ваня. Его там нет. Мы смотрели. В твоем кабинете оружия нет. Ты, должно быть, его с собой взял, когда в Горетовку поехал. – Цыпин вновь тяжело вздохнул. – Ну, это ладно. Не помнишь так не помнишь. В розыск объявим. Тут понятно: ударили по голове, забрали оружие, опоили. Ты опиши все, как было. А докладную мне на стол. Ладушки?
– Да.
– Вот и хорошо. О пистолетике, значит, так себе и пометим. Ну а как насчет заводика подпольного?
Цыпин так и говорил: «заводик», «пистолетик», добавляя к грозным словам уменьшительно-ласкательные суффиксы. Словно хотел уменьшить насколько возможно возникшие у него, Мукаева, серьезные проблемы. С «заводиком» и «пистолетиком». По городу ведь гуляло табельное оружие следователя Мукаева. А паленой водкой травились во всем районе.
– Вспомню, – пообещал он. – Мне надо в Нахаловку сходить.
– Только одного я тебя туда не пущу, – жестко сказал Цыпин. – Хватит самодеятельности. Пусть все теперь будет по закону. Кому положено, тот и ноги в руки. А ты за спинами широкими затаись. Пусти вперед себя охрану. Мозги, Ваня, надо беречь.
– Хорошо. Я со Свистуновым пойду.
Цыпин обрадовался:
– Ну вот и славно. Вы с Русланом молодцы, что помирились. Теперь все у нас будет хорошо.
– Да, конечно. Я пойду, Владлен Илларионович?
– В гости-то зайдешь как-нибудь? Вечерком?
– А это удобно?
– Ну-ну. Так, значит. Закурю, пожалуй, – Цыпин полез в ящик стола, долго копался там, отыскивая сигареты. Когда Владлен Илларионович распрямился, взгляд его был усталым и обиженным, морщины на лице углубились. Цыпин смотрел на Ваню Мукаева так, словно его, старика, обманули.
Он понял этот взгляд:
«Кто ты теперь? Кто?! И нужен ты нам такой?!»
Вечер
Из прокуратуры они возвращались вместе со Свистуновым. Шли не спеша, Руслан говорил без умолку, рассказывал о том, что произошло во время недельного отсутствия и долгой болезни друга в прокуратуре и в городе. А Иван молчал, потому что чувствовал себя неловко. Веселость Свистунова казалась наигранной, шутки плоскими. Дружбы у них не получалось. Интуиция подсказывала, что возвращение следователя Мукаева капитан воспринял как личную трагедию.
Он не мог вспомнить, всегда они с Русланом были в таком соперничестве или это началось недавно, из-за Олеси.
– Она тебе отказала, да? – спросил он в упор у Свистунова.
– Кто?
– Леся?
– Откуда ты это… – Сглотнул и сказал сдавленно: – Я женат уже три года. Три! На замечательной женщине. На молодой, хорошенькой женщине двадцати четырех лет. А Лесе твоей за тридцать перевалило. В девках она засиделась.
– При чем здесь возраст?
– Ну надо же мне что-то сказать! – разозлился Руслан.
– А давно мы с Лесей… встречаемся?
– Твою мать!.. – Свистунов достал сигареты, прикурил одну, затянулся глубоко, бросил на землю, достал другую, снова прикурил, затянулся. – Пошел бы ты, Мукаев на х…! Со своей потерянной памятью! Неужели надо все сначала? Я забыл все, ты понял? Забыл. У меня тоже амнезия. Точка. У меня ребенок скоро родится. Я уже три года пытаюсь вести нормальную человеческую жизнь. Три года. А ты лезешь в старую рану. Причем грязными руками ковыряешь ее и при этом невинно заглядываешь мне в глаза: «Не знаю, не помню, давно ли мы с Лесей встречаемся…» Встречаемся… О черт!
Руслан достал еще одну сигарету, прикурил, бросил.
– Курить вредно, – машинально заметил Иван.
– Что?
– Нет, ничего. Извини, если я не то сказал.
– Иди ты на х… со своими извинениями, – опять грубо ответил Руслан и глубоко затянулся.
Они проходили мимо школы номер один, как было обозначено на вывеске. Кажется, Зоя говорила, что они трое учились в одном классе в школе номер один. Он, Ваня Мукаев, Руслан Свистунов и сама Зоя. Здание школы не показалось ему знакомым. Что ж, должно быть, воспоминания о детстве, о юности стерлись из памяти совсем. А ведь он бегал сюда с семи лет с ранцем за спиной, потом с модным тогда «дипломатом», довольный, веселый, потому что учиться было легко. Он вспомнил вдруг и о ранце, и о «дипломате» и про то, что учиться было легко. А вот здание это совсем не помнил.
– Напрямик? Срежем? – спросил Руслан, немного успокоившись.
– Да, конечно.
Они пошли через спортивную площадку возле школы. Услышав азартные крики пацанов и звонкие удары по волейбольному мячу, он невольно улыбнулся. Это знакомо: едкий запах пота, кожаного мяча, азарт игры, пьянящее ощущение собственной ловкости и силы. Да, спортивная площадка – это тоже его.
– А где мы занимались спортом, Руслан? – спросил он.
– Каким спортом? Литрболом, что ли? Где придется. У тебя в гараже, у меня в кабинете, у Леси. Иногда.
– Нет, я не про то. Волейбол, теннис, бассейн.
– Ваня, откуда в Р-ске бассейн? Опомнись! Ну, в сауну с мужиками иногда ходили.
– А корт? Теннисный корт? Где у нас теннисный корт?
– Совсем с головкой плохо. Бо-бо, да? Конечно, в школе ты со спортом был в ладах. Девочки визжали от восторга, когда ты подпрыгивал над сеткой и вколачивал мяч в волейбольную площадку. Это ты любил. Но, Ваня… Когда ж это было? Думаю, сейчас ты и трех раз подтянуться не сможешь. А говоришь – теннис.
В ответ Иван изящным движением скинул с плеч пиджак, бросил его на руки Руслану, уверенно подошел к турнику, подпрыгнул, крепко обхватил нагретое солнцем железо, без особых усилий подтянулся семь раз, но потом вдруг почувствовал усталость. Восьмой и девятый раз себя заставил, в десятый скрипнул зубами, но подтянулся все-таки, спрыгнул с турника, вернулся к Руслану и, приняв пиджак, с сожалением сказал:
– Да, ты прав. Потерял форму за этот месяц.
– Потерял форму?! Ты меня удивляешь! Откуда?!
– Что откуда?
– Стрелял ты классно, признаю. И любил пострелять. Но у турника я тебя со школы не видел. Клянусь!
– Это плохо. Спортом заниматься надо. Чтобы много и хорошо работать, нужно быть в форме, – наставительно сказал он.
Настроение ненадолго испортилось. Он был собой недоволен. Никак нельзя сейчас терять форму. Кто знает, что это будет за война и с кем? По голове его ударили, явно застав врасплох. Он был уверен, что случись драка, сколько бы их ни было, голову он им не подставил бы. Это был бы последний, завершающий удар – по голове. Но тогда на его теле остались бы многочисленные кровоподтеки, да и парочка костей оказалась бы сломана. Значит, бил человек, которому он доверял, и в момент, когда он этого не опасался. Надо тренировать реакцию. Сила и ловкость есть, а реакция слабовата, раз по голове получил. Интересно чем? Бутылкой, что ли? Как так получилось? И где?
– Ты домой? – поинтересовался Свистунов, оставив его замечание о пользе спорта без всякого внимания. Они проходили мимо новенькой пятиэтажки, стоящей метрах в десяти за оградой спортивной площадки, на пустыре. – И даже не зайдешь?
– Куда?
– Брось! Забыть ты мог все, но не такую женщину. Она живет здесь.
– Леся?
– Ну да. Первый подъезд, второй этаж, квартира номер пять. Вспомнил?
– Да. Конечно, – соврал он.
– Еще бы! Она уже дома. С работы пораньше ушла. Из-за тебя, наверное, – усмехнулся Свистунов. – Причесаться, подкраситься, стол к ужину накрыть.
– Откуда ты знаешь?
– Про ужин?
– Про то, что раньше ушла?
– Эх ты, Мука! Я же сыщик! Мне и соринки достаточно, чтобы выстроить логическую цепочку. Как она на тебя смотрела сегодня в коридоре! Эти глаза говорили: «Я жду». Какие у нее глаза! – с чувством сказал Руслан. – Это ж не глаза, а поэма! Разве можно отказать, когда она так смотрит? А после того, как ты от Вэри Вэла вышел, порхнула в кабинет к нему, как птичка, и такое у нее было при этом лицо… Сияющее. Оно у нее всегда сияющее, потому что кожа белая, как снег, но в такие моменты особенно. Когда ждет. Она была там ровно пять минут. Отпрашивалась, чтобы уйти пораньше с работы, не иначе.
– Ты считал? И вообще: откуда ты знаешь о пяти минутах? Мы ж с тобой в кабинете заперлись!
– Сказали.
– Ты что, за ней следишь?
Руслан молчал.
– У вас с ней что-то было. Может быть, я… Увел, да? Девушку у тебя увел? Скажи, я знал, что делаю тебе больно, или не знал?
– Да иди ты на х…!
Руслан Свистунов швырнул на землю скомканную пачку, в которой оставалось еще несколько сигарет, развернулся резко и широко зашагал прочь. Иван прислушался: почему-то пузырь, в котором были заключены его ярость и сладкое бешенство, в груди не поднимался. Толкнулся пару раз о ребра, закачался, так что его слегка замутило, и повис. Ответить на грубость лучшего друга не хотелось. Он признал свою вину. Следователь Мукаев не должен был так поступать.
…Леся открыла дверь сразу, как только он позвонил. И в самом деле ждала. Руслан оказался прав: отпросилась пораньше с работы, приготовила ужин, собрала на стол, подкрасилась, принарядилась. Прижалась крепко еще в прихожей, просительно заглянула в глаза:
– Ночевать останешься?
Он вспомнил, что детей жена Зоя сегодня утром отвезла за город к своим родителям. Перед ними не будет неловко и стыдно, если он не явится домой ночевать. Но Зоя… Она сейчас в пустой квартире одна. Тоже приготовила ужин, накрыла на стол. Ждет.
– Не знаю. Там Зоя. Дома.
– Что-о?
Она разжала руки, отшатнулась. Воспользовавшись моментом, он, не разуваясь, прошел в единственную комнату, снял пиджак, аккуратно повесил на спинку стула. Было душно. Леся сердито загремела тарелками, бросила:
– Садись, поешь.
Он послушно сел за стол. Леся принесла из холодильника бутылку водки:
– Ну?
Взял со стола рюмку емкости не маленькой, повертел ее в руке, посмотрел сквозь нее на свет, дунул внутрь на невидимые пылинки. Потом глянул на запотевшую бутылку с прозрачной жидкостью: не то. Он что, пил водку? И так много? Руслан сказал: бутылка в сейфе. Ежедневные возлияния. Как странно. Вздохнул и сказал:
– Ты знаешь, мне что-то не хочется водки в такую жару.
– Да ты и в самом деле болен, бедненький, – пропела Леся. – Так чего ж тебе? Вина? Воды?
– Тоник хотя бы есть?
– Что? Тоник?
– Ну да. Или сок. Разбавить.
– Водку разбавить? Тебе?
– Послушай. Внимательно меня послушай, – пузырь закачался внутри, начал потихоньку подниматься к горлу. – Я перенес тяжелую болезнь. Меня ударили по голове и чем-то опоили. Большую часть своей жизни я забыл, остались только какие-то незначительные разрозненные детали. Я изо всех сил пытаюсь их собрать, пытаюсь вспомнить, кто я такой, чем жил, чем занимался, что чувствовал, что думал. И не надо мне без конца напоминать о старых привычках. Тем более не надо иронизировать. Ты женщина, и я этого не потерплю. Да, именно так, – повторил он с уверенностью. – Не потерплю, чтобы какая-то женщина смеялась над тем, что я ослаб и не могу делать то же, что и раньше. К примеру, пить водку.
– Какая-то женщина! Ох, – Леся, стараясь не тронуть помаду, прикрыла ладошкой рот. Обозначила удивление. – Я для тебя какая-то женщина! Да как ты можешь говорить такое, после того как… Ох! – Но потом сдержалась: – Ну хорошо. Так, может, мы с другого начнем? Это-то ты хоть помнишь?
Она подошла, обхватила его горячими руками, наклонилась, страстно поцеловала. Раз, другой, третий. Отстранилась и посмотрела в глаза. Он подумал: «Руслан прав, глаза у нее необыкновенные. Какие выразительные глаза! И как мне нравился такой вот, особый ее взгляд…» Он почувствовал сухость во рту, голова закружилась.
Перед глазами вдруг что-то вспыхнуло, завертелось огненным колесом. После рулетки, блондинки в красном, брюнетки в черном и поцелуев на переднем сиденье дорогой машины всплыло в памяти что-то неприятное. Лицо, да. Женское лицо. Красивая женщина. Но говорит она что-то злое. Кажется, она сделала ему больно. Она сказала что-то такое… Он отстранился, захватил Лесины руки:
– Подожди.
– Что случилось?
– Я хотел у тебя спросить. Перед тем как мы… – он замялся. Головокружение прошло, сердце больше не билось бешено в груди, руки постепенно остывали. А не надо такое говорить.
– Да?
– Ты сядь.
Она отошла, присела на краешек дивана, сложила руки на коленях, как девочка:
– Ну?
– У меня была машина?
– Конечно, была. «Жигули».
– Я не про то. Черный «Мерседес», «пятисотый».
– Что-что?! Ваня, ты с какого дуба рухнул?
– Мы с тобой ездили в казино? В дорогие рестораны?
– Ох! – Она зажала рукой рот, даже не побоялась, что окончательно сотрет помаду, половина которой была теперь у него на губах и щеках.
– Ты куришь сигареты с ментолом?
– Я?! Курю?!!
– Не надо врать, я ничего тебе не сделаю. Я брал откуда-то большие деньги, мы вместе их тратили. Быть может, не здесь, не в этом городе. Покажи, что я тебе дарил. Быть может, вещи мне помогут вспомнить.
– Да совесть у тебя есть? – взвизгнула Леся. – Он дарил! Цветочка-то к Восьмому марта не дождешься! Шоколадки! Если Зоя получку до копейки не отбирала, ты на все эти деньги водку покупал! «Мерседес»! Казино! Скажи еще, в Лас-Вегасе! Подарки! Дождешься от вас!
– Прекрати! Ты врешь мне!
– Я?! Вру?! Да ты, подлец, что со мной сделал?!! Если бы не ты, я бы так замуж вышла! Так вышла бы! С моей-то красотой! За миллионера! За Рокфеллера! За…
– Что ж не вышла-то?
– Да из-за тебя, придурка! Ты ж мне всю жизнь загубил! А теперь еще и чокнутый! «Мерседес» «пятисотый»! Ха!
– Вот я и вспомнил. Все вспомнил.
Он вскочил, надел пиджак, сжал кулаки. Крепко сжал. Пузырь раздулся неимоверно, надавил на горло, и слова сами собой сочились из трещины в нем наружу:
– Я вспомнил. Меня тошнит. Да-да. Давно тошнит. От ваших длинных ног, огромных силиконовых грудей, от мускусных духов, от куриных мозгов. От любви к халяве и дорогим побрякушкам. От похоти кошачьей и кошачьей никчемной сути. Ото лжи, которой вы меня всю жизнь травите, словно ядом. От лживой любви. Вам всем нужны только мои деньги и мое тело. И то и другое все устраивает. А на душу мою плевать. Всем плевать на мою душу. Но не дождетесь. Вон! Не дождетесь. Ни меня, ни моих денег!
Он выбежал в прихожую, выкрикнув все это, повернул ключ в замке, рывком распахнул входную дверь. Захлебываясь рыданиями, Леся прокричала ему вслед:
– Да нет у тебя никаких денег! Нет!!!
Он пришел в себя на улице, когда легкий ветерок коснулся лица. Прохлада успокоила, жилка на левом виске перестала биться. Пузырь медленно опускался на прежнее место, грудная клетка расширилась, принимая его, дыхание становилось все реже. «Да что это я? Что со мной? Что на меня нашло? Откуда это? И при чем здесь Леся?»
Монолог, который он только что в запальчивости выдал, к Лесе не имел никакого отношения. Слова, тщательно отобранные им из сотен, тысяч других, слова, отсортированные так, чтобы остались самые обидные, слова, проговариваемые им про себя так часто, что затвердели напрочь, камешек к камешку, сцепленные цементом жгучей обиды, – эти слова навечно остались в памяти. Он долго готовил свою речь, но сказать ее так и не успел. И вот теперь под руку подвернулась Леся. Так почему именно ей? Что же такое она сделала, что он все-таки сказал это?…
Он шел к Зое. Инстинктивно почувствовал, что в такой момент обязательно нужно к ней. Поднялся на второй этаж, машинально сунул руку в карман, нащупал в нем ключ от квартиры, достал, открыл дверь. Она не ждала. Хотя ужин готов, квартира убрана, на жене брючный костюм, а не старый домашний халат. Иван пригляделся: с чего вдруг решил, что она некрасива? Женщина с изюминкой, как говорят. Просто такие женщины ему никогда не нравились. Не присматривался к ним, и все. И волосы у нее теперь были прокрашены ровно, макушка золотистая, стрижка аккуратная. Выходит, ждала все-таки – а вдруг? И в парикмахерскую забежала. Увидев его, Зоя вскочила:
– Ты?!
– Я пришел с работы. Пойду руки вымою.
– С работы, и – сюда?!
– По-моему, я здесь прописан, – мягко сказал он.
– Это все? Только прописка тебя заставляет появляться иногда в этой квартире? И мои дети?
– Наши.
– Уже наши? Послушай, Ваня, – она коротко вздохнула. – Я вот сижу здесь весь день, с самого утра сижу и все думаю, думаю. Времени свободного много, дети на даче, и получается, что все оно заполнено тобой, мыслями о тебе. Голова распухла от этих мыслей. И вот что я решила: никакого «сначала» не будет, если ты останешься таким же, как прежде. Хватит. От тебя снова пахнет чужими духами, хорошо мне знакомыми. Стоило с того света возвращаться!
– Откуда ты знаешь, что я был на том свете? – тихо спросил он.
– Чувствую. Я всего тебя чувствую.
– Не будет как раньше, Зоя. Я зашел к ней, потому что хотел узнать важную для себя вещь. Но ночевать я там не хочу. Это чужая квартира, чужая женщина. Мне с ней неприятно.
– Что? Что ты такое говоришь?!
– Мне с тобой хорошо. И с детьми. Я хочу к ним, за город. Поедем, Зоя? Ну их всех. Я семью хочу.
И в ее распахнутых глазах он увидел все тот же немой вопрос: «Кто ты теперь? Кто! И как же ты мне такой нужен!»
День пятый, утро
Он проснулся рано, в шесть часов утра. Как же много надо сделать за этот день! Пятый день, который он записал потом в актив своей новой жизни. Теперь все прожитое время он делил и заносил в две графы: актив и пассив, сделал то, что хотел, и не успел сделать.
Это утро он хотел начать с гимнастики и пробежки. Встал тихонечко, стараясь не разбудить Зою. Ночью они помирились окончательно, и вновь темноту освещала ее страстная, молодая, как народившийся месяц, любовь, а ответом было его молчаливое согласие: жалко, что ли? Он чувствовал, что ночное светило будет с каждым днем все полнее и полнее, будет зреть и зреть, наливаться соками, а потом воссияет огромной созревшей луной, и ночи его станут такими светлыми и яркими, какими никогда не были раньше.
Он не знал пока, что делать с этой молодой Зоиной любовью, просто хотел успокоиться. Они все чего-то хотят от него, и только она отдает. И не заставляет его быть таким, как прежде. Это главное. Потому что он уже не такой. Ему не нравится, как жил следователь Мукаев. И он хочет вспомнить главное: почему так упрямо шел в то утро в Москву? И что это было за дело, ради которого стоило выжить?
Зоя спала и даже во сне счастливо улыбалась. Но когда он начал потихонечку одеваться, проснулась мгновенно, подняла голову с подушки и бодро спросила:
– Ты куда так рано?
– Гимнастику хотел сделать.
Даже если она и удивилась, вида не подала, вскочила с постели, полезла в шкаф, с нижней полки вытянула, пыхтя, пыльную картонную коробку, звякнуло железо:
– Вот. Ты купил, когда мы поженились, но…
В коробке он увидел пару легких гантелей и еще две потяжелее.
– Сойдет.
Коробку отнес в другую комнату, там же начал не спеша разминаться. Зоя туда заглядывать не стала, он оценил ее деликатность: движения его пока были деревянными, и многого он добиться не смог. После долгого перерыва мышцы заныли, напряглись, и чувствовалось, что завтра все тело будет болеть, словно его жестоко избили палками. После короткой гимнастики он надел спортивный костюм, вышел в прихожую. Зое сказал:
– Пойду пробегусь. Кажется, набрал лишних пять килограммов. В больнице хорошо кормили, да и ты от плиты не отходишь.
Зоя вновь промолчала, и он так и не понял, волновала его раньше проблема набранного веса или же было на это наплевать. Бежать трусцой по тенистой улочке в сторону городского парка ему понравилось. И город понравился. Теперь понравился. Утро было свежим, теплым, ароматным, как только что испеченный хлеб. Запахи эти возбуждали аппетит соскучившегося по активным движениям тела. Он открывал рот, глотал утреннюю свежесть жадно, словно откусывая от каравая, и постепенно насыщался. Пока не стало совсем уж лениво и сыто. Тут он остановился и посмотрел на часы. Все, на сегодня хватит.
Когда вернулся домой, на столе ждал завтрак.
– Тебя видел кто-нибудь? – спросила Зоя.
– Не переживай: я здоровался на всякий случай, – улыбнулся он. – Хотя никого из этих людей не знаю. Не помню. Но они так смотрели… Я им кивал. Я был со всеми вежлив.
Зоя на это ничего не сказала, отвернулась к плите.
Он принял холодный душ, нашел на полочке бритвенные принадлежности, выдавил на ладонь крем для бритья. И глянув в зеркало на свое лицо, вздрогнул вдруг и принялся торопливо его ощупывать. Нос, рот, щеки, скулы, брови. Показалось, что это резиновая маска, а под ней прячется совсем другой человек. Не следователь Мукаев. «Кто ты теперь? Кто?!»
– Пораньше пойду, – сказал он, торопливо допивая кофе. Зоя все так же деликатно молчала, и он пояснил: – В больницу зайду.
– В больницу?!
– Мне надо взять справку. Вэри Вэл попросил.
Все необходимые справки ему дали при выписке, но Зоя, знавшая это, в который уже раз ничего не сказала. Ему же хотелось побывать в больнице до начала рабочего дня, так, чтобы никто об этом не узнал. А вдруг? Что делать в случае, если его догадка подтвердится, он тоже не знал, но все равно пошел.
Повезло. Его лечащий врач, женщина предпенсионного возраста, как раз в эту ночь дежурила и на работе задержалась. Идти ей, собственно, было не к кому: с мужем развелась много лет назад, сын уехал в Москву, внуки приезжали редко, летом жили с матерью за городом на недавно отстроенной даче. Она со снохой не ладила, а потому работала. И летом, когда многие брали отпуска, особенно охотно. Изредка звонила сыну, оправдывала свое отсутствие на даче, где жили его жена и дети, занятостью, работой, своей нужностью здесь, в больнице. Это и была ее жизнь: городская клиника, пациенты с черепно-мозговыми травмами, сплетни медсестер, пятничные посиделки за накрытым столом, со спиртным, с обильной закуской.
– Здравствуйте, Галина Михайловна, – деликатно начал он неприятный разговор. – Я вижу, вы опять задержались на работе.
– Добрый день. Рада вас видеть, Иван Александрович. Хорошо выглядите, посвежели, поправились. Я своей работой довольна. По крайней мере, все, что произошло после того, как вас подобрали на шоссе, вы помните прекрасно, – улыбнулась она, – в том числе и мое имя-отчество. Уже хорошо.
– У вас есть десять минут свободных?
– Да, конечно.
Ему вдруг стало ее жалко. Она молодилась, старательно закрашивала хной седину и носила минусовые очки с затемненными стеклами, чтобы не было заметно сеточки морщин под глазами и утренних отеков. Она так одинока. И похожа на его мать. Мать? Он вздрогнул невольно, но взял себя в руки, спросил:
– Вы ведь тщательно исследовали мой череп, так?
– Да, конечно. Какие-то жалобы, вопросы?
– Нет. За лечение большое спасибо. Жалоб нет. Но… Вопрос у меня есть. Мне сказали в психиатрической больнице, что такие травмы не приводят в полной потере памяти, к амнезии?
– Да, это так. Хотя человеческий организм – вещь загадочная и до конца не исследованная. Тем более головной мозг. Я думаю, что вы принимали какой-то препарат. Быть может, вдыхали. Да, скорее всего, так. Но если это был одурманивающий газ, то точный состав его теперь определить невозможно. И когда вы поступили к нам в больницу, тоже было невозможно. В вашей крови и в моче не обнаружилось ничего, никаких наркотиков.
– Я это прекрасно понимаю. Что это был именно газ, можно определить только после вскрытия, если взять ткани на анализ и исследовать головной мозг. Но это возможно лишь в случае, когда после приема препарата до смерти пациента прошло немного времени. Меньше суток. И непременно нужно вскрытие. Анализ крови ничего не покажет.
– Вы разве врач? Химик? – Она, кажется, насторожилась. Что он такого сказал?
– Нет. Я следователь прокуратуры. И, если честно, у меня к вам есть более важный вопрос. Бог с ним, с этим препаратом. Скажите, Галина Михайловна, нет ли у меня на лице каких-нибудь швов?
– Швов?
– Ну да, шрамов, швов. Я хочу знать, не делали мне в недалеком прошлом пластическую операцию? Быть может, ее следы тщательно скрыты?
– С чего вы это взяли? – Она глянула на него поверх очков с откровенным удивлением.
– Не знаю. Может быть, мне просто сделали это лицо?
– А вы им недовольны? – Она улыбнулась.
– Нет, отчего же.
– Еще бы! Красивое, правильное лицо. Я старше вас на двадцать лет, могу себе это позволить.
– Что позволить?
– Сказать, что вы очень красивый мужчина. На редкость красивый. Такие чистые, чеканные линии, особенно носа, бровей… Думаете, кто-то мог захотеть скопировать это лицо? Из-за его редкой привлекательности?
– Нет, причина, возможно, была другая.
– Все ищете объяснение тому, что никак не можете вспомнить себя Иваном Александровичем Мукаевым? Жену, детей не вспомнили?
– И друзей тоже.
– Нет, милый мой, – она вздохнула. – Забудьте вы про шпионские страсти. Вот ведь какая странность: все забыли, а сюжет какого-то американского боевика помните. Пластическая операция, замена одного человека на другого. У нас не Голливуд и даже не Москва. Провинция, тихая, полусонная провинция. Даже такой красавец, кому вы нужны, чтобы копировать вас? Огромные деньги на это тратить?
– Не знаю.
– Разочарую я вас или нет, но это не вызывает сомнений: вы с таким лицом родились. Если что-то делается, то скрыть это полностью невозможно. Я исследовала ваш череп вдоль и поперек. Это ваше лицо, следователь прокуратуры Мукаев. Ваше с самого рождения, с самого первого дня. Примите это и не мучайтесь.
– Значит, я родился такой. Что ж, тогда будем искать другое объяснение.
– Все-таки будем?
– Я не могу жить с чувством, что мне навязывают все чужое. То я никогда не делал, так никогда не поступал. А я поступаю так, как помню. Не головой, телом. А может, уже и головой.
– Успокойтесь. Вам нельзя волноваться.
– Я спокоен. У меня было дело в жизни. Какое-то важное дело. А я иду сейчас на работу и не могу с полной уверенностью сказать, оно это или же не оно. До свидания.
– Всего хорошего. На осмотр как-нибудь зайдите. Найдите время.
– Спасибо, я здоров, – сердито ответил он и направился к дверям.
…Он вновь проходил мимо платной стоянки. Его машина была по-прежнему там, черный «пятисотый» «Мерседес». Да и куда он денется без хозяина? И снова он не смог удержаться. Как можно не подойти к своей машине? Но где же ключ? Взломать ее, что ли? Он подергал за ручку дверцы. Машина была заперта, но не на сигнализации. Лишь на руле висел противоугонный «костыль».
– Ты чего здесь крутишься, мужик? – Здоровый детина в камуфляже надвигался горой.
– Следователь прокуратуры Мукаев, – он достал документ и впервые почувствовал: я власть! Это было так сладко! Он имеет право задавать вопросы.
– Извините. Я в городе недавно. Вас, наверное, все знают в лицо. Что-то хотели узнать?
– Давно она здесь стоит? – кивнул он на красивую машину.
– А кто ее знает? Может, с месяц, может, и поболе. Прежний охранник уволился.
– Где ж он теперь?
– В Москве. Говорят, переехал. Жена квартиру в наследство получила. Везет.
– Жаль. Я не про квартиру. Что, деньги кто-нибудь платит за «Мерседес»?
– Деньги давно никто не платит, но будьте уверены: как только хозяин явится за своей крутой тачкой, я уж с него слуплю! Ох и слуплю! Двойной тариф за каждый просроченный день!
– А выставить вон со стоянки? Раз не платят?
– Выставить?! «Пятисотый» «мерс»?!
– Да, понимаю. Его владелец не простой смертный. Скажите, если бы у меня были ключи…
– Вы – власть. Вдруг хозяина давно пристрелили? У этих крутых жизнь короткая, как песня. Но, что хорошо, – веселая.
– Частушка, что ли?
– Ха! Точно! Веселый вы. Какие-нибудь проблемы с этой машиной?
– Пока нет. Пусть стоит. Но я еще зайду. С ключами.
– Как скажете. Вы – власть.
Он ушел, потому что, даже сев в свой черный «Мерседес», он все равно не знал бы, куда на нем ехать. Ну сел, а дальше-то что? Нет, рано.
Полдень
Для следователя прокуратуры Мукаева это оказался тяжелый и нудный день. Обедать он так и не пошел: к нему на допрос привели подследственного. Руслан Свистунов пристроился в углу, отодвинув к самой стене старое кресло, внимательно слушал и следил за всем, что происходило в кабинете. Большей частью молчал, изредка подсказывал другу, но не впрямую, а намеками, чтобы авторитет Мукаева в глазах подследственного не подорвать.
Подозреваемый в десяти зверских убийствах невысокий, хилый мужичонка лет сорока на маньяка никак не тянул. Он был какой-то дерганый, суетливый, но словно бы уже мертвый и мучающийся остатком своей жизни, не зная, куда бы его деть. В тюрьме самое его место. Отвечал он с готовностью, вопросы выслушивал подобострастно, губы его все время дергались, уезжая к самому уху. У него был низкий лоб с огромными залысинами; там, где волосы выпали, на голом черепе красовались два шишковидных нароста, вроде жировиков, по одному с каждой стороны. Словно рога. Глазки маленькие, бегающие, нос, напротив, большой. Внешность отталкивающая. Определить бы его в маньяки и покончить с этим. Похоже, все этого хотят.
Мужичонка чуть не кинулся к следователю Мукаеву на шею, как к родному, заскулил:
– Иван Александрович! Ну где ж вы были? Я тут жду, жду…
– Чего? – не понял он.
– Так суда ж.
– Зачем вам суд? – снова не понял он.
– Так убил же.
– Вы бы сели, – он замялся.
Подследственный поспешно сел. Свистунов из своего угла намекнул:
– Давайте по порядку. Как положено для протокола: имя, фамилия. Ну да ты, Игнат, все уже знаешь.
– А как же! – Мужичонка по-хозяйски расположился на стуле, с готовностью посмотрел на следователя Мукаева. Иван сообразил, чего от него все хотят, взял бланк протокола, зачитал:
– Фамилия, имя, отчество, год рождения, где проживаете, по какому адресу?
– Хайкин Игнат Платонович, ржакские мы.
– Какие-какие? – машинально переспросил следователь Мукаев и напрягся, потому что понял: сейчас ему придется писать.
Делать этого давно уже не приходилось. Он неуверенно царапнул ручкой на чистом листе бумаги, попробовал. Рука была как деревянная. Совсем чужая. Попробовал было написать фамилию подследственного в протоколе, буквы получились неровные, кривые. Друг к другу никак не цеплялись, плясали вразнобой. Он был уверен, что это мало похоже на его прежний почерк.
– Странно, – сказал он вслух, неуверенно улыбнулся и глянул на Свистунова. – Что-то не то получается. Не пойму, что у меня с почерком?
Тот встал с кресла, подошел, посмотрел через плечо:
– Да-а… Проблема… – И покосился на Хайкина. – Погоди, секретаршу позову.
Он вышел, а Игнат Хайкин вдруг придвинулся вплотную к столу вместе со стулом, горячо зашептал:
– Вот и слава Господу, Создателю нашему… Совсем меня измучили. Все равно не жилец. Они-то, в законе, чисто звери какие. Сажайте меня, гражданин следователь, на смерть. Согласный я. Только скорее сажайте.
– Что за чушь? – вздрогнул он. – Как это «сажайте на смерть»?
– Ведь я ж убивец! – брызгая слюной, сказал Хайкин. – Вот до смерти меня и сажайте. Али к стенке. Согласный я. Со всем согласный.
– Приговор же должен быть, – он все отодвигался и отодвигался вместе со стулом от брызгающего слюной мужичонки, пока не коснулся спинкой стены. – Как без приговора?
– Убивец я. – Хайкин навис над столом. – Убивец.
Подозреваемый вдруг часто заморгал, и глаза его забегали быстро-быстро. Маленькие, черные, словно надоедливые кусачие мушки. Пока Иван пытался поймать этот мечущийся взгляд, рука Хайкина потянулась к тяжелому дыроколу, стоящему на столе. Инстинктивно Иван рванулся вперед, схватил эту руку, дернул, крепко сжал. Пузырь в груди закачался, начал медленно всплывать.
– Убивец… – прохрипел Хайкин. – Убивец.... Вспомнил…
– Кто убивец? Кто?
Дверь открылась, вошли Руслан и Леся. Он тут же отпустил Хайкина, тот отполз обратно вместе со стулом.
– Что случилось? – внимательно посмотрел на обоих Свистунов. Хайкин мгновенно сжался, нагнул голову, выставив вперед шишки. Сказал спокойно:
– Я. Пишите.
Леся, стараясь на подследственного и на следователя Мукаева не смотреть, прошла к столу, села, придвинула к себе печатную машинку, вставила туда бланк протокола допроса:
– Готова.
– Разве так можно? – Иван кивнул на машинку.
– Леся печатает быстро.
– Да? – Он почему-то был уверен, что тоже сможет быстро печатать. Но каретка его смущала. Почему-то не знал, сама она двигается или надо ее двигать рукой. Он ничего не понимал в печатных машинках. И цифры на клавиатуре. Казалось, они должны быть еще и справа, отдельно. А крайней – серая штучка с кнопками, легко помещающаяся в ладони. Какая-то серая штучка… На проводе… Похожем на хвост…
– Мышь!
– Ой! Где?! – Леся вскочила, подхватила подол яркой юбки. Он чуть не рассмеялся. Хайкин проворчал:
– Ну откуда ж здеся мыши? Здеся чисто. И дух нехороший, бумажный. Вот у нас в хлебном амбаре…
– Все, – вмешался Свистунов. – Давайте по делу.
Присутствующие тут же вспомнили о своих ролях на этих подмостках, в кабинете следователя Мукаева. Леся уселась за печатную машинку, брезгливо подобрав подол юбки, капитан Свистунов сел в угол в качестве наблюдателя, Хайкин сжался на стуле, а он, следователь Мукаев, сделал умное и серьезное лицо и голосом терапевта, ведущего прием в поликлинике, сказал:
– Ну-с, рассказывайте, Игнат… Платонович. Да, Платонович. Все сначала.
…Рассказ Хайкина был прост. Родился он в деревне Ржаксы и никуда оттуда не выезжал, разве что в Р-ск на рынок. Родители Хайкина были сельскими жителями, колхозниками. И жизнь их была простая и безыскусная: тяжкий труд на колхозном поле и в своем подсобном хозяйстве, с которого, собственно, и жили, а неизбежную от этой каторги смертельную усталость топили в неисчислимом количестве выпитой самогонки. И сам Игнат Хайкин употреблял эту гадость с младых ногтей. А как иначе, если в спиртном смачивали его соску, прежде чем засунуть младенцу в рот? День, с которого начались его мытарства, Игнат помнил смутно. Тогда поутру он отправился к куму в гости, в поселок Горетовка. Исполнилось Игнату в ту пору лет двадцать, и тогда еще молодая хайкинская кровь кипела жаждой подвигов, а волосы были целы все.
Рюмка за рюмкой, и очутились они с кумом и кумовым двоюродным братом в гостях у разбитной бабенки. Она-то и выставила на стол еще одну бутыль. Дальнейшее Игнат помнил совсем уж смутно. Помнил только, что вроде бы из-за бабенки они с кумом подрались. А кумов двоюродный братец, не будь дурак, пока двое собутыльников выясняли между собой отношения, увел пьяную красотку в сарай к реке. Был месяц май, самый его конец, и погода баловала. Ночи стояли светлые, буйно цвела сирень, разросшаяся по всей Горетовке, ее аромат дурманил, тяжелые ветви свешивались в открытое окно. Хотелось такого же буйного веселья, до песен, до криков и битвы на кулаках. Спохватился Игнат, когда кум свалился под стол и замер. С перепугу да спьяну подумал, что убил его, зачем-то схватил со стола огромный кухонный нож с деревянной ручкой и выскочил на улицу. Кинулся к реке, и там-то, по словам Игната, все и случилось.
Поначалу Хайкин показал, что Светка была в сарае уже мертвая. И что, нагнувшись над ней и перепачкавшись в крови, он насмерть перепугался, бросил в лужу крови нож и кинулся обратно в ее избу. Потом оказалось, что из троих собутыльников Игнат был самый трезвый. Кум, как свалился под стол, так и не пришел в себя до утра. И ничего не помнил. Кумов двоюродный брат, тот, что увел Светку в сарай, отработав на ней положенное время, там же, в сарае, свалился без памяти. Наутро его нашли еще не протрезвевшего рядом с убитой женщиной и, соответственно, во всем и обвинили. Нож валялся рядом в луже крови, потрясенный случившимся мужик тоже ничего не помнил. И показать ничего не мог, кроме как «не знаю», «был пьяный». Брата кума осудили на пятнадцать лет, а через два года нашли труп Игнатова кума. Третьего собутыльника. И вот теперь убит Василий, все завертелось по новой: под подозрение попал уже Игнат Хайкин. К делу привязали все трупы с характерными ножевыми ранениями, найденные в районе за восемнадцать лет.
Теперь выходило, что Игнат тогда побежал с ножом в сарай, из ревности зарезал Светку, а уж кума потом, как свидетеля. Странно только, что зарезал его аж спустя два года. На вопрос «угрожал ли ему кум разоблачением?» Хайкин внятно ответить не смог.
– Ну а остальные?
– Какие, гражданин следователь, остальные? – беспомощно спросил Хайкин.
– Еще восемь трупов? Три женщины здесь, в городе.
– С головой у меня что-то, – часто-часто заморгал Хайкин. – После того дня я на голову стал больной. В город приезжал: признаю. Может, я и того их. Городских. Порешил.
– Трупы были найдены не сразу, – сказал из угла Свистунов. – Он стал их прятать.
– Точно, – моргнул Хайкин. – Чего ж такое не спрятать?
– Значит, точно определить, когда эти люди были убиты, невозможно? – спросил Иван, и голос отчего-то дрогнул.
– Приблизительно, – Руслан встал, подошел к столу. – Весьма приблизительно. В зависимости от степени разложения. Ты, Хайкин, про нож скажи.
– Да, – вдруг спохватился Иван. – Главное – это нож. Ты ж его взял. Ты с ним к сараю побежал. Почему не сказал тогда на суде, что, когда кумов братец увел эту… Светлану в сарай, не было у него никакого ножа?
– Что ж я дурак, в тюрьму садиться? – выставил вперед свои шишки Хайкин.
– А сейчас, значит, поглупел?
– Тепереча я с повинной. Каюсь. Как в Ржаксах вы меня взяли, так и понял я: все, значит, конец пришел.
– А что произошло в Ржаксах?
– Огород с соседом не поделили. Я ему говорю: забор-то отнеси. На метр отнеси. Кажный год все ближе и ближе к моему дому забор-то передвигается.
Свистунов прошелся по комнате взад-вперед, вернулся в кресло, оттуда пояснил:
– У него дом поделен на две половины.
– Ну да, – охотно подтвердил Хайкин. – На две, как же. Одна, значит, половина была моих родителей упокойных, царствие им небесное, а другая теткина. Вот, значит, одна мне досталась, а другая родственничку моему. Брату двоюродному.
– Сколько ж у тебя родственников! – не удержался Иван.
– Почитай, полдеревни, – все так же охотно сказал Хайкин. – Кто ближний, кто дальний.
– Значит, убитый в Ржаксах – родственник? Двоюродный брат?
– Точно.
– И ты его убил из-за забора?
– Может, и так, – охотно согласился Хайкин. – Может, из-за забора, а может, еще из-за чего.
– Жена его говорит, что вы вроде обо всем договорились, – напомнил Свистунов.
– Чья жена? – моргнул Хайкин.
– Соседа твоего, вот чья!
– Может, и договорились.
– Ты его убил где? Дома?
– Дома.
– А почему труп нашли в пруду?
– Значит, кинул в пруд.
Следователь Мукаев с сомнением посмотрел на хилого Игната Хайкина.
– А далеко ли пруд? – спросил.
– В конце деревни.
– А дом твой?
– Тоже в конце. В другом.
– И ты его нес?
– Значит, нес.
– Через всю деревню?
– Значит, через всю деревню.
– И никто тебя не видел?
– Никто. Вроде дождь в тот день лил. Чего людям по улице шататься в такую погоду?
– А может, ты его у пруда убил?
– Может, у пруда, – еще один согласный кивок. Потом вдруг: – А чего бы я с ним туда пошел, к пруду-то? Выпить-то мы и дома могли, по-родственному, по-соседски. Из одной половины в другую только перейти.
– Тогда как он оказался в пруду?
– Кто ж его знает?
– Послушайте, – Иван вдруг почувствовал от всего этого дурноту. – Игнат… Платонович. Может, не вы его убили?
– Как же? Как же не я? Я. Убивец.
– Ну хорошо, – что-то вдруг всплыло у него в памяти, – наверное, надо ехать туда, в Ржаксы? Да?
Он посмотрел в угол на Руслана Свистунова. Тот утвердительно кивнул. Ободренный, Иван продолжил:
– Надо посмотреть на месте, что и как было. Так?
Тут уже Хайкин обрадованно закивал:
– Вот и я про то же. Вы уж меня отвезите, а я вам все покажу. Вспомню, как оно было. Со всеми подробностями вспомню.
– Наверное, завтра? – Иван снова посмотрел на Руслана. Тот отрицательно покачал головой, потом пояснил:
– Завтра выходной.
– Ну да, – спохватился он.– Я и не подумал. Тогда в понедельник, да? Значит, в понедельник. А сегодня все. Можете идти.
Хайкин посмотрел вопросительно, потом с готовностью выпрямил спину и по-собачьи заглянул ему в глаза.
– Ах да! Надо подписать, так?
Свистунов кивнул. Леся вытащила из печатной машинки и пододвинула к подследственному протокол допроса. Хайкин, не читая, коряво махнул: «С моих слов записано верно». Теперь уже Свистунов посмотрел на него, следователя Мукаева, вопросительно:
– Можно увести подследственного?
– Да, конечно.
Пока Руслан выкрикивал кого-то в коридоре, Иван, не стесняясь Хайкина, перегнулся через стол к Лесе со словами:
– Ты извини. Ладно? Извини за вчерашнее. Я не хотел.
Леся замялась, Хайкин смотрел в стену, часто-часто моргал. Иван встал, обошел Игната, приблизился к Лесе вплотную. Почувствовал запах ее духов, волос. Голова отчего-то закружилась. Может, зря он так вчера? Красивая женщина. Была же у них любовь. И какая! А как же Зоя? Дети? Обещал же.
– Я… – начала было Леся.
Пришли за Хайкиным, увели. Когда они остались в кабинете втроем, капитан Свистунов вновь надежно расположился в кресле, соединив друга детства и Лесю внимательным взглядом, с усмешкой спросил:
– Мешаю?
– Нет, – сказала Леся и встала. – К тому же меня Варивэл ждет. Только следователю Мукаеву такая поблажка: личная секретарша протоколы печатать. Остальные сами как-то обходятся.
«Не простила», – понял он. Но знал наверняка, что все равно простит. Это какая-то игра между ними. Надо вспомнить ее правила. Он вроде бы должен каждый раз заново ее добиваться. И пообещал:
– Я к тебе зайду. Мы не договорили.
Она пожала плечами, вышла, негромко, но с выражением хлопнув дверью. Мол, заходи, мне-то что? Ему показалось, что Леся чего-то недоговаривает.
– Поссорились? – спросил Руслан, оставшись с другом детства один на один.
– Если ты этого ждешь – только скажи.
– И что будет?
– Не знаю.
– Вот и не бросайся словами… Ну что про Хайкина скажешь?
– Неужели он тащил на себе труп через всю деревню? Сколько весил его сосед?
– Они одинаковой комплекции. И, кстати, были очень похожи. Тот такой же тщедушный, маленький. Так что насчет донести его до пруда…
– Странно. А как я на него вышел, на Хайкина? Или это было уже без тебя?
– Уже, – кивнул Руслан. – Ты привез его в прокуратуру за неделю до того, как сам исчез. И все это время долго и подробно с Хайкиным беседовал наедине. Протоколы этих допросов я не нахожу в деле. Кстати, что у тебя с почерком?
– Забыл, – легко рассмеялся он. – Ты представляешь? Как писать – забыл. Нелепо, да?
– Не скажи, – задумчиво протянул Руслан. – Почерк, Ваня – это важно. Короче, разговаривал ты с Хайкиным, разговаривал – и вдруг метнулся в Горетовку.
– Да? Интересно.
– А вышел ты на него просто. Поднял дело из архива, проработал по первому эпизоду. Мужиков было трое. Собутыльников. Повздорили из-за бабы. Один сел за ее убийство. Другого зарезали. Кто? Понятное дело, Хайкин. Ему от этого прямая выгода. Ты сделал правильные выводы.
– Ну, для этого не надо быть семи пядей во лбу.
– Не надо. А для того, чтобы понять, что это мог быть и не тот нож, надо?
– Как это не тот? Как не тот? – заволновался он.
– Видишь ли, какая получается штуковина с этими кухонными ножами, – Руслан тяжело вздохнул. – Делал их лет дцать тому назад местный умелец, в тюрьме немало лет отсидевший, и подобных ножей в Горетовке чуть ли не в каждом доме. И не по одному. С резной деревянной ручкой. И инициалы на ней: «С. Ч.», Саша Черный. Так умельца звали.
– Смешно! Как поэта.
– Какого поэта?
– Был такой поэт, Саша Черный.
– Ну, про поэта я не знаю, да и ты раньше не знал. С лирикой, Ваня, у тебя были проблемы.
– Да? Интересно.
– Я все о прозе. О ноже. Такой нож мог быть у любого – подчеркиваю: любого жителя деревни Горетовка.
– Только у горетовских?
– Свои «поделки» Саша обменивал у местных на самогон. Он им ножи, они ему бутылку. Бартер. Горетовка – большой поселок. Думаю, что далеко эти ножи не уходили. Саша-то давно уже спился и умер. А ножи остались. Знатные ножи. Примечательные.
Иван вдруг отчетливо вспомнил нож. Кухонный, с деревянной рукоятью. Лезвие без ложбинки, рукоять без упора, но размеры солидные. А клеймо на рукоятке выжжено. Буквы черные, неровные. У него тоже был скверный почерк, у этого Саши Черного, не поэта. Хороший нож, лезвие широкое, рукоятка удобная. Да, был такой нож. Сказал Свистунову:
– Да. Точно. Горетовский. В деле Хайкина нож горетовский. Но остальных-то убили другими ножами!
– Вспомнил?! Что он их ножами резал, вспомнил, уже хорошо, а вот что разными… Да, входные отверстия были разного размера. Некоторые узкими, как от стилета. Или от скальпеля. Но почерк один и тот же. Он наносил удары всегда в одно и то же место. Сердечная сумка, аорта, легочная артерия… Он, похоже, выбрасывал их, ножи эти. Как убьет – выбрасывает. Прятал концы.
– Да. Так. Но почему же ни одного не нашли? Так хорошо прятал?
– Почему ни одного? Один нашли. «С. Ч.». Причем в луже крови.
– И это не показалось странным? Что именно его и нашли?
– Кому? Ты тогда десятый класс заканчивал, так что следователя Мукаева еще и в проекте не было. И серийного убийцы тоже. Был единичный случай: пьяная драка из-за бабы, типичная бытовуха. А тот следователь, что направил дело в суд, огород городить не стал. Нож в крови? В крови! А кто лежит рядом с потерпевшей? Убийца! Логично?
– Да. Вполне. А отпечатки пальцев?
– А тут все в норме. Ведь тот, кого посадили, нож в руки брал? Брал. Закуску резал. Хайкин брал? Брал. Он и принес нож в сарай. Этим ножом убили? Он был в крови убитой женщины. И раны на теле нанесены подобным ножом. Но вот тем или не тем…
– Что-то мне нехорошо, – Иван стал вдруг поспешно развязывать узел галстука. – Ножи эти… Трупы…
– Что? Водички? Водочки? Ваня?
– Жутко…
– Надо думать! Десять трупов! И в каком виде!
– Да-да… Мутит… А ты?
– Что я?
– Тебе не страшно? Не противно?
Свистунов скривился и мрачно пошутил:
– А меня по голове не били. Чувствительность во мне еще, как видно, спит… Ну открывай, что ли, свой сейф. Выпью я. В понедельник у нас тяжелая работа. Как тому быть и положено. Надо, Ваня, в Ржаксы ехать.
– А тебе не кажется, что на Хайкина кто-то оказывает давление? – В его голове стало вдруг пусто и ясно. Посмотрел на Свистунова так, словно обо всем догадался. И тот вздрогнул, отвел глаза:
– Давление? Кто на него может оказывать давление?
– Не знаю. Тебе виднее.
– А почему это мне виднее? По-твоему, я заинтересован в том, чтобы десять трупов повесить на тронутого Хайкина?
– А по-твоему, я?
– Не знаю, не знаю… Открывай, что ли, свой сейф. Чего тянешь?
– Хочешь проверить, там пистолет или нет? – усмехнулся он. – Вдруг я его из дома принес и в сейфе спрятал?
– Да иди ты… Я не пойму, Ваня, в чем ты меня подозреваешь? Говори прямо, не стесняйся.
– Ни в чем.
– Тогда открывай сейф.
Он загремел замком. Руслан подошел, заглянул через плечо. Оружия в сейфе не было. На одной из полок стояла початая бутылка водки. Водка была хорошая, дорогая, не паленка какая-нибудь, но Иван посмотрел на бутылку с отвращением. Хотя, говорят, раньше он пил, и пил много. Перед глазами встали ряды пустых бутылок. И после этого острая боль и забытье. А потом дорога, по которой он брел в беспамятстве, и в итоге настал день пятый, сегодняшний, давшийся с таким трудом.
– Я не буду пить, – твердо сказал он. – Не могу.
– Дело твое. Но я бы на твоем месте посадил Игната Хайкина. Поверь, так нам всем будет проще. И тебе, и мне. И Вэри Вэлу. И Лесе, – тихо добавил Руслан.
Вечер
В конце рабочего дня он сам предложил Свистунову:
– Давай через Нахаловку домой пойдем?
– Так это ж какой крюк делать! Тю! – сложил губы трубочкой Руслан. Иван невольно улыбнулся: точно, Свисток. Потом сказал:
– Я должен узнать дом, в котором на меня напали.
– А ты уверен, что узнаешь его?
– Да. Уверен.
– Тогда пойдем через Нахаловку. Вдвоем. Меня Вэри Вэл особым распоряжением приставил к тебе сопровождающим, учти.
…Города он не помнил, как ночи напролет гулял по этим улицам с девчонками, не помнил, первой любви не помнил, но эти места смутно стал припоминать. Они с Русланом поднялись на холм, медленно пошли через парк, туда, где в ряд стояли добротные особняки. Нахаловка начиналась с самовольных, не разрешенных законом застроек, потому так и называется. Именно здесь кто-то стукнул его бутылкой по голове и накачал наркотическим препаратом в одном из особняков, сложенных из белого и красного кирпича, каких в Нахаловке было большинство. Он почему-то запомнил кирпичные стены. Деревянные дома, даже новые, добротные, терялись среди этих двух– и трехэтажных строений, и в каждое из них хозяин привносил элементы собственной фантазии. То крылечко затейливое соорудит, то башенку на крыше, и не одну, то круговую веранду. Участки были небольшие, каждый клочок земли использован с максимальной выгодой. И почти перед каждым домом – роскошный цветник.
Он вспомнил внезапно, что любил это время года. Память пульсировала, выбрасывая отрывочные воспоминания: цветущий жасмин, скамейку у дома, оплетенную ветвями, грудной женский смех…
– Ну как, Ваня? Узнаешь что-нибудь? – напряженно спросил Свистунов.
– Кажется, да. Я здесь был.
– Конечно, был! Всю последнюю неделю сюда ходил, как на работу. В свободное от бесед с Хайкиным время. Глянь, как бабуля на тебя смотрит! Новенький забор по левую руку.
Он повернул голову в указанном направлении и услышал:
– Доброго здоровьица! – Старуха стояла, глядя на них поверх калитки, и словно чего-то ждала, в нетерпении облизывая сухие губы и поправляя платок на голове. Пахло опилками и масляной краской. На участке строились.
– Здравствуйте, бабуля!
Свистунов решительно потянул друга в ее сторону. Ему же туда не хотелось, ноги не слушались. Сейчас опять услышит про себя что-нибудь злое, неприятное.
– А хорош особнячок! – похвалил Свистунов добротное строение за спиной у бабки.
– Чего-сь? – То ли она в самом деле была глуховата, то ли притворялась.
– Домик-то, говорю, бабушка, вам солидный отстроили. Откуда такие деньги у пенсионерки?
