Расколотое «Я»
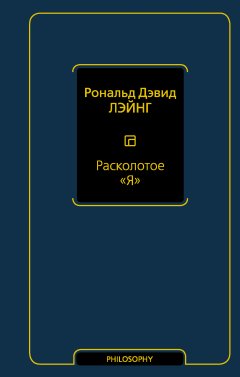
Ronald David Laing
THE DIVIDED SELF
© RD Laing Estate, 1960
© Перевод. В. Желнинов, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Предисловие к первому изданию
Перед вами первое из исследований в области экзистенциальной психологии и психиатрии; предполагается, что целая серия подобных публикаций позволит представить читателю оригинальные работы современных ученых.
Настоящая книга посвящена шизоидным и шизофреническим личностям; ее главная задача заключается в том, чтобы показать, как наступает безумие, чтобы сделать понятным процесс утраты разума. Читатель, разумеется, сам будет судить, насколько мне удалось справиться с этой задачей. Но я все-таки попрошу оценивать эту книгу вне зависимости от того, чего в ней нет. А нет в ней прежде всего даже попытки изложить полноценную, всеохватывающую теорию шизофрении. Нет описания конституирующих и органических признаков процесса, как нет и личного взгляда на заболевание: я не рассказываю о своих взаимоотношениях с больными и не делюсь подробностями собственных методов лечения.
Другая задача книги состоит в том, чтобы охарактеризовать, просто и доступно, некоторые формы безумия. Здесь я, как мне кажется, выступаю первопроходцем. В первых главах читателю наверняка попадутся термины, которые будут для него не слишком-то ясными. Однако я старался не злоупотреблять специальной терминологией и прибегал к ней, лишь когда без нее, по моему мнению, было не обойтись.
Пожалуй, нелишним будет кое-что пояснить, чтобы не возникало недоумения по поводу моих намерений. Читатель, знакомый с экзистенциальными и феноменологическими работами, сразу отметит, что настоящая книга ни в коей мере не опирается напрямую на признанные философские теории. Более того, в ней обнаруживаются очевидные расхождения со взглядами Кьеркегора, Ясперса, Хайдеггера, Сартра, Бинсвангера и Тиллиха[1], если назвать хотя бы несколько имен.
Сколько-нибудь подробное объяснение указанного расхождения во взглядах увело бы нас очень далеко от непосредственной задачи настоящей книги, поэтому разумно вынести эту дискуссию за скобки. Но признаю, что своими исследованиями я во многом обязан интеллектуальной традиции экзистенциализма.
Позвольте искренне поблагодарить тех пациентов, о которых пойдет речь ниже, и их родителей. Все те люди, чьи случаи я описываю на нижеследующих страницах более или менее детально, добровольно согласились на предание их историй огласке. Конечно, имена, названия и прочие личные характеристики были изменены, но читатель может быть уверен: все эти истории вовсе не являются вымышленными.
Хочу выразить свою признательность доктору Энгусу Макнивену и профессору Т. Фергюсону Роджеру за предоставление клинических условий для исследования и за ту поддержку, которую они мне оказывали.
Клиническая деятельность, на которой основано данное исследование, завершилась до 1956 года, то есть до моего вступления в должность младшего врача в Тэвистокской клинике[2], когда доктор Дж. Д. Сазерленд любезно предложил помочь мне с подготовкой окончательного варианта рукописи. С момента завершения книги в 1957 году ее текст читали многие; я получил немало ценных и содержательных замечаний от множества людей, которых попросту невозможно перечислить поименно. Однако мне в особенности приятно поблагодарить доктора Карла Абенхаймера, миссис Мэрион Милнер, профессора Т. Фергюсона Роджера, профессора Дж. Романо, доктора Чарльза Райкрофта, доктора Дж. Шорштайна, доктора Дж. Д. Сазерленда и доктора Д. В. Винникота за конструктивное восприятие рукописи.
Р. Д. Лэйнг
Предисловие к изданию 1969 г
Невозможно сразу высказать все то, о чем хочется сказать. Я написал эту книгу, когда мне было двадцать восемь лет. Меня снедало в первую очередь желание поведать, что понимать людей, которым поставлен диагноз «шизофрения», вообще-то намного легче, чем принято считать. Под этим подразумевалось среди прочего и понимание социального контекста, прежде всего иерархии отношений внутри семьи, но сегодня мне представляется, что я, фокусируясь на конкретных типах шизоидного существования и пытаясь их выделить, частично угодил в ту самую ловушку, которой так старался избежать. В своей книге я чрезмерно много пишу о Них и совсем мало – о Нас.
Фрейд настаивал на том, что наша цивилизация подавляет, что она репрессивна по своей сути. Налицо конфликт между общественными нормами и инстинктивными человеческими потребностями, в первую очередь сексуальными. Фрейд не видел простых способов преодоления этого антагонизма и потому сделал вывод, что в наши дни элементарная, естественная любовь между человеческими существами фактически невозможна.
Стоит отметить, что наша цивилизация подавляет не только инстинкты и не только сексуальность; она губительно воздействует на все формы трансценденции[3]. Среди одномерных людей[4] человек, обладающий опытом познания иных измерений (опытом, который он не в состоянии отрицать или целиком забыть), рискует, что ничуть не удивительно, либо пасть жертвой своих ближних, либо предать собственный опыт.
Мы живем сегодня в постоянном безумии, которое считается нормой, и потому здравомыслие, свобода и все наши критерии мировосприятия приобрели двусмысленность и размытость.
Человек, считающий, что лучше быть мертвым, нежели «красным», мыслит здраво. А того, кто твердит, будто он потерял душу, объявляют безумцем. Человек, который заявляет, что люди подобны машинам, называют великим ученым. А того, кто видит себя машиной, психиатры именуют «обезличенным». Человек, который относит негров к низшей расе, удостаивается, как правило, общего осуждения. А того, кто заявляет, будто белизна его кожи вызвана некой формой рака, причисляют к достойным уважения.
Семнадцатилетняя девушка, пациентка психиатрической лечебницы, признавалась, что ей страшно, потому что у нее в чреве находится атомная бомба. Это мания, разновидность самовнушения. Политики всего мира, хвастающиеся тем, что у них есть оружие Судного дня, и грозящие его применить, куда опаснее этой девушки; они намного дальше оторвались от «реальности», чем множество тех, кого мы считаем людьми с психическими расстройствами.
Психиатрия вполне способна – а некоторые психиатры так и поступают – занять сторону трансценденции, подлинной свободы и подлинного развития личности. Однако та же психиатрия может легко превратиться в способ промывания мозгов, в способ навязывания желательного поведения ментальными пытками, преимущественно такими, которые не наносят вреда физическому здоровью. В лучших лечебницах, там, где не осталось смирительных рубашек, где двери комнат открыты, а о лейкотомии[5] почти забыли, ныне широко используются более изощренные хирургические методы и такие транквилизаторы, которые возводят стены Бедлама[6] и запирают двери внутри сознания пациентов. Посему хотелось бы особо подчеркнуть, что наше «нормальное», навязанное обществом состояние представляет собой на самом деле отказ от восторга перед миром и предательство наших истинных возможностей; многие из нас старательно стремятся обрести ложное «я», дабы приспособиться к ложной реальности.
На этом остановимся. Перед вами труд старого юноши. Я становлюсь старше и одновременно моложе.
Лондон. Сентябрь 1964-гоР. Д. Л.
Je donne une œuvre subjective ici, œuvre cependant qui tend de toutes ses forces vers L’objectivité[7].
Е. Минковский[8]
Часть первая
1. Экзистенциально-феноменологические основания науки о личностях
Термин «шизоидный» характеризует человека, цельность жизненного опыта которого расщеплена двояко: во-первых, для него существует разрыв в отношениях с окружающим его миром, а во-вторых, имеется раскол в его восприятии самого себя. Такая личность не способна воспринимать себя «вместе с» остальными или ощущать себя в мире как «дома»; наоборот, этот человек ощущает себя отчаянно одиноким и отделенным от остальных – и, более того, он не чувствует себя цельным: он словно «расколот» всевозможными образами, возможно, его разум более или менее слабо связан с телом, возможно, в нем присутствуют два или более «я», и так далее.
В настоящей книге предпринимается попытка дать экзистенциально-феноменологическое описание некоторым шизоидным и шизофреническим личностям. Впрочем, прежде чем приступить к подобному описанию, следует сопоставить данный подход с подходом официальной клинической психиатрии и психопатологии.
Экзистенциальная феноменология стремится выразить природу личного опыта применительно к окружающему миру и самому себе. Это не столько стремление выявить конкретные подробности такого опыта, сколько попытка поместить все частности и подробности в общий контекст бытия человека в мире. Безумства, словесные и прочие, со стороны шизофреника останутся, по сути, закрытой книгой, если мы не сумеем понять их экзистенциальный контекст. Характеризуя одну из возможностей сойти с ума, я попробую показать, что имеется постижимый переход от здорового шизоидного бытия-в-мире к невротическому бытию-в-мире. При этом, используя термины «шизоидный» и «шизофренический» соответственно для здорового и невротического состояний, я нисколько не намерен употреблять эти термины в их привычном значении, усвоенном клинической психиатрией; нет, для меня эти термины являются феноменологическими и экзистенциалистскими.
Клинический фокус обыкновенно сужают ради того, чтобы он охватывал лишь несколько способов из разнообразия шизоидного бытия существования или перехода от отправной шизоидной точки к шизофреническому бытию. Но изложение на страницах ниже опыта, пережитого пациентами, призвано продемонстрировать тот факт, что эти случаи невозможно объяснить только посредством современных методов клинической психиатрии и психопатологии; напротив, они требуют экзистенциально-феноменологического описания, которое проявляет их подлинно человеческую значимость и содержание.
В настоящей книге я, насколько мне это удавалось, отталкивался непосредственно от опыта пациентов и старался свести к минимуму обсуждение исторических, теоретических и практических вопросов, поднимаемых vis-à-vis[9] психиатрией и психоанализом. Та конкретная форма человеческой трагедии, с которой мы сталкиваемся здесь, никогда ранее не предъявлялась публике с достаточной ясностью и определенностью. Поэтому мне кажется, что необходимо прежде всего уделить первостепенное внимание описанию. Вследствие сказанного текущая глава содержит лишь предельно краткое изложение основной цели книги и должна помочь нам избежать катастрофического непонимания. Моя книга адресована двум читательским группам: с одной стороны, она обращается к психиатрам, которые хорошо знакомы с общей клинической картиной, но, возможно, не привыкли рассматривать отдельные «случаи» qua person[10], как предлагаю я; с другой стороны, книга рассчитана на людей, знакомых с подобными личностями или им сочувствующих, но таких, кто не сталкивался с этими личностями в качестве «клинического материала». Полагаю, что книга неизбежно чем-то не удовлетворит обоих адресатов.
Будучи психиатром, я изначально должен был преодолеть серьезный вызов: допустимо ли переходить «напрямую» к пациентам, если психиатрические термины, которыми я располагаю, опираются на тот факт, что пациенты как бы находятся на определенном расстоянии от психиатра? Как показать общечеловеческую значимость и содержание состояния пациента, если слова, которые приходится употреблять, придуманы как раз для того, чтобы изолировать эпизоды жизни пациента и сводить их к сугубо клиническим проявлениям? Неудовлетворенность психиатрическими и психоаналитическими терминами распространена довольно широко, в том числе среди тех, кто чаще всего этими терминами пользуется. Крепнет мнение, что термины психиатрии и психоанализа почему-то не отражают и не выражают того, что «действительно имеется в виду». Но будет разновидностью самообмана предполагать, что возможно говорить одно, а думать другое.
Поэтому удобнее начать с характеристики ряда используемых далее слов. Как сказал Витгенштейн, мышление есть язык[11]. Техническая терминология представляет собой язык внутри языка. Рассмотрение такой специальной терминологии является одновременно попыткой обнажить ту реальность, которую слова прячут или разоблачают.
Наиболее серьезное возражение по поводу технической терминологии, принятой сегодня для описания пациентов психиатрических лечебниц, состоит в следующем: это слова, которые расщепляют человека вербально, аналогично экзистенциальному расщеплению, предмету настоящей книги. Но нельзя адекватно охарактеризовать экзистенциальное расщепление, не отталкиваясь от представления о едином целом; увы, подобного представления не существует, и вообще его вряд ли возможно выразить языком нынешних психиатрии и психоанализа.
Слова современной специальной терминологии либо относятся к человеку, изолированному от ближних и от мира, то есть к сущности, пребывающей вне «связи» с другими и с миром, либо же они характеризуют ложно субстанциализированные стороны этой изолированной сущности. Слова здесь следующие: разум и тело, психе и сома, психологическое и физическое, личность, «я», организм. Все эти термины являются абстракциями. Вместо изначального слияния «я» и «ты» мы изолируем одного-единственного человека и концептуализируем различные стороны его личности через «эго», «супер-эго» и «ид»[12]. Прочие люди превращаются во внутренние или внешние объекты либо в их сплав. Возможно ли адекватно обсуждать взаимоотношения «я» и «ты» в терминах взаимодействия двух ментальных аппаратов? Или даже так: возможно ли писать, что значит скрывать что-то от себя или обманывать самого себя, воображая преграды между различными частями одного ментального аппарата? С этой трудностью сталкивается не только классическая фрейдистская метапсихология, она возникает перед любой теорией, которая начинает с человека или с части человека, обособленных от его связей с ближними в окружающем мире. По нашему личному опыту нам известно, что мы являемся самими собой только в нашем мире и при его посредстве, следовательно, «наш» мир умирает вместе с нами, а окружающий: «подлинный» мир продолжает существовать без нас. Лишь экзистенциалистское мышление предприняло попытку выразить исходное осознание человеком самого себя в связи с прочими в его мире через термин, адекватно выражающий эту цельность. Экзистенциально любая частность считается проявлением экзистенции человека, его бытия-в-мире. Если отказаться от такого подхода, если игнорировать человека в его связях с ближними и «встроенности» в мир, если отвергать тот факт, что человек не существует без «своего» мира, а его мир не может существовать без него, то мы обречены начать наше исследование шизоидных и шизофренических случаев с вербального и концептуального раскола, равнозначного расщеплению цельности шизоидного бытия-в-мире. Более того, решение вторичной вербально-концептуальной задачи повторного воссоединения разнообразных фрагментов и осколков уподобится отчаянному стремлению шизофреника восстановить его разъединенные «я» и мир. Коротко говоря, мы разбили Шалтая-Болтая, которого нельзя собрать вновь никакими длинными, мудрыми или составными словесами, будь то «психофизическое», «психосоматическое», «психобиологическое», «психопатологическое», «психосоциальное» или что-то еще.
Если дело обстоит подобным образом, не исключено, что для понимания шизоидного опыта будет полезен обзор происхождения такой шизоидной теории. В следующем разделе я воспользуюсь феноменологическим методом, чтобы попытаться ответить на этот вопрос.
Бытие человека (в дальнейшем я буду использовать термин «бытие» для обозначения всего того, что составляет понятие «человек») можно рассматривать с различных точек зрения, причем исследование возможно сосредоточить на том или ином проявлении этого бытия. Прежде всего человека можно трактовать как личность и как объект. Но даже один и тот же объект, рассмотренный с различных точек зрения, побуждает дать два совершенно разных описания, а эти описания порождают две совершенно разные теории, которые ведут к двум совершенно разным типам поведения и действия. Исходный способ рассмотрения объекта определяет все наше последующее взаимодействие. Давайте взглянем вот на этот двусмысленный – или противоречивый – рисунок.
На этом рисунке можно увидеть и фигуру в форме вазы, и два человеческих лица, обращенных друг к другу. При этом на рисунке нет двух объектов; тут налицо один объект, но, в зависимости от того какое впечатление он на нас производит, мы видим либо одну, либо другую картину. Отношение частей к целому в одном случае полностью противоположно отношению частей к целому в другом случае. Если взяться за описание одного из лип, мы, двигаясь последовательно сверху вниз, выделим лоб, нос, верхнюю губу, рот. подбородок и шею. Хотя мы описали ту же линию, которая при ином рассмотрении может превратиться в контур вазы, в своем описании мы вели речь не об очертаниях вазы, а о человеческом лице.
Допустим, если вы сядете напротив меня, я могу воспринимать вас как еще одну личность, наподобие меня самого; вам не придется как-то меняться или вести себя как-то необычно, чтобы я увидел в вас сложную физико-химическую систему, отягощенную, вероятно, собственными идиосинкразиями, но все равно химическую. С этой точки зрения вы уже не личность, а организм. На языке же экзистенциальной феноменологии другой, трактуемый как личность или как организм, является объектом различных интенциональных актов. Не нужно искать какой-либо дуализм в том смысле, что мы предполагаем сосуществование в объекте двух различных субстанций – психической и соматической; нет, перед нами два эмпирических гештальта[13] – личность и организм.
Отношение человека к организму отличается от отношения к личности. Описание другого как организма отлично от описания другого как личности в той же степени, в какой описание вазы отличается от описания человеческого профиля; да и сама теория относительно другого как организма далека от теории о другом как личности. По отношению к организму мы ведем себя иначе, нежели по отношению к личности. Наука о личностях посвящена изучению человеческих существ, она возникает из постижения другого как к личности и развивается далее на основании признания того, что другой остается личностью.
Например, если слушаешь, как говорит другой, то возможно а) изучать вербальное поведение, имея в виду процессы в нервной системе и речевой аппарат как таковой, либо б) пытаться понять, что говорит собеседник. Во втором случае объяснение вербального поведения в общем контексте органических изменений в организме, неизбежное conditio sine qua non[14] вербализации, не имеет непосредственного отношения к пониманию того, что говорит индивидуум. А понимание сказанного другим, напротив, не сообщает нам, как его мозговые клетки потребляют кислород. То есть понимание того, что говорит наш собеседник, ни в коей мере не замещает объяснения соответствующих органических процессов, и наоборот. Опять-таки здесь не приходится помышлять о дуализме разума и тела. Два описания, в данном случае персонализированное и органическое, приложенные к общению или к любой другой наблюдаемой человеческой деятельности, представляют собой каждое результат конкретного исходного интенционального акта. При этом каждый интенциональный акт ведет в собственном направлении и обеспечивает собственные итоги. Мы выбираем точку зрения (совершаем интенциональный акт) в общем контексте нашего «интереса» к другому. Человек, трактуемый как организм, и человек, трактуемый как личность, раскрывают, перед исследователем различные стороны человеческой реальности. Обе трактовки вполне допустимы методологически, но необходимо внимательно отслеживать возможную путаницу.
Другой как личность видится мне как человек, ответственный за свой выбор и как способный на этот выбор, то есть, если коротко, как самостоятельно действующее лицо. А если рассматривать его как организм, то все, происходящее в этом организме, можно концептуализировать на любом уровне сложности – атомном, молекулярном, клеточном, системном или органическом. Персонализируемое поведение оценивается по опыту конкретной личности и ее интенциям, а поведение органическое может оцениваться лишь как сокращение или расслабление определенных мышц и т. п. Вместо последовательности опыта мы начинаем вникать в последовательность процессов. Поэтому в человеке, воспринимаемом органически, нет места ни желаниям, ни страхам, ни надеждам, ни отчаянию. Результатом наших объяснений становятся не его интенции по отношению к окружающему миру, а кванты энергии в некоей энергетической системе.
Трактуемый как организм, человек выступает всего-навсего совокупностью объектов («вещей» в философском понимании), а процессы, протекающие в этом организме, являются вещественными процессами. Принято ошибочно считать, будто возможно углубить свое понимание личности другого, если «перевести» персонализированное понимание на безличностный язык последовательности, или системы вещественных процессов. Даже в отсутствие теоретического обоснования налицо стремление транслировать наше персонализированное восприятие другого как личности в обезличивающее описание. Мы поступаем так регулярно, и не важно, используются ли в наших «объяснениях» машинные или биологические аналогии. Следует указать, что я не возражаю против использования механических или биологических аналогий как таковых и не отвергаю интенциональных актов рассмотрения человека в качестве сложной машины или животного. Мое утверждение сводится к тому, что представление о человеке как о личности сбивается с пути, образно выражаясь, если оно трансформируется в описание человека как машины или как органической системы вещественных процессов. Обратное также справедливо (см. работу Брайерли[15]).
Кажется несколько странным, что, хотя физические и биологические науки о вещественных процессах взяли верх над стремлением персонализировать мир вещей или наделять человеческими интенциями животное царство, подлинная наука о личностях едва зарождается по причине застарелого желания деперсонализировать или овеществлять личности.
На нижеследующих страницах мы уделим пристальное внимание людям, которые воспринимают себя как автоматы, как роботов, как детали механизмов и даже как животных. Подобных людей совершенно обоснованно считают сумасшедшими. Но почему бы нам не признать столь же безумной теорию, которая норовит превратить личности в автоматы или в животных? Восприятие себя и других в качестве личностей первично и самоценно. Оно возникает прежде научных или философских затруднений, вызванных вопросом о том, откуда берется такое восприятие и как его надлежит объяснять.
Отмечу, что трудно объяснить упорное проникновение в наше мышление элементов того, что Макмюррей[16] называет «биологической аналогией». Он пишет: «Следует ожидать, что возникновению научной психологии будет сопутствовать переход от органического к личностному… представлению о единстве», что мы обретем возможность мыслить об отдельном человеке, воспринимать его не как объект или организм, но как личность, что нам необходим специфически личностный способ выражения этой формы единства. Поэтому на последующих страницах предстоит свернуть горы в попытке описать совершенно особую, персональную форму деперсонализации и дезинтеграции, а вот открытие «логической формы, через которую единство личности может быть отчетливо воспринято» (там же), по-прежнему остается уделом будущего.
Конечно, в психопатологии имеется широкое разнообразие описаний деперсонализации и расщепления. Впрочем, никакая психопатологическая теория не в состоянии полностью преодолеть искажения, вызванные индивидуальными особенностями личности, хотя она вполне может стремиться к отрицанию этих особенностей. Психопатология как наука, достойная своего названия, должна опираться на «психическое» (на ментальный аппарат или эндопсихическую[17] структуру). Она должна предполагать, что объективация, с овеществлением или без него, вследствие мышления в терминах фиктивной «вещи» или системы, является адекватным концептуальным коррелятом другого как личности во взаимодействии с прочими людьми. Более того, такая наука должна предполагать, что ее концептуальная модель способна функционировать аналогично функционированию здорового организма – и аналогично функционированию организма, больного физически. Подобные сравнения могут сколько угодно изобиловать частичными аналогиями, но психопатология в силу самой природы своего основного подхода устраняет возможность восприятия дезорганизации пациента как неспособности достичь специфически личностной формы единства. Это все равно что пытаться получить лед, кипятя воду. Само существование психопатологии увековечивает тот дуализм, которого норовят избегать большинство психопатологов и который очевидно ложен. Но этот дуализм не поддается искоренению внутри контекста психопатологии как науки, и спасением от него выглядит, пожалуй, только монизм, который сводит один термин к другому и представляет собой очередной виток ложной спирали.
Мне могут указать на то, что истинный ученый всегда стремится сохранять «объективность». Подлинная наука персонального существования должна тяготеть к максимально возможной беспристрастности. Физика и прочие науки о естественных объектах должны предоставить науке о личностях право быть беспристрастной в том отношении, что она будет беспристрастна в собственном поле исследований. Если считается, что ради беспристрастности надо стать «объективным», то есть деперсонализировать личность, выступающую объектом нашего изучения, то всякому искушению поступить так под впечатлением, что тем самым мы приближаемся к научному методу, следует решительно сопротивляться. Деперсонализация в теории, которая желает стать теорией описания личностей, ложна ничуть не менее шизоидной деперсонализации других и представляет собой, в предельном выражении, интенциональный акт. Выполняемое якобы во имя науки, подобное овеществление приносит ложное «знание». Перед нами заблуждение, столь же жалкое, как и ложная персонализация объектов.
К несчастью, слова «персональный» и «субъективный» настолько подвержены злоупотреблению, что уже лишились возможности характеризовать любой подлинный акт восприятия другого как личности (говоря об этом, мы вынуждены использовать слово «объективный»), зато по умолчанию подразумевается, что в изучение другого вмешиваются какие-то личные чувства и отношения, искажающие наше восприятие этого другого. Складывается ощущение, что достойным уважения словам «объективный» или «научный» мы противопоставляем компрометирующие «субъективный», «интуитивный» и, хуже всего, «мистический». Например, любопытно, что нередко можно встретить выражение «чисто субъективный», тогда как практически невозможно рассуждать о ком-то, кто «чисто объективен».
Величайшим среди психопатологов был Фрейд. Это настоящий герой. Он спустился в «преисподнюю» и смело встретился там с кошмарами. Он нес с собой свою теорию, подобно голове Медузы[18], и эта теория превращала кошмары в камень. Мы, идущие за Фрейдом, обладаем знанием, с которым он возвратился и которое передал нам. Он выжил. А мы должны понять, сумеем ли выжить, не пользуясь теорией, которая в некоторой степени есть средство обороны.
Отношение к пациенту как к личности и как к объекту
В экзистенциальной феноменологии экзистенция, о которой идет речь, может принадлежать себе («я») или другому. Когда другим выступает пациент, экзистенциальная феноменология превращается в попытку реконструировать способ пациента быть в его мире, хотя в терапевтическом отношении фокус может смещаться на бытие пациента с собой.
Пациенты приходят к психиатру с жалобами, которые чрезвычайно разнообразны по содержанию – от явно локализуемых затруднений («Мне не хочется прыгать с самолета») до затруднений, которые формулируются крайне расплывчато («Не могу объяснить, почему я пришел. Наверное, со мной просто что-то не так»). Впрочем, будь исходная жалоба отчетливо выраженной или невнятной, понятно, что пациент привносит в ситуацию лечения, преднамеренно или неосознанно, свою экзистенцию, все свое бытие-в-мире. Кроме того, понятно, что всякая сторона его бытия-в-мире соотносится каким-то образом со всеми прочими сторонами этого бытия, хотя способ, каким артикулируются сочетания указанных сторон, может выглядеть неочевидным. Задача экзистенциальной феноменологии состоит в артикуляции «мира» другого и способа его бытия в этом мире. Изначально мое собственное представление о масштабах мира и особенностях бытия пациента может не совпадать с его представлением, как и с представлениями других психиатров. Например, любого отдельно взятого человека я считаю конечным, то есть таким, у которого было начало и будет конец. Он родился и рано или поздно умрет. Между тем у него есть тело, «привязывающее» его к данному времени и данному месту. Эти факты, на мой взгляд приложимы к любому отдельно взятому человеку. Мне не придет в голову их перепроверять при очередной встрече с новой личностью. Но эти факты нельзя доказать или опровергнуть. У меня был пациент, который мыслил горизонты собственного бытия, выходя далеко за пределы рождения и смерти: он заявлял, ссылаясь на «реальность» и отрицая, что «просто фантазирует», что фактически не привязан к одному времени и одному месту. Я не воспринимал его как душевнобольного и не мот доказать, что он неправ, даже если бы захотел. Тем не менее с практической точки зрения очень важно уметь осознавать, что понятие и (или) опыт относительно бытия у одного человека могут принципиально отличаться от понятий и опыта другого. В таких случаях нужно помещать себя как личность в чужую схему мироздания, а не просто рассматривать другого как объект нашего мира, внутри всеобъемлющей системы наших собственных координат. Нужно выполнять такую переориентировку без предубеждений по поводу того, кто прав и кто ошибается. Способность поступать таким образом является абсолютной и очевидной предпосылкой работы с душевнобольными.
Наконец имеется еще одна сторона человеческого бытия, важнейшая для психотерапии в сравнении с прочими способами лечения. Любой отдельно взятый человек в одно и то же время отделен от ближних и связан с ними. Эти отделенность и связанность необходимы и взаимно дополняют друг друга. Личностная связь возможна только между существами, которые разделены, но не изолированы. Мы сами не пребываем в изоляции, но и не владеем одним и тем же физическим телом. Перед нами парадокс – потенциально трагический парадокс, суть которого в том, что наша связанность с другими есть ключевое условие нашего бытия, как и наша отделенность от них, но любой из окружающих нас людей не является необходимой частью нашего бытия.
Психотерапия – это деятельность, в которой указанная сторона бытия пациента, то есть его связь с другими людьми, используется в терапевтических целях. Психиатр исходит из убеждения, что, поскольку связь потенциально присуща каждому человеку, он, возможно, не тратит время зря, просиживая часами с молчащим кататоником, который всем своим поведением показывает, что не осознает своего существования.
2. Экзистенциально-феноменологические основания понимания психоза
Современный психиатрический жаргон обладает еще одной характерной особенностью. Это стремление трактовать психоз как провал социальной или биологической приспособляемости, как неприспособленность крайне радикального свойства, как потерю контакта с реальностью, как дефицит мировосприятия. По замечанию ван ден Берга[19], этот жаргон представляет собой подлинный «дискредитирующий вокабуляр». Дискредитация здесь понимается не в нравственном толковании – во всяком случае, не в понимании девятнадцатого столетия; во многом этот жаргон есть плод попыток избежать размышлений с точки зрения свободы, выбора и ответственности. Но в нем подразумевается некий «общепринятый» способ человеческого бытия, некий образ жизни, которому психически больной не соответствует. На самом деле я вовсе не отвергаю всех тех понятий, которые скрываются за определением «дискредитирующий вокабуляр». Более того, мне кажется, что требуется быть откровеннее в обсуждении наших чувств, побуждающих нас называть того или иного человека психически нездоровым. Признавая кого-либо душевнобольным, я нисколько не лукавлю, указывая, что этот человек страдает расстройством психики, что он может представлять опасность для самого себя и для других, что ему требуется уход и лечение в психиатрической больнице. Впрочем, одновременно я сознаю, что меня окружают другие люди: они официально считаются здоровыми, но их психика серьезно расстроена, они могут представлять такую же или еще большую опасность для самих себя и других, однако общество не видит в них душевнобольных и отказывается помещать их в приюты. Мне известно, что человек, подверженный, как говорят, галлюцинациям, может в этих своих галлюцинациях сообщать правду – прямо и непосредственно, без обиняков и метафор, а также что «треснувший» разум шизофреника способен принимать свет, который не проникает в неповрежденные, но закрытые умы многих здоровых людей. По утверждению Ясперса, Иезекииль был шизофреником[20].
Вынужден признаться, что я нахожусь в некотором затруднении, поскольку сам являюсь психиатром, и это затруднение ощущается в большей части настоящей книги. Дело в том, что, исключая случаи хронической шизофрении, мне очень непросто выявлять «признаки и симптомы» психоза в тех людях, которых я опрашиваю. Я привык считать это обстоятельство своим недостатком – очевидно, думается мне, я не настолько умен и опытен, чтобы опознавать галлюцинации, мании и т. п. Сравнивая свой опыт общения с душевнобольными и описания психоза в стандартных учебниках, я неизменно заключал, что примеры, приводимые авторами учебников, не совпадают с тем, что наблюдал я сам. Может, они правы, а я ошибаюсь. Или наоборот – ошибаются они. Но как это доказать? Нижеследующие соображения, по-видимому, должны прояснить картину.
Стандартные учебники содержат описание поведения людей в том поведенческом поле, которое предусматривает присутствие психиатра. Поведение пациента является до определенной степени функцией поведения психиатра в том же поведенческом поле. Стандартный психически больной есть функция стандартного психиатра в стандартной психиатрической клинике. Показательно здесь, что за широко известным рассуждением Блейлера о шизофрениках стоит следующее утверждение: когда все было сказано и сделано, пациенты оказывались для него более чуждыми, чем птицы в саду[21].
Мы знаем, что Блейлер обращался со своими пациентами так, как поступал бы обыкновенный клиницист-непсихиатр: он выказывал уважение, любезность, внимание и научную любознательность. Но ведь пациент болен в медицинском смысле этого слова, и врачу необходимо поставить ему диагноз через наблюдение за внешними проявлениями болезни. Такой подход множеству психиатров кажется совершенно самоочевидным и оправданным, а потому они наверняка затруднятся понять, к чему я, собственно, веду. Конечно, сегодня имеется разнообразие школ мысли, но в нашей стране данная школа по-прежнему является самой многочисленной. Кроме того, именно этот подход признают само собой разумеющимся люди, несведущие в медицине. Напомню, что на страницах этой книги я обсуждаю пациентов с психическими расстройствами (то естъ не себя и не вас, как немедленно скажет себе большинство людей). Психиатры до сих пор держатся за этот подход в своей практике, неохотно смиряясь с существованием взглядов, мировоззрений и методов, которые с ним несовместимы. В этом подходе столько хорошего и ценного, он сулит такую надежность, что кто угодно вправе проверить как можно пристрастнее утверждение, будто некая клиническая профессиональная оценка тут не годится и даже может вводить в заблуждение при стечении обстоятельств. Мало просто обращать внимание на проявление чувств пациента в его поведении. Хороший врач-клиницист допускает, что, если пациент обеспокоен, его кровяное давление может быть выше обычного, пульс может участиться и т. д. Крайне важно то, что, проверяя «сердце» или даже человека в целом, как цельный организм, у нас не принято интересоваться природой собственных чувств в отношении проверяемого; всякие чувства подобного рода отвергаются как неуместные. Тем самым врач демонстрирует приверженность более или менее стандартным профессиональным взглядам и методам.
Тот факт, что классическая клиническая психиатрия фактически не изменилась со времен Крепелина[22], можно доказать, сопоставив нижеследующую цитату со сходными положениями любого современного британского учебника по психиатрии (например, Майера-Гросса, Слейтера и Рота[23]).
Вот описание Крепелином пациента с признаками кататонического возбуждения, данное студентам на лекции в 1905 г.:
Пациента, которого я покажу вам сегодня, приходится едва ли не вносить в помещение, так как он ходит спотыкаясь, с опорой на внешнюю сторону ступни. Войдя, он сбрасывает шлепанцы, очень громко поет гимн, а потом дважды выкрикивает (по-английски): «Мой отец, мой настоящий отец!» Ему восемнадцать лет, он учится в Oberrealchule (старшие классы нынешней крупной школы), высок, довольно крепкого телосложения, но с бледным лицом, на котором часто и ненадолго выступает румянец. Пациент садится с закрытыми глазами и не обращает внимания на окружающее. Он не открывает глаз, даже когда с ним заговаривают, но отвечает, сперва очень тихо, а потом все громче, срываясь на крик. Когда его спрашивают, где он находится, он отвечает: «Вы тоже хотите это узнать? Я расскажу вам, кто измеряется, измерен и будет измеряться. Я все это знаю и мог бы рассказать, но не хочу». Когда его спрашивают, кто он такой, он кричит: «Как тебя зовут? Что он закрывает? Он закрывает глаза. Что он слышит? Он не понимает, ничего не понимает. Как? Кто? Где? Когда? Что это значит? Когда я велю ему смотреть, он смотрит неправильно. Эй ты, просто посмотри! Что это такое? В чем дело? Сюда смотри – а он не смотрит. Я говорю ему, что это такое? Почему ты мне не отвечаешь? Опять дерзишь? Почему ты такой дерзкий? Сейчас я тебе покажу! Не юли ради меня. И не смей умничать. Ты дерзкий и наглый, такой дерзкий и наглый тип, какого я еще не встречал. Что, снова начинает? Ты вообще ничего не понимаешь, вообще ничего; он вообще ничего он не понимает. Если ты пойдешь, он не пойдет, никуда не пойдет. Продолжаешь дерзить? Все продолжаешь, да? Как они смотрят, они смотрят!» и т. д. Под конец он бранится, издавая совершенно нечленораздельные звуки.
Крепелин отмечает среди прочего «недоступность» пациента:
Хотя он, без сомнения, понимает все вопросы, он не желает делиться с нами никакими полезными сведениями. Его речь… это лишь череда бессвязных фраз, не имеющих ни малейшего отношения к общей ситуации (курсив. – Р. Д. Л.).
Нет никакого сомнения в том, что этот пациент демонстрирует «признаки» кататонического возбуждения. Впрочем, истолкование его поведения будет зависеть от отношений, которые мы установим с пациентом, и мы многим обязаны здесь яркому описанию Крепелина, которое словно позволяет пациенту предстать перед нами воочию спустя пятьдесят лет. Что делает, по-видимому, этот пациент? Он явно ведет диалог между пародированной версией Крепелина в его сознании и собственным непокорным, бунтующим «я»: «Вы тоже хотите это узнать? Я расскажу вам, кто измеряется, измерен и будет измеряться. Я все это знаю и мог бы рассказать, но не хочу». Это достаточно ясная речь. Предположительно он глубоко возмущен такой формой допроса перед студентами, собравшимися на лекцию. Не исключено, что он не понимает, какова связь допроса с тем, что изводит его самого. Но все перечисленное для Крепелина не является «полезными сведениями», это всего-навсего дополнительные «признаки болезни».
Крепелин спрашивает пациента, как того зовут. Пациент реагирует на вопрос преувеличенно вспыльчиво и тем самым выражает свое отношение к подходу Крепелина и к тому, что за этим подходом прячется: «Как тебя зовут? Что он закрывает? Он закрывает глаза… Почему ты мне не отвечаешь? Опять дерзишь? Почему ты такой дерзкий? Сейчас я тебе покажу! Не юли ради меня» (то есть он чувствует: Крепелин возражает потому, что не готов «торговать собой» перед полной аудиторией студентов), и т. д. Ты такой дерзкий, бесстыдный, жалкий, негодный тип, какого я ни разу не встречал и т. д.
Кажется очевидным, что поведение этого пациента можно трактовать по меньшей мере двояко, аналогично тому, как мы трактовали вазу и человеческое лицо. Можно усмотреть в его поведении «признаки болезни» или увидеть в таком поведении способ выражения экзистенции. Экзистенциально-феноменологическая конструкция служит выводом относительно чувств и действий другого. Как пациент воспринимает Крепелина? По всей видимости, он страдает и мучается. На что он «намекает», говоря и действуя подобным образом? Он возражает против того, чтобы его измеряли и проверяли. Ему хочется быть услышанным.
Истолкование как функция взаимоотношений с пациентом
Клинический психиатр, желающий произвести впечатление «научности» или «объективности», может сознательно ограничиться «объективно» наблюдаемым поведением пациента перед собой. Но тут все просто – это на самом деле невозможно. Видеть «признаки болезни» отнюдь не значит сохранять беспристрастность. Точно так же вовсе не беспристрастно толковать улыбку лишь как сокращение лицевых мышц (Мерло-Понти)[24]. Мы не в состоянии воспринимать человека нейтрально, мы опираемся на свои ментальные конструкции и «истолкования» его поведения, стоит нам вступить с ним во взаимоотношения. Так происходит даже при негативных ситуациях, когда нас останавливает или ставит в тупик отсутствие взаимности со стороны пациента, когда мы ощущаем, что никто не откликается на наши обращения. Тем самым мы вплотную приближаемся к сути проблемы.
Трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся, в чем-то схожи с теми, которые испытывает расшифровщик иероглифов; такую параллель любил проводить Фрейд. Вот только наши трудности значительнее. Теория истолкования, или расшифровки, иероглифической письменности и других древних текстов в прошлом столетии получила существенное развитие благодаря Дильтею[25], и она намного опередила теорию истолкования невротических, «иероглифических» речей и поступков. Возможно, нам станет несколько проще, если мы сравним наш случай со случаем историка, изложенным у Дильтея. В обоих примерах важнейшей оказывается задача истолкования.
Древние документы можно анализировать формально с точки зрения структуры и стиля, лингвистических особенностей, характерных идиосинкразий синтаксиса и т. д. Клиническая психиатрия стремится подвергать аналогичному формальному анализу речь и поведение пациентов. Такой формализм, исторический и клинический, явно накладывает немалые ограничения. Помимо упомянутого формального анализа можно дополнительно изучать тексты посредством знакомства с совокупностью социально-исторических условий, в которых они возникали. Сходным образом мы обыкновенно желаем расширить, насколько это возможно, наш формальный и статичный анализ изолированных клинических «признаков» до понимания их места в истории жизни человека. То есть выдвигаем в том числе динамико-генетические гипотезы. Впрочем, историческая информация per se[26], относится ли она к древним текстам или к пациентам, поможет лучше их понять лишь при условии, что мы способны проявлять сочувствие – или, что будет точнее, эмпатию[27].
Поэтому, когда Дильтей «характеризует взаимоотношения между автором и толкователем как фактор, обуславливающий возможность постижения текста, он на самом деле обнажает пресуппозицию всех интерпретаций, в основании которых лежит постижение»[28].
По Дильтею, (без засечек) мы объясняем посредством сугубо интеллектуальных процессов, но понимаем посредством сотрудничества всех сил разума в постижении. При понимании мы начинаем со связи данного, живого целого для того, чтобы сделать прошлое постижимым на его языке.
Наш взгляд на другого зависит от нашего желания вовлечь всех стороны нашей личности в акт постижения. Вдобавок кажется, что нам необходимо сориентироваться относительно этого человека так, чтобы у нас осталась возможность его понимать. Искусство понимания тех сторон индивидуального бытия, которые мы можем наблюдать в качестве выражения его образа бытия-в-мире, вынуждает сопоставлять его поступки с его же способом восприятия ситуации, в которой он находится вместе с нами. Аналогично именно с точки зрения его настоящего нам приходится понимать его прошлое, а вовсе не только исключительно наоборот. Это опять-таки верно и в негативных примерах, когда пациент показывает своим поведением, что он отрицает существование ситуаций, когда мы вместе с ним; скажем, когда мы чувствуем, что нас будто бы не замечают, или когда кажется, что мы существуем только применительно к собственным желаниям и тревогам пациента. Вопрос не в том, приписывать ли некие предопределенные смыслы данному поведению. Если мы трактуем поступки пациента как «признаки болезни», то тем самым заранее налагаем свои категории мышления на его поведение, аналогично тому, как он, по нашему мнению, трактует нас; причем мы будем делать то же самое, воображая, будто способны «объяснить» его настоящее как механический результат непреложного «прошлого».
