Марсианское зелье (сборник)
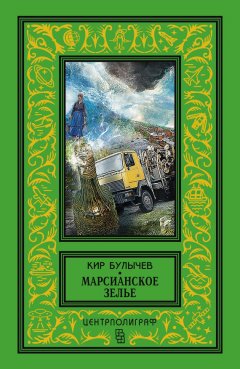
© К. Булычев, наследники, 2014
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
© Художественное оформление серии, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
Любимый ученик факира
События, впоследствии смутившие мирную жизнь города Великий Гусляр, начались, как и положено, буднично.
Автобус, шедший в Великий Гусляр от станции Лысый Бор, находился в пути уже полтора часа. Он миновал богатое рыбой озеро Копенгаген, проехал дом отдыха лесных работников, пронесся мимо небольшого потухшего вулкана. Вот-вот должен был открыться за поворотом характерный силуэт старинного города, как автобус затормозил, съехал к обочине и замер, чуть накренившись, под сенью могучих сосен и елей. В автобусе люди просыпались, тревожились, будили утреннюю прохладу удивленными голосами.
– Что случилось? – спрашивали они друг у друга и у шофера. – Почему встали? Может, поломка? Неужели авария?
Дремавший у окна молодой человек приятной наружности с небольшими черными усиками над полной верхней губой также раскрыл глаза и несколько удивился, увидев, что еловая лапа залезла в открытое окно автобуса и практически уперлась ему в лицо.
– Вылезай! – донесся до молодого человека скучный голос водителя. – Загорать будем. Говорил же я им: куда мне на линию без домкрата? Обязательно прокол будет. А мне механик свое: не будет сегодня прокола, а у домкрата все равно резьба сошла!..
Молодой человек представил себе домкрат с намертво стертой резьбой и поморщился: у него было сильно развито воображение. Он поднялся и вышел из автобуса.
Шофер, окруженный пассажирами, стоял на земле и рассматривал заднее колесо, словно картину Рембрандта.
Мирно шумел лес. Покачивали гордыми вершинами деревья. Дорога была пустынна. Лето уже вступило в свои права. В кювете цвели одуванчики, и кареглазая девушка в костюме джерси и голубом платочке, присев на пенечек, уже плела венок из желтых цветов.
– Или ждать, или в город идти, – сказал шофер.
– Может, мимо кто проедет? – выразил надежду невысокий плотный белобрысый мужчина с редкими блестящими волосами, еле закрывающими лысину. – Если проедет, мы из города помощь пришлем.
Говорил он авторитетно, но с некоторой поспешностью в голосе, что свидетельствовало о мягкости и суетливости характера. Его лицо показалось молодому человеку знакомым, да и сам мужчина, закончив беседу с шофером, обернулся к нему и спросил прямо:
– Вот я к вам присматриваюсь с самой станции, а не могу определить. Вы в Гусляр едете?
– Разумеется, – ответил молодой человек. – А разве эта дорога еще куда-нибудь ведет?
– Нет, далее она не ведет, если не считать проселочных путей к соседним деревням, – ответил плотный блондин.
– Значит, я еду в Гусляр, – сказал молодой человек, большой сторонник формальной логики в речи и поступках.
– И надолго?
– В отпуск, – ответил молодой человек. – Мне ваше лицо также знакомо.
– А на какой улице в Великом Гусляре вы собираетесь остановиться?
– На своей, – сказал молодой человек, показав в улыбке ровные белые зубы, которые особенно ярко выделялись на смуглом, загорелом и несколько изможденном лице.
– А точнее?
– На Пушкинской.
– Вот видите, – обрадовался плотный мужчина и наклонил голову так, что луч солнца отразился от его лысинки, попал в глаз девушке, создававшей венок из одуванчиков, и девушка зажмурилась. – А я что говорил?
Он радовался, как следователь, получивший при допросе упрямого свидетеля очень важные показания.
– А в каком доме вы остановитесь?
– В нашем, – сказал молодой человек, отходя к группе людей, изучавших сплюснутую шину.
– В шестнадцатом?
– В шестнадцатом.
– Я так и думал. Вы будете Георгий Боровков, Ложкин по матери.
– Он самый, – ответил молодой человек.
– А я – Корнелий Удалов, – представился плотный блондин. – Помните ли вы меня – я вас в детстве качал на колене?
– Помню, – кивнул молодой человек. – Ясно помню. И я у вас с колена упал. Вот шрам на переносице.
– Ох! – безмерно обрадовался Корнелий Удалов. – Какая встреча! И неужели ты, сорванец, все эти годы о том падении помнил?
– Еще бы, – сказал Георгий Боровков. – Меня из-за этого почти незаметного шрама не хотели брать в лесную академию раджа-йога гуру Кумарасвами, ибо это есть физический недостаток, свидетельствующий о некотором неблагожелательстве богов по отношению к моему сосуду скорби.
– К кому? – спросил Удалов в смятении.
– К моему смертному телу, к оболочке, в которой якобы спрятана нетленная идеалистическая сущность.
– Ага, – изумился Удалов и решил больше в этот вопрос не углубляться. – И надолго к нам?
– На месяц или меньше, – сказал молодой человек. – Как дела повернутся. Может, вызовут обратно в Москву. А с колесом-то плохо дело. Запаска есть?
– Без тебя вижу, – ответил шофер, с некоторым презрением глядя на синий костюм, на импортный галстук, повязанный несмотря на утреннее время и будний день, и на весь изысканный облик молодого человека.
– Запаска есть, спрашивают? – вмешался Удалов. – Или тоже на базе оставил?
– Запаска есть, а на что она без домкрата?
– Ни к чему она без домкрата, – подтвердил Удалов и спросил у Боровкова: – А ты за границей был?
– Стажировался, – ответил Боровков. – В порядке научного обмена. Надо будет автобус приподнять, а вы тем временем смените колесо. Становится жарко, а люди спешат в город.
– Ну и подними, – буркнул шофер.
– Подниму, – заверил Боровков. – Только прошу вас не терять времени даром.
– Давай, давай, шофер, – сказала ветхая бабушка из толпы пассажиров. – Человек тебе помощь предлагает.
– И она туда же! – возмутился шофер. – Вот ты, бабка, с ним на пару автобус и подымай.
Но Боровков буднично снял пиджак, передал его Удалову и обернулся к шоферу с видом человека, который уже собрался работать, а рабочее место оказалось ему не подготовлено.
– Ну, – произнес он стальным голосом. Шофер не посмел противоречить такому голосу и поспешил за запаской.
– Расступитесь, – строго велел Удалов. – Разве не видите?
Пассажиры немного подались назад.
Шофер с усилием подкатил колесо и брякнул на гравий разводной ключ.
– Отвинчивайте, – сказал Боровков.
Шофер медленно отвинчивал болты, и его губы складывались в ругательное слово, но присутствие пассажирок удерживало.
Удалов стоял в виде вешалки, держа пиджак Боровкова на согнутом мизинце и спиной оттесняя тех, кто норовил приблизиться.
– А теперь, – сказал Боровков, – я приподниму автобус, а вы меняйте колесо.
Он провел руками под корпусом автобуса, разыскивая место, где можно взяться понадежнее, затем вцепился в это место тонкими смуглыми пальцами и без натуги приподнял машину. Автобус наклонился вперед, будто ему надо было что-то разглядеть внизу перед собой, и вид у него стал глупый, потому что автобусам так стоять не положено.
В толпе ахнули, и все отошли подальше. Только Корнелий Удалов, как причастный к событию, остался вблизи.
Шофер был настолько поражен, что мгновенно снял колесо, ни слова не говоря, подкатил другое и начал надевать его на положенное место.
– Тебе не тяжело? – спросил Удалов Боровкова.
– Нет, – ответил тот просто.
И Удалов с уважением оглядел племянника своего соседа по дому, дивясь его внешней субтильности. Но тот держал машину так легко, что Удалову подумалось, что, может, автобус и впрямь не такой уж тяжелый, а это лишь сплошная видимость.
– Все, – сказал шофер, вытирая со лба пот. – Опускай.
И Боровков осторожно поставил задние колеса автобуса наземь.
Он даже не вспотел и ничем не показывал усталости. В толпе пассажиров кто-то захлопал в ладоши, а кареглазая девушка, которая кончила плести венок из одуванчиков, подошла к Боровкову и надела венок ему на голову. Боровков не возражал, а Удалов заметил:
– Размер маловат.
– В самый раз, – возразила девушка. – Я будто заранее знала, что он пригодится.
– Пиджачок извольте, – сказал Удалов, но Боровков засмущался, отверг помощь Корнелия Ивановича, сам натянул пиджак, одарил девушку белозубой улыбкой и, почесав свои черные усики, поднялся в автобус на свое место.
Шофер мрачно молчал, потому что не знал, объяснять ли на базе, как автобус голыми руками поднимал незнакомый молодой человек, или правдивее будет сказать, что выпросил домкрат у проезжавшего МАЗа. А Удалов сидел на два сиденья впереди Боровкова и всю дорогу до города оборачивался, улыбался молодому человеку, подмигивал и уже на въезде в город не выдержал и спросил:
– Ты штангой занимался?
– Нет, – скромно ответил Боровков. – Это неиспользованные резервы тела.
По Пушкинской они до самого дома шли вместе. Удалов лучше поговорил бы с Боровковым о дальних странах и местах, но Боровков сам все задавал вопросы о родственниках и знакомых. Удалову хотелось вставить что-нибудь серьезное, чтобы и себя показать в выгодном свете: он заикнулся было о том, что в Гусляре побывали пришельцы из космоса, но Боровков ответил:
– Я этим не интересуюсь.
– А как же, – спросил тогда Удалов, – загадочные строения древности, в том числе пирамида Хеопса и Баальбекская веранда?
– Все веранды – дело рук человека, – отрезал Боровков.
– Иного пути нет. Человек – это звучит гордо.
– Горький, – подсказал Удалов. – «На дне».
Он все поглядывал на два боровковских заграничных чемодана с личными вещами и подарками для родственников: если бы он не видел физических достижений соседа, наверняка предложил бы свою помощь, но теперь предлагать было все равно что над собой насмехаться.
Вечером Николай Ложкин, боровковский дядя по материной линии, заглянул к Удалову и пригласил его вместе с женой Ксенией провести вечер в приятной компании по поводу приезда в отпуск племянника Георгия. Ксения, которая уже была наслышана от Удалова о способностях молодого человека, собралась так быстро, что они через пять минут уже находились в ложкинской столовой, бывшей заодно и кабинетом: там располагались аквариумы, клетки с певчими птицами и книжные полки.
За столом собрался узкий круг друзей и соседей Ложкиных. Старуха Ложкина расщедрилась по этому случаю настойкой, которую берегла к октябрьским, потому что – а это и сказал в своей застольной речи сам Ложкин – молодые люди редко вспоминают о стариках, ибо живут своей, занятой и посторонней жизнью, и в этом свете знаменательно возвращение Гарика, то есть Георгия, к своим дяде и тете, когда он мог выбрать любой санаторий или дом отдыха на кавказском берегу или на Золотых Песках.
Все аплодировали, а потом Удалов тоже произнес тост. Он сказал:
– Наша молодежь разлетается из родного гнезда кто куда, как перелетные птицы. У меня вот тоже подрастают Максимка и дочка. Тоже оперятся и улетят. Туда им и дорога. Широкая дорога открыта нашим перелетным птицам. Но если уж они залетят обратно, то мы просто поражаемся, какими сильными и здоровыми мы их воспитали.
И он показал пальцем на смущенного и скромно сидящего во главе стола Георгия Боровкова.
– Так поднимем же этот тост, – закончил свою речь Корнелий, – за нашего родного богатыря, который сегодня на моих глазах вознес автобус с пассажирами и держал его в руках до тех пор, пока не был завершен текущий ремонт. Ура!
Многие ничего не поняли, кто понял – не поверил, а сам Боровков попросил слова.
– Конечно, мне лестно. Однако я должен внести уточнения. Во-первых, я автобус на руки не брал, а только приподнял его, что при определенной тренировке может сделать каждый. Во-вторых, в автобусе не было пассажиров, поскольку они стояли в стороне, так как я не стал бы рисковать человеческим здоровьем.
Соседям и родственникам приятно было смотреть на недавнего подростка, который бегал по двору и купался в реке, а теперь, по получении образования и заграничной командировки, не потеряв скромности, вернулся в родные пенаты.
– И по какой специальности ты там стажировался? – спросил усатый Грубин, сосед снизу, когда принялись за чай с пирогом.
– Мне, – ответил Боровков, – в дружественной Индии была предоставлена возможность пробыть два года на обучении у одного известного факира, отшельника и йога – гуру Кумарасвами.
– Ну и как ты там? Показал себя?
– Я старался, – скромно ответил Гарик, – не уронить достоинства.
– Не скромничай, – вставил Корнелий Удалов. – Небось был самым выдающимся среди учеников?
– Нет, были и более выдающиеся, – сказал Боровков. – Хотя гуру иногда называл меня своим любимым учеником. Может, потому, что у меня неплохое общее образование.
– А как там с питанием? – поинтересовалась Ксения Удалова.
– Мы питались молоком и овощами. Я с тех пор не употребляю мяса.
– Это правильно, – сказала Ксения, – я тоже не употребляю мяса. Для диеты.
Боровков вежливо промолчал и потом обернулся к Удалову, который задал ему следующий вопрос:
– Вот у нас в прессе дискуссия была: хорошо это, йоги или мистика?
– Мистики на свете не существует, – ответил Боровков. – Весь вопрос в мобилизации ресурсов человеческого тела. Опасно, когда этим занимаются шарлатаны и невежды. Но глубокие корни народной мудрости, имеющие начало в Ригведе, требуют углубленного изучения.
И после этого Гарик с выражением прочитал на древнем индийском языке несколько строф из поэмы Махабхарата.
– А на голове ты стоять умеешь? – спросил неугомонный Корнелий.
– А как же? – даже удивился Гарик и тут же, легонько опершись ладонями о край стола, подкинул кверху ноги, встал на голову, уперев подошвы в потолок, и дальнейшую беседу со своими ближними вел в таком вот неудобном для простого человека положении.
– Ну это все понятно, это мы читали, – сказал Грубин, глядя на Боровкова наискосок. – А какая польза от твоих знаний для народного хозяйства?
– Этот вопрос мы сейчас исследуем, – ответил Боровков, сложил губы трубочкой и отпил из своей чашки без помощи рук. Потом отпустил одну руку, потянулся к вазончику с черешней и взял ягоду. – Возможности открываются значительные. Маленький пример, который я продемонстрировал сегодня на глазах товарища Корнелия Ивановича, тому доказательство. Каждый может внутренне мобилизоваться и сделать то, что считается не под силу человеку.
– Это он о том, как автобус поднял, – напомнил Удалов, и все согласно закивали.
– Ты бы перевернулся, Гарик, и сел, – посоветовала старуха Ложкина. – Кровь в голову прильет.
– Спасибо, я постою, – отозвался Гарик.
Общая беседа продолжалась, и постепенно все привыкли к тому, что Боровков пребывает в иной, чем остальные, позе. Он рассказывал о социальных контрастах в Индии, о тамошней жизни, о культурных памятниках, о гипнозе, хатха-йоге и раджа-йоге. И разошлись гости поздно, очень довольные.
А на следующее утро Боровков вышел на двор погулять уже в ковбойке и джинсах и оттого казался своим, гуслярским. Удалов, собираясь на службу, выглянул из окна, увидел, как Боровков делает движения руками, и вышел.
– Доброе утро, Гарик, – сказал он, присев на лавочку. – Что делаешь?
– Доброе утро, – ответил Боровков, – тренирую мысль и пальцы. Нужно все время тренироваться, как исполнитель на музыкальных инструментах, иначе мышцы потеряют форму.
– Это правильно, – согласился Удалов. – Я тебя вот о чем хотел спросить: мне приходилось читать, что некоторые факиры в Индии умеют укрощать диких кобр звуками мелодии на дудке. Как ты на основании своего опыта полагаешь, они это в самом деле или обманывают?
Наверное, он мог бы придумать вопрос получше, поумнее, но спросить чего-нибудь хотелось, вот и сказал первое, что на ум пришло. И не спроси он про змей, может, все бы и обошлось.
– Есть мнение, что кобры в самом деле гипнотизируются звуком музыки, – ответил с готовностью Боровков. – Но у них чаще всего вырывают ядовитые зубы.
– Не приходилось мне кобру видеть, – сказал Удалов, заглаживая белесые волоски на лысину. – Она внушительного размера?
– Да вот такая, – показал Боровков и наморщил лоб.
Он помолчал с полминуты или минуту, а потом Удалов увидел, как на песочке в метре от них появилась свернутая в кольцо большая змея.
Змея развернулась и подняла голову, раздувая шею, а Удалов подобрал ноги на скамью и поинтересовался:
– А не укусит?
– Нет, Корнелий Иванович, – успокоил молодой человек. – Змея воображаемая. Я же вчера рассказывал.
Кобра тем временем подползла ближе. Боровков извлек из кармана джинсов небольшую дудочку, приставил к губам и воспроизвел на ней незнакомую простую мелодию, отчего змея прекратила ползание, повыше подняла голову и начала раскачиваться в такт музыке.
– И это тоже мне кажется? – спросил Удалов.
Боровков, не переставая играть, кивнул. Но тут пошла с авоськой через двор гражданка Гаврилова из соседнего флигеля.
– Змея! – закричала она страшным голосом и бросилась бежать.
Змея испугалась ее крика и поползла к кустам сирени, чтобы в них спрятаться.
– Ты ее исчезни, – попросил Удалов Боровкова, не спуская ног.
Тот согласился, отнял от губ дудочку, провел ею в воздухе, змея растаяла и вся уже скрылась, но Удалов не мог сказать, вообще она исчезла или в кустах.
– Неудобно получилось, – заметил Гарик, почесывая усики. – Женщину испугали.
– Да. Неловко. Но ведь это видимость?
– Видимость, – согласился Боровков. – Хотите, Корнелий Иванович, я вас провожу немного? А сам по городу прогуляюсь.
– Правильно, – одобрил Удалов. – Я только портфель возьму.
Они пошли рядышком по утренним улицам. Удалов задавал вопросы, а Гарик с готовностью отвечал.
– А этот гипноз на многих людей действует?
– Почти на всех.
– А если много людей?
– Тоже действует. Я же рассказывал.
– Послушай, – пришла неожиданная мысль в голову Удалову. – А с автобусом там тоже гипноз был?
– Ну что вы! – удивился Гарик. – Колесо же поменяли.
– Правильно, колесо поменяли.
Удалов задумался.
– Скажи, Гарик, – спросил он, – а эту видимость использовать можно?
– Как?
– Ну, допустим, в военных условиях, с целью маскировки. Ты внушаешь фашистам, что перед ними непроходимая река, они и отступают. А на самом деле перед ними мирный город.
– Теоретически возможно, но только, чтобы фашистов загипнотизировать, надо обязательно к ним приблизиться.
– Другое предложение сделаю: в театре. Видимый эффект. Ты гипнотизируешь зрителей, и им кажется, что буря на сцене самая настоящая, даже дождь идет. Все как будто мокрые сидят.
– Это можно, – согласился Боровков.
– Или еще. – Тут уж Удалов ближе подошел к производственным проблемам. – Мне дом сдавать надо, а у меня недоделки. Подходит приемочная комиссия, а ты их для меня гипнотизируешь, и кажется им, что дом ну просто импортный.
– Дом – это много. Большой формат, – сказал любимый ученик факира. – Мой учитель когда-то смог воссоздать Тадж-Махал, великий памятник прошлого Индии. Но это было дикое напряжение ума и души. Он до сих пор не совсем пришел в себя. А нам, ученикам, можно материализовать вещи не больше метра в диаметре.
– Любопытно, – с сомнением произнес Удалов. – Но я пошутил. Я никого в заблуждение вводить не намерен. Это мы оставим для очковтирателей.
– А я бы, – мягко поддержал его Боровков, – даже при всем к вам уважении помощь в таком деле не хотел бы оказывать.
И тут по дороге имел место еще один инцидент, который укрепил веру Удалова в способности Гарика.
Навстречу им шел ребенок, весь в слезах и соплях, который громко горевал по поводу утерянного мяча.
– Какой у тебя был мяч, мальчик? – спросил Боровков.
– Си-иний! – И ребенок заплакал пуще прежнего.
– Такой? – спросил Боровков и, к удивлению мальчика, а также и Удалова, тут же создал синий мяч среднего размера; мяч подпрыгнул и подкатился мальчику под ноги.
– Не то-от, – заплакал мальчик еще громче. – Мой был большой!
– Большой? – ничуть не растерялся Боровков. – Будет большой.
И тут же в воздухе возник шар размером с десятикилограммовый арбуз. Шар повисел немного и лениво упал на землю.
– Такой? – спросил Боровков ласковым голосом, потому что он любил детей.
А Удалов уловил в сообразительных глазенках ребенка лукавство: глазенки сразу просохли – мальчик решил использовать волшебника.
– Мой был больше! – завопил он. – Мой был с золотыми звездочками. Мой был как дом!
– Я постараюсь, – пообещал виновато Боровков. – Но мои возможности ограниченны.
– Врет мальчонка, – сказал Удалов убежденно. – Таких мячей у нас в универмаге никогда не было. Если бы были, знаешь какая бы очередь стояла? Таких промышленность не выпускает.
– А мне папа из Москвы привез, – сказал ребенок трезвым голосом дельца. – Там такие продаются.
– Нет, – сказал Удалов. – ГОСТ не позволяет такие большие мячи делать, и таких импортных не завозят. Можно кого-нибудь зашибить невзначай.
– Вы так думаете? – спросил Боровков. – Я, знаете, два года был оторван.
– Отдай мой мяч! – скомандовал ребенок.
Боровков очень сильно нахмурился, и рядом с мальчиком возник шар даже больше метра в диаметре. Он был синий и переливался золотыми звездочками.
– Такой подойдет? – спросил Боровков.
– Такой? – Мальчик смерил мяч взглядом и сказал не очень уверенно: – А мой был больше. И на нем звезд было больше.
– Пойдем, Гарик, – возмутился Удалов. – Сними с него гипноз. Пусть останется без мячей.
– Не надо, – сказал Боровков, с укоризной посмотрел на мальчика, пытавшегося обхватить мячи, и пошел вслед за Удаловым.
– А вот и мой объект, – объявил Корнелий. – Как, нравится?
Боровков ответил не сразу. Дом, созданный конторой, которой руководил Корнелий Удалов, был далеко не самым красивым в городе. И наверное, Гарику Боровкову приходилось видеть тщательнее построенные дома как в Бомбее и Дели, так и в Париже и Москве. Но он был вежлив и потому только вздохнул, а Удалов сказал:
– Поставщики замучили. Некачественный материал давали. Ну что с ними поделаешь?
– Да, да, конечно, – согласился Боровков.
– Зайдем? – спросил Удалов.
– Зачем?
– Интерьером полюбуешься. Сейчас как раз комиссия придет, сдавать дом будем.
Боровков не посмел отказаться и последовал за хитроумным Корнелием Ивановичем, который, конечно, решил использовать его талант в одном сложном деле.
– Погляди, – сказал он молодому человеку, вводя его в совмещенный санузел квартиры на первом этаже. – Как здесь люди жить будут?
Боровков огляделся. Санузел был похож на настоящий. Все в нем было: и умывальник, и унитаз, и ванна, и кафельная плитка, хоть и неровно положенная.
– Чего не хватает? – спросил Удалов.
– Как не хватает?
– Кранов не хватает, эх ты, голова! – подсказал Удалов. – Обманули нас поставщики. Заявку, говорят, вовремя не представил. А сейчас комиссия придет. И кто пострадает? Пострадает твой сосед и почти родственник Корнелий Удалов. На него всех собак повесят.
– Жаль, – с чувством сказал Боровков. – Но ведь еще больше пострадают те, кто здесь будет жить.
– Им не так печально, – вздохнул Корнелий Иванович. – Им в конце концов всё поставят. И краны, и шпингалеты. Они напишут, поскандалят, и поставят им краны. А вот меня уже ничто не спасет. Дом комиссия не примет – и прощай премия! Не о себе пекусь, а о моих сотрудниках, вот о тех же, например, плиточниках, которые, себя не щадя, стремились закончить строительство к сроку.
Боровков молчал, видимо более сочувствуя жильцам дома, чем Удалову. А Удалов ощущал внутреннее родство с мальчиком, который выпросил у Боровкова мячи. Внешне он лил слезы и метался, но изнутри в нем радовалось ожидание, потому что Боровков был человек мягкий и оттого обреченный на капитуляцию.
– Скажи, а для чистого опыта ты бы смог изобразить водопроводный кран? – спросил Удалов.
– Зачем это? – ответил вопросом Боровков. – Обманывать ведь никого нельзя. Разве для шутки?
Он глубоко вздохнул, как человек, который делает что-то помимо своей воли, и в том месте, где положено быть крану, возник медный кран в форме рыбки с открытым ртом. Видно, такие краны Боровков видел в Индии.
– Нет, – сказал Удалов, совсем как тот мальчик. – Кран не такой. Наши краны попроще, без финтифлюшек. Как у твоего дяди. Помнишь?
Боровков убрал образ изысканного крана и на его место посадил стандартный образ.
Удалов подошел к крану поближе и, опасаясь даже тронуть его пальцем, пристально проверил, прикреплен ли кран к соответствующей трубе. Как он и опасался, кран прикреплен не был, и любой член комиссии углядел бы это сразу.
– Нет, ты посмотри вот сюда, – сказал Удалов возмущенным голосом. – Разве так краны делают? Халтурщик ты, Гарик, честное слово. Как вода из него пойдет, если он к трубе не присоединен?
Боровков даже оскорбился:
– Как так вода не пойдет? – И тут же из крана, ни к чему не присоединенного, разбрызгиваясь по раковине, хлынула вода.
– Стой! – крикнул Удалов. – Она же еще не подключена! Дом с сетью не соединен. Ты что, меня под монастырь хочешь подвести?
– Я могу и горячую пустить! – азартно предложил Гарик, и вода помутнела, и от нее пошел пар.
– Брось свои гипнотизерские штучки, – строго сказал Удалов. – Я тебе как старший товарищ говорю. Закрой воду и оставь кран в покое.
И тут в квартиру ворвался молодой человек, весь в штукатурке и в сложенной из газеты шляпе, похожей на треуголку полководца Наполеона.
– Идут! – крикнул он сдавленным голосом. – Что будет, что будет!
– Гарик! – приказал Удалов. – За мной. Поздно рассуждать. Спасать надо.
И они пошли навстречу комиссии.
Комиссия стояла перед домом на площадке, где благоустройство еще не было завершено, и рассматривала объект снаружи. Удалов вышел навстречу, как радушный хозяин. Председатель комиссии, Иван Андреевич, человек давно ему знакомый, вредный, придирчивый и вообще непреклонный, протянул Корнелию руку и произнес:
– Плохо строишь. Неаккуратно.
– Это как сказать, – осторожно возразил Удалов, пожимая руку. – Как сказать. Вот Екатерина из райисполкома. – Он запнулся и тотчас поправился: – То есть представитель Екатерина Павловна в курсе наших временных затруднений. – И он наморщил лоб, изображая работу мысли.
– Ты всех в комиссии знаешь, – заметил председатель. – Может, только с Ветлугиной не встречался.
И он показал Удалову на кареглазую девушку в костюме джерси, ту самую, которая у автобуса сплела венок из одуванчиков и возложила его на голову Боровкову. У девушки была мужественная профессия сантехника. Боровков тоже ее узнал и покраснел, и девушка слегка покраснела, потому что теперь она была при исполнении служебных обязанностей и не хотела, чтобы ей напоминали о романтических движениях души.
Она только спросила Гарика:
– Вы тоже строитель?
И тот ответил:
– Нет, меня товарищ Удалов пригласил осмотреть дом.
– Ну, – Удалов приподнялся на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Боровкова, – или ты спасешь, или мне, сам понимаешь…
Боровков вновь вздохнул, поглядел на кареглазую Ветлугину, потрогал усики и послушно последовал за нею внутрь дома. Удалов решил не отставать от них ни на шаг. Что там другие члены комиссии, если главная опасность – сантехник!
Они начали с квартиры, в которой Боровков уже пускал воду. Кран был на месте, но не присоединен к трубе.
Девушка опытным взглядом специалиста оценила блеск и чистоту исполнения крана, но тут же подозрительно взглянула в его основание. Удалов ахнул. Боровков понял. Тут же от крана протянулась труба, и сантехник Ветлугина удивленно приподняла брови, похожие на перевернутых чаек, как их рисуют в детском саду. Но придраться было не к чему, и Ветлугина перешла на кухню. Удалов щипнул Боровкова, и Гарик, не отрывая взгляда от Ветлугиной, сотворил кран и там.
Так они и переходили из квартиры в квартиру, и везде Боровков гипнотизировал Ветлугину блистающими кранами, а Удалов боялся, что ей захочется проверить, хорошо ли краны действуют, ибо, когда ее пальчики провалятся сквозь несуществующие металлические части, получится великий скандал.
Но обошлось. Спас Боровков. Ветлугина слишком часто поднимала к нему свой взор, а Боровков слишком часто искал ее взгляд, так что в качестве члена комиссии Ветлугина была почти нейтрализована.
Они вышли наконец на лестничную площадку последнего этажа и остановились.
– У тебя, Ветлугина, всё в порядке? – спросил Иван Андреевич.
– Почти, – ответила девушка, глядя на Гарика.
«Пронесло, – подумал Удалов. – Замутили мы с Боровковым ее взор!»
– А почему почти? – спросил Иван Андреевич.
– Кранов нет, – сказала девушка. Эти слова прогрохотали для Удалова как зловещий гром, и в нем вдруг вскипела ненависть. Тысячи людей, по науке, поддаются гипнозу, а она, ведьма, не желает поддаваться!..
– Как нет кранов?! – заспешил с опровержением Удалов. – Вы же видали. Все видали! И члены комиссии видали, и лично Иван Андреевич.
– Это лишь одна фикция и видимость материализации, – грустно ответила девушка. – И я знаю, чьих рук это дело.
Она глядела на Боровкова завороженным взглядом, а тот молчал.
– Я знаю, что вот этот товарищ, – продолжала коварная девушка, не сводя с Гарика глаз, – находился в Индии по научному обмену и научился там гипнозу и факирским фокусам. При мне еще вчера он сделал вид, что поднимает автобус за задние колеса, а это он нас загипнотизировал. И моя бабушка была в гостях у Ложкиных, и там всем казалось, что он целый вечер стоял на голове. И пил чай.
А Боровков молчал.
«Ну вот теперь и ты в ней разочаруешься за свой позор!» – подумал с надеждой Удалов. Им овладело мстительное чувство: он уже погиб, и пускай теперь гибнет весь мир, как примерно рассуждали французские короли эпохи абсолютизма.
– Пошли, – сказал сурово Иван Андреевич. – Пошли заново, очковтиратель. Были у меня подозрения, что по тебе ОБХСС плачет, а теперь они наконец материализовались.
Боровков молчал.
– А этого юношу, – продолжал Иван Андреевич, – который за рубежом нахватался чуждых для нас веяний, мы тоже призовем к порядку. Выйдите на улицу, – сказал он Боровкову, – и не надейтесь в дом заглядывать!..
– Правильно, – пролепетала коварная Ветлугина. – А то он снова нас всех загипнотизирует.
– Может, и дома не существует? Надо проверить, – сказал Иван Андреевич.
– Нет, – сказала Екатерина из райисполкома. – Дом и раньше стоял, его у нас на глазах строили. А этот молодой человек только вчера к нам явился.
Гусляр – город небольшой, и новости в нем распространяются почти мгновенно.
Удалов шел в хвосте комиссии. Он чувствовал себя обреченным. Завязывалась неприятность всерайонного масштаба. И он подумал, что в его возрасте не поздно начать новую жизнь и устроиться штукатуром, с чего Удалов когда-то и начал свой путь к руководящей работе. Но вот жена!..
– Показывайте ваши воображаемые краны, – велел Иван Андреевич, входя в квартиру.
В санузел Удалов не пошел, остался в комнате, выглянул в окно. Внизу Боровков задумчиво писал что-то веткой по песку. «И зачем я только втянул его в это дело?» – запечалился Удалов, и тут же его мысль перекинулась на то, как хорошо бы жить на свете без женщин. За тонкой стенкой бурлили голоса. Никто из санузла не выходил: что-то у них там случилось. Удалов сделал два шага и заглянул внутрь через плечо Екатерины из райисполкома. Состав комиссии с громадным трудом разместился в санузле. Ветлугина сидела на краю ванны, Иван Андреевич щупал кран, но его пальцы никуда не проваливались.
– Что-то ты путаешь, – сказал Иван Андреевич Ветлугиной.
– Все равно одна видимость, – настаивала Ветлугина растерянно, ибо получалось, что она оклеветала и Удалова, и Гарика, и всю факирскую науку.
– А какая же видимость, если он твердый? – удивился Иван Андреевич.
– Настоящий, – поспешил подтвердить Удалов.
– Тогда пускай он скажет, когда и откуда краны получил, – нашлась упрямая Ветлугина. – Пускай по документам проверят!
– Детский разговор, – возразил Удалов, к которому вернулось присутствие духа. – Что же, я краны на рынке за собственные деньги покупал?
Тут уж терпение покинуло Ивана Андреевича.
– Ты, Ветлугина, специалист молодой, и нехорошо тебе начинать трудовой путь с клеветы на наших заслуженных товарищей.
И Иван Андреевич показал размашистым жестом на голову Удалова, которая высовывалась из-за плеча Екатерины.
– Правильно, Иван Андреевич, – без зазрения совести присоединился к его мнению Удалов. – Мы работаем, вы работаете, все стараются, а некоторые граждане занимаются распространением непроверенных слухов.
Ветлугина, пунцовая, выбежала из санузла, и Корнелий возблагодарил судьбу за то, что Боровков на улице и ничего не видит: его мягкое сердце ни за что бы не выдержало этого зрелища.
Удалов поспешил увести комиссию. В таких острых ситуациях никогда не знаешь, чем может обернуться дело через пять минут. И в последний момент впрямь все чуть не погубило излишнее старание Боровкова, ибо Иван Андреевич машинально повернул кран и из него хлынула струя горячей воды. Иван Андреевич кран, конечно, тут же закрыл, вышел из комнаты, а на лестнице вдруг остановился и спросил с некоторым удивлением:
– А что, и вода уже подключена?
– Нет, это от пробы в трубах осталась.
Удалов смотрел на председателя наивно и чисто.
– А почему горячая? – спросил председатель.
– Горячая? А она была горячая?
– Горячая, – подтвердила Екатерина из райисполкома. – Я сама наблюдала.
– Значит, на солнце нагрелась. Под крышей.
Иван Андреевич поглядел на Удалова с некоторым обалдением во взоре, потом махнул рукой, проворчал:
– Одни факиры собрались!..
И как раз тут они вышли из подъезда и увидели рыдающую на плече у Боровкова сантехника Ветлугину.
– Пошли, – сказал Иван Андреевич. – В контору. Акт будем составлять. Екатерина Павловна! Позови Ветлугину. Кричать все мастера, а от критики в слезы…
Когда все бумаги были разложены и Екатерина – у нее был лучший почерк – начала заполнять первый бланк, Корнелий Иванович вдруг забеспокоился, извинился и выбежал к Гарику.
– Но краны-то останутся? – спросил он. – Краны никуда не исчезнут? Признайся, это не гипноз?
– Краны останутся. Нужно же жильцам воду пить и мыться? А то с вашей, Корнелий Иванович, заботой им пришлось бы с ведрами за водой бегать.
– Ага! Значит, краны настоящие!
– Самые настоящие.
– А откуда они взялись? Может, это идеализм?
– Ничего подобного, – возразил Боровков. – Никакого идеализма. Просто надо в народной мудрости искать и находить рациональное зерно.
– А если материализм, то откуда металл взялся? Где закон сохранения вещества? А ты уверен, что краны не ворованные, что ты их силой воли из готового дома сюда не перенес?
– Уверен, – ответил Боровков. – Не перенес. Сколько металла пошло на краны, столько металла исчезло из недр земли. Ни больше ни меньше.
– А ты, – в глазенках Удалова опять появился мальчишеский блеск: ему захотелось еще один мяч, побольше прежнего, – ты все-таки дом можешь сотворить?
– Говорил уже – не могу. Мой учитель гуру Кумарасвами один раз смог, но потом лежал в прострации четыре года и почти не дышал.
– И большой дом?
– Да говорил же – гробницу Тадж-Махал в городе Агре.
Ветерок налетел с реки и растрепал реденькие волосы Удалова. Тот полез в карман за расческой.
– А Ветлугиной ты признался?
– Нет, я ее разубедил. Я сказал, что умею тяжести поднимать, на голове стоять, на гвоздях спать, но никакой материализации. – И рассудительно заключил: – Да и вообще я ей понравился не за это…
– Конечно, не за это, – согласился Удалов. – За это ты ей вовсе не понравился, потому что она девушка принципиальная. Значит, надеяться на тебя в будущем не следует?..
– Ни в коем случае.
– Ну и на том спасибо, что для меня сделал. Куда же я расческу задевал?
И тут же в руке Удалова обнаружилась расческа из черепахового панциря.
– Это вам на память, – сказал Гарик, усаживаясь на бетонную трубу: ему предстояло долго еще здесь торчать в ожидании Танечки Ветлугиной.
– Спасибо, – поблагодарил Удалов, причесался, привел лысину в официальный вид и пошел к конторе.
Когда Чапаев не утонул
Удалов с Грубиным шли мимо кинотеатра. Была субботняя первая половина дня, и дел до самого обеда не намечалось. На сеансе 11.30 шел кинофильм «Чапаев».
– Саша, – спросил Удалов, – ты давно это кино смотрел?
– Любимый фильм моего детства, – сказал Грубин. – Тогда еще не было широкого экрана и телевизора. Как бы теперь психическую атаку показали бы!
– А может быть, и не лучше, – возразил Удалов. – Всему свое время.
– Что, купим билеты по десять копеек и пойдем в компании с мальчишками? – спросил Грубин и пошел к кассе.
Перед кассой было пусто. Даже странно, что никто не хотел смотреть такую заслуженную картину.
– Что? – спросил Грубин у сонной кассирши Тони. – Нынешнее поколение детей предпочитает «Семнадцать мгновений»? Так дай же по билету старожилам этого света.
– Дети ничего не предпочитают, – отрезала Тоня. – У меня только последний ряд остался.
– А куда же остальные билеты делись?
– А остальные куплены вместе с прошлым сеансом. По два раза, сорванцы, смотрят.
Они вошли в пустое фойе кинотеатра, где за стойкой буфета тосковала пожилая женщина, а по стенам висели поблекшие фотографии наших, советских, кинозвезд из настенного календаря. Купили по пиву, заели бутербродами с голландским сыром. Удалов спросил:
– Ты сколько раз, Саша, эту картину наблюдал?
– «Чапаева» имеешь в виду? Раз десять.
– И я раз пять, – сказал Удалов. – Потом перестал. Очень меня травмировало то, что Чапаев в реке утонул. Я все ждал, может, разок не утонет. А он тонет.
– Такие глупости мне даже в детстве не приходили в голову, – урезонил Удалова Грубин, и тут, видно, утренний сеанс кончился, открылись двери в зал, и оттуда к буфету наперегонки выскочили сто пятьдесят мальчиков и пять девочек. Все они бежали, зажимая в кулачках мелочь на конфеты и лимонад. Грубину с Удаловым пришлось вцепиться в стол, чтобы их не снесло этим потоком. Дети толкались у стойки, спешили насладиться, прежде чем начнется следующий сеанс.
Один из самых шустрых детей, мальчик лет десяти, с лукавым взором и множеством царапин на носу и на щеках, первым успел добыть себе пирожное эклер и стакан лимонада и присел за стол к взрослым.
Ел он быстро и сказал Грубину с Удаловым:
– Вы бы пошевеливались, а то опоздаете.
– До начала десять минут, – уточнил Грубин, а Удалов, у которого был собственный ребенок, добавил:
– Так со взрослыми разговаривать не следует, мальчик.
– Ну, как хотите. Не достанется места, и всё тут. Я же из лучших побуждений.
– У нас на билетах места указаны, – заметил Грубин.
– Места! – воскликнул мальчишка с пафосом. – Какие могут быть места, когда каждый хочет быть поближе к экрану!
– Чепуха, – возразил Удалов, а Грубин поверил ребенку, одним глотком допил пиво, дожевал бутерброд и бросил Корнелию:
– Я пойду и тебе займу.
Но Корнелий уже спешил за Грубиным. Они отыскали приличные места, в центре зала, лучше тех, что были положены им по билету. Сели. В зале оставалось много народу. Некоторые из ребят берегли свои хорошие места, другие просто не имели финансов, чтобы сбегать в буфет.
– И вы все это кино по второму разу смотрите? – спросил Грубин у соседа.
– Многие и на третий раз остались бы, – ответил лукавый мальчишка.
– А если бы фильм шел весь день?
– Кое-кто остался бы. Но некоторые сбежали бы, от голода.
– А ты почему такой исцарапанный?
– Кошку дрессировал. А вы чего на эту картину пошли?
– Соскучились по ней, – сказал Грубин. – Захотелось детство вспомнить.
– Нашли чего вспоминать, – произнес мальчишка с презрением. – Я жду не дождусь, чтобы с этим детством покончить.
В зал тем временем влетали из фойе мальчики и девочки и неслись занимать свободные места. И что удивило Удалова: прямо перед ними, в пятом ряду, пустовало в центре одно место, и никто его не занимал, и даже никто на него не покушался. «Может, стул там сломанный?» – подумал Удалов. И хотел было подсказать одному ребенку, который стоял в проходе с конфетой в зубах, но без места, чтобы он туда шел, как в зале начал меркнуть свет, и тогда последним не спеша вошел невысокий худенький мальчик в очках. Мальчик жевал мороженое, и на него все смотрели с уважением, и для того, чтобы мальчику пройти на его место, все, кто сидел в том ряду, поднялись и посторонились.
– Он, наверное, отличник, – предположил Удалов, глядя на странного мальчика.
– Или большой хулиган, – сказал Грубин. – Самбист.
– Ничего подобного, – возразил лукавый сосед. – Это Тиша Зеленко, он не отличник и не хулиган, но большой человек.
Большой человек опустился на свой стул в середине пятого ряда и сделал движение ручкой, чтобы сидевшие впереди немного раздвинули головы и ему не мешали. И сидевшие впереди раздвинулись, хоть им так сидеть было неудобно.
– А почему он большой человек? – спросил Грубин.
Мальчик Тиша услышал эти слова, обернулся и поглядел на Грубина строго.
Тут свет погас, и начался мультфильм про Чебурашку. Мультфильм все отсмотрели без особого восторга, потому что знали его наизусть и там не было драматических событий. Потом начался сам фильм. Все в нем было как надо. Удалов с Грубиным вспоминали, что, казалось бы, совсем вылетело из памяти, и даже удивлялись, как это они могли забыть такие известные кадры. Зал реагировал на кино, как и было ему положено, с энтузиазмом, восторгом, а когда надо, и негодованием, а события тем временем шли к своему трагическому концу.
Вот уже отступают чапаевцы, и помощи ждать неоткуда. Вот уже виден высокий обрыв реки Урал, и все ближе наши к этому обрыву. В зале царило молчание, почти бездыханное. «Эх, если бы…» – подумал Корнелий Удалов, когда Чапаев уже плыл через реку Урал и пули шлепались о воду в непосредственной близости. Сколько раз он смотрел этот фильм и надеялся, что на этот раз Чапаев преодолеет-таки водную преграду, спасут его, придут на помощь…
Но вот чапаевская голова уже скрылась в водах, и Удалов даже непроизвольно прикрыл глаза, чтобы не переживать вновь такой неприятности. И тут в зале поднялся общий детский крик и топанье ногами. «Держись! – кричали дети. – Еще немного! Тиша, давай! Тиша, спасай Чапая!»
– Ого! – сказал Грубин, и в голосе его было такое удивление, что оно заставило Удалова приоткрыть зажмуренные глаза.
И он увидел невероятное зрелище: Чапаев вновь показался на поверхности и, хоть был ранен, плыл с трудом, видно было, что на этот раз ему удастся добраться до берега. И навстречу ему уже вбегали в воду товарищи, и почему-то среди них оказались и верный Петька, и Анка-пулеметчица, и даже неизвестно откуда взявшийся комиссар. Дети начали хлопать в ладоши, потом зажегся свет, и никто из зала не вышел, даже самые малыши, пока со своего места не поднялся мальчик Тиша Зеленко, усталый, но довольный. А когда он проходил мимо, то лукавый сосед Удалова сказал ему:
– Сегодня у тебя лучше, чем вчера.
– Вчера не было Анки-пулеметчицы, – ответил Тиша, блеснув очками.
– Слушай, мальчик! – опомнился наконец Грубин, когда Тиша Зеленко покинул зал, сопровождаемый шумной толпой сверстников. – Слушай! – Он схватил за рукав соседа. – Как он это сделал?
– Он не первый раз так делает. Пока Тиша с нами не ходил, Чапаев всегда тонул. А теперь конец хороший. И каждый раз другой.
– Но как он это делает? – спросил Грубин. – Гипноз это, что ли?
– И зачем вы только на детские сеансы ходите? – ответил вопросом мальчик. – Так вы все испортите. Если его мать узнает, скандал начнется! Тиша Зеленко такой образованный! Он все про войну знает – и про Гражданскую, и про Отечественную. У него миллион книг про войну, он чуть было в прошлом году на второй год в пятом классе из-за этого не остался. И потому родители ему запретили ходить на военные фильмы. «Если, – говорят, – про животный мир, про строительство, ходи развлекайся. Про войну – ни-ни». А Тиша сильно переживает. Он обязательно будет военным историком. Несмотря на все строгости.
Разговаривая так, они вышли на улицу и шли под летним каникулярным солнцем.
– Как же случилось, что этот мальчик смог конец фильма переделать? – спросил Грубин.
– А может, теперь для детей счастливый конец сделали? – спросил Удалов. – Специально для детских сеансов? Чтобы не травмировать психику?
– Чепуха это, – ответил невежливо мальчик. – Вчера Тишу Зеленко родители дома заперли, нам его выкрасть не удалось. Так утонул Чапаев за здорово живешь. Нет, это все Тишкина работа. Он так это за всех представляет, чтобы Чапаев не утонул, что тот и не тонет. Разве не понятно?
– Понятно, – произнес Грубин задумчиво, потому что у него было развито воображение.
– Непонятно, – возразил с раздражением Удалов, у которого тоже было развито воображение, но которому возмутительна была власть пятиклассника над классическим произведением киноискусства. – А может…
И тут сомнения, одолевавшие Удалова, приняли иную форму. Тут он подумал, что, может, все куда проще, чем кажется. Может, зря они поддаются шуткам малышей, может, Чапаев вовсе и не погиб? А только в кино это так изобразили?
– Удалов, – прервал течение мыслей друга Грубин, – надо нам с мальчиком Тишей обязательно побеседовать. Это же явление психологического порядка и первостепенного значения. Наука не может игнорировать.
– Ах да! – спохватился Удалов. – Конечно. Только я в это мало верю. Это какой-то фокус.
– Только Тихон с вами разговаривать не будет, – заверил мальчишка. – Он мамашу свою боится. Вдруг она узнает, чем он в кино занимается. Он же обещал родителям за ягодами в лес пойти.
– Мы его не выдадим. Слово, – пообещал Грубин. – Но интересы науки твой Тиша должен учитывать.
– Попробую, – сказал мальчуган и побежал за Тишей.
Минуты через две он Тишу привел. Тот был скучен и говорил нехотя. Не верил он в науку, опасался родительского гнева.
– Мальчик, – произнес Удалов ласковым голосом, – ты что в кино наделал?
– Ничего не наделал, – возразил Тиша. – Смотрел, как все.
– А кончается картина как?
– Кончается тем, что Чапаев реку переплыл.
– Ага. А потом что с ним стало?
– Потом он в боях погиб. При штурме Перекопа. Он уже корпусом там командовал.
– Лживый ребенок, – возмутился Удалов вполголоса. – Нечего нам с ним делать.
– Погоди, – сказал Грубин. – Так не пойдет. Я тебе даю слово, как исследователь исследователю. Ни слова родителям, ни слова в школе. Но у тебя такие способности, что они представляют интерес. Есть у меня одна книга. «Жизнеописания российских фельдмаршалов». Издана она сто с лишним лет назад. В ней биографии, которых ты нигде больше не встретишь. Хочешь ли ты ее получить задаром?
– Хочу, – кивнул мальчик.
– Тогда ты мне должен оказать содействие.
Удалов вздохнул. Не одобрял он этой мистики.
– Спрашивайте, – сказал Тиша Зеленко совсем как взрослый. – Только где гарантия, что я эту книгу получу?
– Мое слово, – просто ответил Грубин, и мальчик ему поверил. – Скажи, как тебе удается оказать влияние на кино? Ты гипнозом действуешь?
– Нет, что вы! – удивился Тиша. – Я просто очень хочу, чтобы Чапаев не утонул. Так сильно хочу, что просто ужас. И все ребята хотят. Вот он и не тонет.
– Но ты каждый раз новый конец делаешь?
– Немножко. Сегодня я про Анку-пулеметчицу вспомнил. Чтобы она участвовала. А в прошлый раз Чапаева из воды комиссар вытащил.
– А позавчера Петька за ним нырнул, – сказал мальчик.
– Так, – задумался Грубин. – Раз ты такой феномен, будем тебя испытывать. Что дальше в кино идет?
– Детектив, – подсказал собеседник. – Про одного филателиста…
– Отлично, – одобрил Грубин. – Вот мы сейчас все и проверим. Сеанс еще не начался?
– Вот-вот начнется.
– Удалов, беги за билетами! На всех.
– Четыре брать?
– Четыре бери.
– А меня дома ждут, – слабо запротестовал Тиша, которому хотелось пойти на детектив.
– Я скажу твоей маме. Сам скажу, – обещал Грубин.
Так они вчетвером оказались в кино. На этот раз в зале сидели и взрослые, шума не было, все переживали сдержанно.
– Ты знаешь, чем кончится? – спросил шепотом Грубин у лукавого мальчика.
– Знаю. За этим длинным будут гнаться по крышам, он упадет прямо в бетон. Я уже три раза смотрел, я все новые кино смотрю.
– Отлично, – сказал Грубин. – Слушай, Тиша. Ты можешь захотеть, чтобы он не погибал в бетоне?
– Зачем? – удивился Тиша. – Туда ему и дорога.
– Нет, все-таки он живой человек, его еще перевоспитать можно, новую жизнь начнет. Спасем его, а? Если спасешь, книга твоя.
– А вы же так обещали?
– Да, если ты науке поможешь.
Грубин был нежадным человеком, книгу он все равно бы отдал, но требовались дополнительные методы воздействия. Если этот мальчик мог переделать видимый мир силой своей недетской воли, то он должен был захотеть это сделать.
Тиша вздохнул и сосредоточился. Блестел очками, глядел в экран.
Началось самое драматическое в фильме. Длинный бегал по крышам, а за ним бегали преследователи.
– Ну! – почти крикнул Грубин, когда герой фильма пошатнулся, готовясь погибнуть на глазах у зрителей. Тиша весь напрягся, подался вперед.
Длинный балансировал на краю крыши, вот-вот упадет.
Побалансировал и благополучно свалился в яму с жидким бетоном.
«Может, еще вынырнет», – подумал Грубин.
Но тут кадр сменился, началась сцена на другую тему. Вышли из кино молча. Тиша чувствовал себя виноватым, про книгу даже не упоминал. Удалов с облегчением вдыхал свежий воздух. Он устал развлекаться. Грубин был расстроен провалом эксперимента, но полагал, что отрицательный результат – тоже результат.
– Что же, до свидания, – сказал Тиша. – Спасибо за кино.
– Постой, – остановил его Грубин. – Зайдем ко мне, книжку возьмешь.
– Да я же не оправдал, – возразил мальчик совсем как взрослый.
– Слово надо держать, – сказал Грубин. – Ты все-таки принял участие в эксперименте. Зато мы теперь знаем, что ты к этому явлению с Чапаевым, наверное, не имеешь отношения.
– Не имею, – согласился мальчик.
– И может даже, это явление было кажущееся.
– Конечно, – согласился мальчик.
Грубин взял расстроенного ребенка за руку, так они и дошли до дома. Грубин вынес ценную книгу и распрощался с Тишей Зеленко, который поспешил домой, чтобы получить заслуженное наказание за столь долгое отсутствие.
– Так что же это было? – спросил Удалов, прощаясь с Грубиным.
– Сдвиг в психике при массовом воздействии, – сказал Грубин, но эти слова ничего не значили и ничего не объясняли.
На следующее утро было воскресенье. Удалов поднялся поздно, в домино играть не хотелось, в гости было рано. Спустился к Грубину. Того дома не было. Куда-то ушел с утра. Удалов отправился гулять один и незаметно для себя вновь оказался перед кинотеатром. Было около одиннадцати. Сеанс девятичасовой еще не кончился, до следующего было далеко. И тут Удалов понял, что там, в зале, картина подходит к концу. И вроде бы какое дело Удалову до этого, но стремление увидеть еще раз конец и выяснить, что же случилось с полководцем – потонул он все-таки или выплыл, одолело Удалова. И он подошел к окошку кассы и уговорил кассиршу дать ему билет на сеанс, который начался больше часа назад. Кассирша очень удивилась, билет давать не хотела, но Удалов объяснил ей, что его сын там сидит, а его надо извлечь наружу, потому что бабушка из деревни приехала.
Удалов вошел в зал и встал сзади, у стенки. Картина подходила к концу. Уже беляки напали на штаб дивизии. Вот уже отстреливаются из последних сил защитники штаба. Вот близка река. В зале творится что-то неописуемое. Уж очень ребята переживают за полководца. А он плывет через реку Урал, и пули шлепаются в воду совсем близко. И утонул Чапаев. Хоть и кричали ребята, переживали. Утонул. Никто не смог его спасти…
Зажгли свет. Удалов со всеми пошел к выходу. Не к выходу на улицу, а к выходу в буфет. Там он постоял в очереди за пирожными, выпил стакан лимонада и понял, что надо идти домой. Фокус не удался. Видно, у него нервы растрепались. И Чапаева жалко было.
Но домой Удалов не пошел. Удивительно, он сам не мог бы объяснить почему, но он вернулся в зал, устроился в последнем ряду, чтобы никто его не видел, и поглядел вперед. Место в пятом ряду пустовало. Не было сегодня мальчика Тиши.
И вдруг Удалов услышал тихий голос:
– Корнелий, ты что здесь делаешь?
Вот странно! В последнем же ряду за колонной сидит Грубин.
– Ты давно здесь?
– Первый сеанс отсидел. А ты?
– Конец только видел.
– А Тишка не приходил?
– Нет, не приходил.
И тут в двери в окружении ребят появился Тиша. Шел он быстро, склонив голову, под мышкой держал книжку про фельдмаршалов и на укоры и попреки друзей говорил:
– И ничего у меня не получится. Меня вчера научно проверили. Нет во мне таких способностей.
– Мы тебе поможем, Тишка, – говорили ребята. – Ты не дрейфь.
Тишка обернулся, разыскивая кого-то глазами. Удалов испугался, что его, и нырнул под стул. И увидел совсем близко от своей головы трепаную шевелюру Саши Грубина. Оказывается, тот тоже не хотел попадаться на глаза ребенку. Так они и просидели, пока не зажегся экран.
– Как ты думаешь, получится? – спросил Удалов Грубина, когда Чапаев на экране рассказывал о тактике с помощью картофелин.
– Не думаю, – сказал Грубин. – Не всегда можно вот так, руками, в душу лазить и подвергать все исследованию. Наверное, мы что-то погубили.
– Значит, ты веришь, что было?
– Верю.
Дальше они сидели молча. А когда настали последние минуты в жизни Чапаева, все ребята в зале начали кричать: «Держись, Василий Иванович! Еще немного осталось!» А другие кричали: «Тишка, давай!» И в этом крике раздался тонкий и грустный голос: «Не могу, ребята!» – «Давай-давай! – кричали другие. – Спасем Чапая!»
А тем временем голова полководца уже скрылась под водой, уже взяли враги верх над героем, и в зале поднялся вой, рев, шум, и Тиша даже привстал, а Грубин и Удалов, которые незаметно для себя орали вместе со всеми Тишке, чтобы он постарался, заметили, как Тишка поднял кулачонки, борясь с тяжелой правдой киноискусства, и тогда голова Чапаева поднялась снова на поверхности, навстречу Чапаеву с берега кинулись его друзья и соратники. И вытащили его на мелкое место. Чапаев остался жив.
Удалов с Грубиным подождали, пока все выйдут из зала. Удалов хотел было подойти к мальчику и укорить его за то, что вчера он себя не проявил, а сегодня вот проявил, но Грубин остановил его и сказал:
– Не лезь, Корнелий. Тут все сложнее, чем просто эксперимент. Понимаешь?..
По примеру Бомбара
В помещении «Гуслярского знамени» – осенняя тишина, редактор уехал в область на совещание. Миша Стендаль смотрел в окно и мечтал о значительном материале, который перепечатает «Литературная газета». Еще ни одного материала Миши Стендаля «Литературная газета» не напечатала, правда, он туда ничего и не посылал. В центральной печати лишь два раза появлялись его заметки. В журнале «Вокруг света» поместили сообщение о подледном лове крокодилов на пригородном озере Копенгаген, и еще один журнал опубликовал репортаж о встрече жителя Великого Гусляра Корнелия Удалова с инопланетными пришельцами под рубрикой «А если это не пришельцы?». Слава избегала Мишу Стендаля.
Вчера неожиданно пошел обильный снег, а деревья облететь не успели, и снежные шапки, как взбитые сливки, лежали на мокрых зеленых листьях. По тротуару, шаркая галошами, шел знакомый Мише старик Ложкин, нес под мышкой черную школьную папку, в которой хранились письма и жалобы, большей частью необоснованные. Старик Ложкин, похоже, направлялся в редакцию, и Стендаль пожалел, что в доме нет заднего хода.
Но тут его внимание отвлеклось отдаленной суетой на площади. Нечто белое двигалось в сторону редакторского дома, а за этим белым бежали мальчишки и шли взрослые люди.
Стендаль прижался к стеклу носом, ему мешали очки, но снимать их он не стал, потому что без них плохо видел и терял сходство с молодым Грибоедовым.
Хотя в городе нередки были удивительные события, Мише еще никогда не приходилось видеть, как по улице едет русская печь без видимых колес и с высокой трубой, из которой идет дымок.
На печи сидел молодой человек в хорошем синем костюме, при галстуке. Рядом лежала аккуратная поленница дров. Молодой человек взял одно бревнышко, склонился вниз и приоткрыл дверцу топки. Там уютно светило оранжевое пламя. Молодой человек затолкал полешко в печь, захлопнул дверцу и вновь принял непринужденную позу.
– Эй, прокати! – кричали мальчишки, бегая вокруг. Молодой человек не обращал на них внимания. Взрослые шли гурьбой сзади, обсуждая технические данные машины.
Когда печь поравнялась с дверью в редакцию, молодой человек похлопал ладонью по трубе, и печь послушно остановилась. За спиной послышалось мерное сопение. Миша обернулся. Сзади стоял старик Ложкин.
– Придется написать, – сказал старик. – Непорядок.
– Чего написать? – не понял Стендаль.
– Жалобу.
– На что?
Старик быстро нашелся:
– Он без номера ездит. И без прав, наверное. А если кого задавит?
– А на печки номера не выдают, – рассеянно сказал Стендаль.
Молодой человек ловко спрыгнул с лежанки, что-то быстро сказал зрителям и скрылся в дверях редакции.
Старик Ложкин уселся за свободный от бумаг стол, раскрыл папку и достал оттуда лист чистой бумаги в клетку. Стендаль направился было к двери, но тут по коридору простучали четкие шаги, в комнату заглянул молодой человек в синем костюме и спросил:
– Где я, простите за беспокойство, могу увидеть главного редактора?
– А что вам нужно? – вежливым голосом спросил Стендаль, прижимая указательным пальцем дужку очков к переносице.
– Мы письмо писали, – сказал молодой человек, входя в комнату и с осуждением глядя на разбросанные бумаги и застарелый беспорядок.
Стендаль хотел предложить гостю присесть, да не посмел, потому что стул был пыльным, а уборщица уже четвертый день хворала.
Неловкую паузу заполнил Ложкин, который отложил ручку и спросил строго:
– Ваш транспорт?
– Печка-то? Моя.
– Не ожидал, – сказал Ложкин.
«Сейчас он скажет, что номера нет, – испугался Стендаль. – А молодой человек может подумать, что Ложкин – наш газетный начальник».
– Это товарищ Ложкин, – пояснил он молодому человеку. – Пенсионер, к нам зашел на минутку.
Ложкин грустно вздохнул и поднял палец, словно хотел возразить.
– А где же редактор? – спросил молодой человек.
– Редактор в области, на совещании. Вы можете говорить со мной. Я литературный сотрудник газеты. Моя фамилия Стендаль.
– Слышал, – сказал молодой человек. И тут же покраснел, потому что догадался, что слышал не о Мише Стендале, а о его великом однофамильце.
– Даже не родственник, – улыбнулся Стендаль. – Меня часто спрашивают. А о чем вы нам письмо писали?
Молодой человек тоже улыбнулся и сказал:
– Ну и грязищу вы тут развели.
– Уборщица захворала, – объяснил Стендаль. – Но, если хотите, садитесь.
– Я садиться не буду. Я хотел только поговорить по поводу письма, которое мы с братом писали. А ответа пока нет. Я думал, что появились сомнения, вот и приехал их развеять. Раньше собраться не мог. Мы с братом лесники – летом охрана, посадки, экологический баланс приходится поддерживать. Вот сейчас немного посвободнее.
– А где сапоги покупали? – строго спросил Ложкин, которому было обидно, что его участия в разговоре не требуется.
– Васина жена, Клава, в Ленинград ездила, за деталями. Вот и купила там.
– Правдоподобно, – сказал Ложкин. И стало ясно, что во всем он видит обман и ответу не поверил.
Молодой человек снова зарделся.
– Не обращайте внимания, – попытался его ободрить Стендаль. – Так вы о печке писали?
– Что вы! – удивился лесник. – Разве мы стали бы беспокоить по пустякам? А я вам даже не представился. Фамилия моя Зайка. Такая, простите, фамилия. Брат мой Василий, а я Терентий Зайка. Живем в лесном массиве, в Заболотье.
– Так это же далеко.
– Неблизко. Километров сто тридцать будет. Точно не скажу, спидометр сломался.
– И вы весь путь на этой?..
– Я на мотоцикле хотел. Но Вася, он старший, велел печку взять. Решил, что больше впечатления произведет, что мы не какие-нибудь жулики. С нами еще батя живет, но он уже в летах и больше теорией занимается. Все издания читает. А как свежую идею углядит, кличет нас и говорит: «Детишки мои, я тут обмозговал». Ну и мы сразу за работу. Артуром нашего батю зовут. Артур Иванович Зайка.
– Очень даже странное имя, – сказал Ложкин, который тем временем обошел Терентия сзади и рассматривал его костюм и прическу.
– А какой принцип действия у печи? – спросил Стендаль.
– Принцип действия не наш, чуждый, – снова вмешался Ложкин, держа перед собой, как щит, черную папку.
– Так вы, может, письма не получали?
– Наверное, в отделе писем лежит. А у сотрудницы сегодня выходной. Вы про печку мне не рассказали.
– Печка обычно работает, – ответил Зайка, – как и положено, на дровах. Дома стоит как запасная. В морозы мы топим ее, лабораторию обогреваем, парники. А иногда ездим, если что тяжелое надо перетащить. На дровах работает.
– Знаем мы, какие дрова, – сказал неугомонный Ложкин.
– Дрова не ворованные, – обиделся Терентий. – Мы же санитарные рубки проводим.
– А колеса где? – спросил Стендаль.
– Колеса? Где же это вы видели печь на колесах? Она у нас на воздушной подушке. А вот про письмо.
– Может, вы мне своими словами расскажете? И мы вместе подумаем.
– Я сразу понял, что затеряли, но не обижаюсь. Мы с Васей новый способ передвижения предлагаем. Для наших лесных участков он годится или для пожарных. Вы меня, товарищ Бальзак, поймите правильно…
Стендаль не стал поправлять гостя. Но тут снова вмешался Ложкин.
– Отойди в сторонку, Стендаль, – сказал он.
Терентий заметил свою оплошность с фамилией и опять покраснел. Ложкин оттянул Стендаля за рукав в угол и громко зашептал:
– Ты что, не видишь?
– Чего не вижу?
– Типичный инопланетный пришелец. Проник к нам в доверие. Ты когда-нибудь видел, чтоб в таком костюме на печке ездили?
– Я вообще не видел, чтобы на печке ездили.
– Ты мне печкой зрение не застилай. Ты на детали смотри. Они всегда на деталях попадаются. Ты такой галстук видел? У нас в универмаге видел? Неземного цвета.
– Ах, оставьте, товарищ Ложкин! – сказал Стендаль.
– Зря вы меня подозреваете, – укорил Терентий, который все слышал. – Я вам и паспорт могу показать, и военный билет. Мы грамотами награждены.
– Я не сомневаюсь, – поспешил заверить его Стендаль. – Не надо документов.
– Документы ему сделали, – настаивал Ложкин. – А вот с галстуком накладка вышла.
– В Вологде куплен, – возразил Терентий.
– Я бы и то лучше придумал, – съязвил Ложкин.
– А вы хоть видали живого пришельца?
– А как же? Различаем.
– Пришельцы у нас бывают, – заметил Стендаль. – Но к нашему разговору это отношения не имеет. Продолжайте, пожалуйста, Терентий Артурович.
– Наивный простак, – обвинил его Ложкин, снова сел, достал лист бумаги из папки и сделал вид, что все дословно записывает.
– Так вернемся к нашему разговору, – сказал Терентий, который уже привык к Ложкину. – Вы Бомбара читали? «За бортом по своей воле»? Моя любимая книга.
– Я тоже к ней хорошо отношусь, – одобрил Стендаль, присаживаясь на край стола. – И тоже люблю море.
– Дело не в море. От нас оно далеко и неактуально. Бомбар что доказал: если твой корабль утонул, погибать из-за этого совсем не обязательно. Почему люди в лодке гибнут? Потому что боятся погибнуть. Парадокс, но правда. Они, так сказать, себя заранее хоронят в морской пучине.
– Правильно, – согласился Стендаль. – Психологический шок.
– И этих людей мы можем понять. Ведь страшно.
– Страшно.
– Учтите, – пригрозил Ложкин, – у нас океана нет и не предвидится.
– Я о Бомбаре только к примеру сказал, – продолжал Терентий, не обращая внимания на Ложкина. – Для ощущения психологии. Наш батя, когда Бомбара прочел, говорит нам: «Ребятишки, у меня идея в психологическом плане. А что, если страх человеческий, который есть главный ограничитель наших дерзаний и планов и вообще прогресса, влияет не только на плавание по океану, но и на другое?» Тут мы с братишкой и задумались.
– И поплыли по реке Гусь, питаясь планктоном, – не удержался Ложкин.
– Мы о чем задумались? Возьмем, к примеру, лыжника, который прыгает с трамплина. Если посчитать, с какой высоты лыжник прыгает, то ведь это смертельно! А он хоть бы что. Почему?
– Как почему? – удивился Стендаль. – Он же вперед прыгает. С разгона.
– Но вниз тоже.
– Но больше вперед.
– А если лыжник струсит, как потерпевший крушение? Если он перестанет равновесие держать?
– Тогда он упадет.
– Расшибется?
– Конечно.
– Что и требовалось доказать. Тогда вот, придя к такой мысли, мы с Васей стали думать, как без лыж обойтись.
– Нельзя, – возразил Стендаль. – Нужна начальная скорость.
Терентий поглядел на Мишу снисходительно, как академик от физики на кандидата исторических наук, который сомневается в пи-мезонах.
– Это дело можно проверить, – сказал он.
– Что проверить?
– Проверить, как идеи Бомбара приложимы к нашей скромной действительности. Пошли?
– Куда?
– На испытания метода без лыж по Бомбару. Правда, мой братишка это лучше делает, красивее. Но, в принципе, у любого получится. Главное – заранее не помереть от страха.
– Пришелец, – произнес Ложкин убежденно, следуя за молодыми людьми к выходу.
– Нет, мы гуслярские, – ответил с достоинством Терентий Зайка.
На улице, подойдя к печке, Терентий нагнулся, подкинул полешек в топку и сказал:
– Забирайтесь, не качает. Это я по городу медленно езжу, а на шоссе до шестидесяти даю.
По улице шел провизор Савич в пальто нараспашку и думал о чем-то своем, значительном. Вдоль груди у него струился сиреневый галстук, точно такой же, как у пришельца Зайки.
– Здравствуйте, – сказал Стендаль. – Где галстук покупали?
– А, здравствуйте, Миша. В универмаг вчера привезли. Вам нравится?
И Савич проследовал далее, не заметив печки. А Стендаль обернулся к Ложкину и спросил:
– Как будет с галстуком?
– Дьявольская хитрость, – не дрогнул Ложкин.
– Куда поедем? – спросил Стендаль, устраиваясь на лежанке и стараясь сохранить достоинство, потому что раньше на печках не ездил.
– Я на ней не поеду! – воскликнул Ложкин. – Еще в космос умыкнете. Я читал, что там человеческие рабы нужны. Вы мне скажите куда, и я пешком пойду.
– Рабы нам нужны, – ответил Терентий без улыбки. – Рабочих рук в лесу ой как не хватает.
– Вот-вот. Я издали погляжу. А куда идти?
– К колокольне, на берег, – объяснил Терентий. – Где раньше торговые ряды стояли.
Печка беззвучно приподнялась и поехала вперед. Лишь потрескивали дрова да разговаривали любопытные зрители.
– Товарищи, разойдитесь, – велел им Терентий. – Нездоровое любопытство. Уставились, как на машину «кадиллак».
Зрители послушались и освободили дорогу.
– Сейчас я поднимусь на колокольню, – сказал Терентий, когда печка, набрав скорость, двинулась по улице. – Там отперто, я проверял. Вы останетесь внизу и будете наблюдать. Ясно?
Колокольня была высока, над ней кружились вороны и тянулись серые облака. Печка замерла на краю высокого обрыва у реки Гусь. От колокольни ее отделял засыпанный мокрым снегом, с проплешинами зеленой травы пустырь. В будущем году на пустыре должны были строить новую гостиницу. От реки тянуло пещерным холодом.
– Ну, пока, – бросил Терентий, спрыгивая с печки. – Я бы плащ взял, холодно, но эксперимент должен быть чистым.
Не произнеся больше ни слова, Терентий скинул пиджак на руки Стендалю и четкими шагами направился к колокольне. Стендалем овладели тревожные и высокие предчувствия, и он понимал, что обыденными словами можно лишь сорвать торжественность момента.
Прошло минуты три. Стендаль стоял, облокотившись о теплую стенку печки, ждал, но ничего не происходило, лишь кричали вороны да прибежал старик Ложкин.
– Где пришелец? – спросил он.
– Терентий Артурович на колокольне. Он сейчас будет демонстрировать опыт.
– Он пришелец, ему все дозволено, – сказал Ложкин.
На вершине колокольни, на площадке у звонницы, показалась маленькая человеческая фигурка. Была она столь незначительна и беззащитна, что у Стендаля сдавило в груди.
– Ах! – воскликнул Ложкин, предчувствуя недоброе. Не таким уж он был злым и бессердечным человеком. – Если что случится, даже с пришельцем, все равно жалко.
Маленькая фигурка поднялась на площадку, и несколько секунд человечек, широко расставив руки, старался удержать равновесие. Потом шагнул вниз…
Стендаль от ужаса непроизвольно зажмурился. Ложкин сказал: «Ах!» А вдруг он сумасшедший? И они его не остановили?
Стендаль открыл глаза. Человек все еще падал. Но как-то странно. Он будто шел по воздуху, по пологой дуге, расставив в стороны руки и перебирая ногами все чаще по мере того, как приближался к земле. Последние несколько метров он быстро бежал по воздуху и, достигнув земли, не упал, а продолжал свой бег и, добежав до Стендаля, обхватил его руками, но так, чтобы не помять свой пиджак.
– Извини, Бальзак. – Он тяжело переводил дух. – Ветер меня сносил. И замерз я основательно. Давай пиджак. Ну, как эффект?
– Я думал, не переживу, – выговорил Стендаль, отдал пиджак и постарался дышать глубоко и мерно, чтобы успокоить сердце.
– Пришелец, – сказал Ложкин, не отнимая ладони от сердца, – разве можно так пугать простых земных людей?
– Нет, – ответил Терентий твердо. – Не пришелец, а последователь Бомбара, убежденный в силе человеческого духа, в материальном его проявлении.
– Мистика, – пробормотал Ложкин.
– Никакой мистики, – возразил Терентий. – Результат трехмесячного эксперимента. Мы с Василием рассудили, что можно прыгать с любой высоты по принципу трамплина. Чем скорее ты падаешь вниз, тем скорее перебирай ногами и иди вперед. И ни на секунду не останавливайся. А то каюк. И никто об этом раньше не догадывался, потому что люди как срывались вниз, так уже всё, пиши пропало. А надо равновесие соблюдать и помнить, что никакого падения нету, а есть только страх и разыгравшиеся нервы. Но пока людям не покажешь, они не верят. Вот сознался бы я вам, что хочу сойти пешком с колокольни без помощи лестницы или летательного аппарата. И что бы случилось? Поймали бы, связали и вместе с печкой – в клиническую больницу. Ведь со стороны даже посмотреть жутко, а когда сам впервые начинаешь, еще страшнее.
– Я бы на первом метре помер от страха, – признался Стендаль.
– Умер бы и не испытал бы власти Человека с большой буквы над силами природы. Как Колумб.
– А отчего он умер? – спросил Стендаль, хотя понимал, что вопрос глупый.
– Нет, ты меня не понял. Я имел в виду, если бы Колумб трусил, никогда бы не открыл Америку, а, как и ты, на первом бы метре умер. Человеку все должно быть подвластно – и земля, и вода, и воздушный океан. Это наш батя так сформулировал. А вы письма в редакции теряете.
Терентий дружески положил руку на плечо Стендалю. Опыт удался, и он теперь на редакцию не обижался. В Стендале он видел союзника, а для настоящего ученого много значит общественная поддержка.
– Если хочешь, Бальзак, я тебя научу. Начнем, правда, с небольших высот.
– Я пошел, – заторопился Ложкин. – Сердце колет. Кордиамину приму.
Он ушел, шаркая галошами, а Терентий сказал ему вслед:
– Не поверил. Собственными глазами видел, а не поверил. И многие еще не верят. А ты?
– Я верю. И сам бы попробовал. Только страшно.
– Ничего. Мне в первый раз тоже было страшновато. Поехали? Подвезу тебя и домой отправлюсь. Кстати, если вздумаешь без меня тренироваться, начинай со стола. А то ушибешься.
У дверей редакции они расстались. И договорились, что через два дня, когда Стендаль сдаст номер газеты, он приедет к Зайкам с фотокорреспондентом. Стендаль долго смотрел вслед печке. В редакцию возвращаться не хотелось. Шел уже шестой час, начало смеркаться. Стендалю представилось, как он делает шаг с немыслимой высоты и шагает дальше как ни в чем не бывало, только ветер свистит в ушах и разлетаются в стороны вороны. Только бы не потерять равновесия.
Вялый мокрый снег валил с неба. Стендаль шел, не думая, куда идет, и ноги принесли его к реке, к пустырю за колокольней. Он кинул взгляд на колокольню, но искушение взобраться туда поборол.
Далеко внизу, под обрывом, текла темная холодная река, посреди нее плыл одинокий плотик. Стендаль старался думать о будущей статье и даже решил назвать ее «По следам Бомбара». А дальше дело не пошло, потому что Стендаль вновь представил себе, как делает шаг… С дальнего низкого берега донесся женский крик. Стендаль присмотрелся. Там, неясная в сумерках, металась одинокая женская фигура. Что такое? Правильно, на плотике, замерев от ужаса, сидел маленький сорванец.
Вчера бы Стендаль рассудил, что мальчишке ничего не угрожает. В конце концов плотик прибьет к берегу. И может, сам Стендаль начал бы искать спуск с обрыва. Все это было бы вчера. А сегодня Стендаль даже не задумывался. Он владел великой тайной. Главное – идти вперед и не терять равновесия.
Самым страшным и трудным оказался первый шаг – воздух, зыбкий и бесплотный, не желал держать тяжелое человеческое тело, словно болото, тянул вниз. Захотелось закричать, сжаться в комочек, чтобы не так ужасен был удар. Но Стендаль удержал раскинутые в стороны руки и заставил себя сделать быстрый шаг вперед и еще один шаг и тут почувствовал, что идет, идет, проваливаясь вниз, но тем не менее не падая. Он считал – раз-два-три, все ускоряя счет и понимая, что надо взглянуть вниз, далеко ли до воды, но взглянуть было некогда – надо было считать, ускоряя шаг и опираясь о воздух руками.
И вдруг случилось самое страшное – неожиданный порыв ветра толкнул его, и очки легонько соскользнули на нос. Стендаль сделал то, что делает каждый человек, когда его очки сползают на нос, – он поправил их. Рукой.
И, как птица с подстреленным крылом, тут же рухнул вниз.
На счастье, в тот момент Стендаль был только метрах в четырех-пяти над черной водой и лишь десяти шагов не дошел до плотика.
Белый столб воды, словно от разрыва снаряда или мины, поднялся вверх. Уходя в обжигающую холодом глубину, Стендаль успел подумать, что теперь он обязательно простудится.
А вода уже выталкивала его наверх, и Стендаль быстро замахал руками, отфыркиваясь и конечно же потеряв очки.
Плотик был недалеко. Его Стендаль различил сквозь пелену мокрого снега и сразу вспомнил о мальчишке. Цель прежде всего. Не чувствуя холода, Стендаль рванул к плотику и уцепился за его край. Он плыл к берегу, толкая плотик перед собой. Сорванец на плоту не двигался, замер, молчал, наверное, думал о том, как его взгреют дома.
Наконец, а Стендалю казалось уже, что прошла вечность, он проплыл двадцать метров до берега. Под ногами обнаружилось скользкое покатое дно. Стендаль выпрямился, вода была по бедра, и воздух был теплым, даже горячим после студеной купели.
Он увидел женщину, подбежавшую к кромке воды, и сказал ей усталым, полным значения голосом, как пионер, остановивший поезд, которому грозило крушение:
– Держите ваше сокровище.
– Господи! – воскликнула женщина. – Ты вылезай из воды-то, простудишься.
Она нагнулась, взяла с плотика ведро с бельем и протянула свободную руку Стендалю, чтобы помочь ему выбраться на берег.
– Мостки обломились, – объяснила она. – Сама не понимаю, как это случилось. Как уж я испугалась!..
Стендаль стоял на берегу рядом с женщиной, и его била крупная, как судорога, дрожь.
– Ты как же прыгнул-то? – спросила женщина. – Я даже и не заметила откуда. Пойдешь ко мне, погреешься.
– Давайте ведро, – сказал Стендаль. – Я… я… я помогу вам его донести.
Любой, даже успешно закончившийся, эксперимент (на это указывает и Бомбар) чреват опасностью побочных эффектов. На следующее утро Стендаль слег в жестокой ангине. Через три недели он выбрался к Зайкам и узнал, что за два дня до него там побывал корреспондент одного столичного журнала.
Космический десант
Было это в августе, в субботу, в жаркий ветреный день. Николай Ложкин, пенсионер, уговорил своих соседей профессора Минца Льва Христофоровича и Корнелия Удалова провести этот день на озере Копенгаген, отдохнуть от городской суеты, от семьи и работы.
Озеро Копенгаген лежит в двадцати километрах от города, туда надо добираться автобусом, потом пешком по тропинке, через смешанный лес.
Название озера объясняется просто. Когда-то там стояла усадьба помещика Гуля (Гулькина), большого англомана, который полагал, что Копенгаген – английский адмирал. Название прижилось из-за странного для окрестных жителей звучания.
Корнелий Удалов притащил с собой удочки, чтобы порыбачить, профессор Минц – чемоданчик со складной лабораторией, хотел взять воду на пробу: он задумал разводить в озере мидий для народного хозяйства. Николай Ложкин желал загорать по системе йогов. Для начала они выбрали место в тени, под коренастой сосной, устроили там лагерь – расстелили одеяло, положили на него припасы, перекусили и завели разговор о разных проблемах. На озере был еще кой-какой народ, но из-за жары никто рыбу не ловил, отдыхали.
– Давно не было событий, – сказал Удалов. Он разделся, был в синих плавках с цветочком на боку и в газетной треуголке, чтобы не обжечь солнцем лысину.
– Обязательно будут события, – заверил старик Ложкин. – Погода стоит хорошая. Такого в наших местах не наблюдалось с 1878 года. – Для наглядности он нарисовал дату на песке, протянул стрелочку и написал рядом другую: 1978. – Столетие.
В этот момент над ними появился космический корабль. Он беззвучно завис над озером, словно облетел всю Галактику в поисках столь красивого озера, а теперь не мог налюбоваться.
– Глядите, – показал Удалов. – Космические пришельцы.
– Я же говорил, – сказал Ложкин.
– Такие к нам еще не прилетали, – заметил Удалов, поднимаясь и сдвигая назад газетную треуголку. Вид у него был серьезный.
Профессор Минц, который еще не раздевался, лишь ослабил галстук, также встал на ноги и расставил пальцы на определенном расстоянии от глаз, чтобы определить размеры корабля.
– Таких еще не видели, – подтвердил Ложкин. – Это что-то новенькое.
– Издалека летел, – определил профессор Минц, закончив измерения. – Пю-мезонные ускорители совсем износились.
Удалов с Ложкиным пригляделись и согласились с Минцем. Пю-мезонные ускорители требовали ремонта.
Корабль медленно снижался, продвигаясь к берегу, и наконец завис над самой кромкой воды, бросив тень на песок.
– Скоро высадку начнут, – сообщил Удалов.
«Да, – подумал Ложкин. – Сейчас откроется люк, и на песок сойдет неизвестная цивилизация. Вернее всего, она дружественная, но не исключено, что могла пожаловать злобная и чуждая нам космическая сила с целью покорения Земли. А ведь никаких действий не предпримешь. До города двадцать километров, к тому же автобус ходит редко».
Из корабля выдвинулись многочисленные щупы и анализаторы.
– Измеряют условия, – произнес Удалов.
Минц только кивнул. Это было ясно без слов.
Анализаторы спрятались.
И тут случилось неожиданное.
Открылся другой люк, снизу. Вместо космонавтов на берег, словно из силосной башни, вывалился ком зеленой массы, похожий на консервированный шпинат, такие консервы были недавно в гастрономе и шли на приготовление супа. Люк тут же захлопнулся. Зеленая масса расползлась по песку густым киселем и приблизилась к воде. Корабль взвился вверх и исчез.
– Похоже, – сказал Минц, – на водную цивилизацию.
Ложкин, который уже про себя отрепетировал приветственное слово, так как обладал жизненным опытом и опытом общественной работы, молчал. Зеленая масса не имела никаких органов, к которым можно было бы обратиться с речью. Поэтому Ложкин сказал шепотом, чтобы кисельный пришелец не подслушал:
– Хулиганство в некотором роде. Все озеро загадит, а люди купаются.
– Купаться пока не придется, – ответил Корнелий Удалов. – Возможно, у пришельца нежные части и можно их повредить.
– Плесень он, а не пришелец, – пришел к окончательному выводу Ложкин.
– Может, он радиоактивный? – спросил Удалов.
– Сейчас проверим.
Минц раскрыл чемоданчик, в котором находились складной микроскоп, спектрограф, счетчик Гейгера, пробирки, химикалии и другие приборы.
Старик Ложкин, проникшись недоверием к зеленому пришельцу, который уже частично вполз в воду и расплылся по ее поверхности зеленой пленкой, достал химический карандаш и на листе фанеры написал печатными буквами:
Купаться, ловить рыбу, стирать бельеЗАПРЕЩАЕТСЯ.ОПАСНО!
Потом он прикрепил фанеру к сосновому стволу, и люди, сходившиеся к месту происшествия с других участков берега, останавливались перед объявлением и читали его.
Минц спустился к воде и нагнулся над зеленой жижей. Счетчик радиации молчал, что было утешительно.
– А не исключено, – сказал он Удалову, который стоял над ним, страховал сзади, – что это – космический десант.
– Жалко, – огорчился Удалов. – Я всегда стою за дружбу между космическими цивилизациями.
– Если эта зеленая плесень начнет быстро размножаться, покроет слоем всю нашу планету, то инопланетным агрессорам нетрудно будет взять нас голыми руками.
– Можно попроще способ придумать.
– Что мы знаем об их психологии? – спросил Минц. – А если они всегда так покоряют чужие планеты?
Один из рыболовов сказал:
– Поеду домой. Мне с огорода надо помидоры снять. А то пришельцы все потравят.
За ним последовали некоторые другие из купальщиков и рыболовов. Неосновная масса осталась, потому что для среднего горожанина нет большего удовольствия, чем встреча с неведомым, прикосновение к тайнам космоса.
– Теперь, – заявил профессор Минц, – надо исследовать поведение плесени в водной среде.
Он начал брать пробы и смотреть на пришельца в микроскоп.
Удалов также не терял времени даром. Он сначала нарисовал в воздухе круг и треугольник, взывая к общему для всех разумных существ знанию геометрии, а затем достал из-под сосны свои брюки, чтобы наглядно объяснить пришельцу теорему Пифагора о штанах. Плесень не обратила внимания на усилия Удалова, но тут были обнародованы выводы Минца:
– Совершенно безопасная субстанция. Микроскопические водоросли, примитивные организмы, встречаются на Земле. Разумом не отличаются.
– Это еще не факт, – возразил Удалов, но штанами махать перестал, а надел их. – Может, если сложить их вместе, получится коллективный разум.
– Если даже целое поле капусты сложить вместе, получится большая куча капусты, но никакого разума, – возразил Минц.
– А если она размножится и покорит Землю? – спросил Ложкин. – Вы же сами предупреждали, Лев Христофорович.
– У нее было много времени, чтобы это сделать в далеком прошлом. Миллиарды лет эта водоросль обитает на Земле.
– Она рыбу всю поморит, – высказал предположение молодой человек в тельняшке.
– Рыба ее уже кушает, – сказал Минц.
Так рухнула теория о космическом десанте, пропала втуне заготовленная Ложкиным речь и провалились усилия Удалова по поводу теоремы Пифагора. Минц свое дело знал. Если он сказал, что космический корабль вывалил на берег озера Копенгаген просто кучу мелких водорослей, значит, так оно и есть.
Разочарованные зрители разошлись по берегу, а Минц с соседями сел под сосну у запретительной надписи и стал думать, что бы это все значило. Не может быть, чтобы из космоса прислали корабль только для того, чтобы привезти кучу водорослей.
Водоросли, оставшиеся на берегу, быстро сохли под солнцем, чернели, впитывались в песок.
– Нам поставили логическую загадку, – предположил Удалов. – Нас испытывают. Испугаемся или нет.
– А сами наблюдают? – спросил Ложкин.
– Сами наблюдают.
Минц поднялся и пошел по берегу, чтобы определить границы выпадения водорослей. Озеро жило своей мирной, тихой субботней жизнью, и ничто не напоминало о недавнем визите космического корабля. Минц споткнулся обо что-то твердое. Полагая, что это камень, он ударил носком по препятствию, но препятствие не поддалось, зато Минц, который был в легких сандалиях, ссадил большой палец.
– Ой! – сказал он.
Удалов уже спешил к нему на помощь:
– Что такое?
– Камень. Он водорослями покрыт.
Интуиция подсказала Удалову, что это не камень. Он быстро опустился на корточки, разгреб водоросли, еще влажные и липкие. И его старания были вознаграждены. Небольшой золотистый цилиндр, верхняя часть которого выступала из песка, медленно ввинчиваясь, уползал вглубь.
– А вот и пришелец, – сказал Удалов, по-собачьи разгребая обеими руками песок, чтобы извлечь цилиндр.
Цилиндр был невелик, но тяжел. Минц живо достал из чемоданчика ультракоротковолновый приемник, который оказался там только потому, что в чемоданчике было все, что могло пригодиться, настроил его и сообщил:
– Так я и думал. Цилиндр издает сигнал на постоянной волне.
– И на нем что-то написано, – сказал Удалов.
И вправду, на нем было что-то написано.
Цилиндр развинтили. Внутри обнаружили свернутый в трубочку свиток металлической фольги с такими же буквами, как и на его оболочке.
– Похоже на эсперанто, – размышлял Минц, разглядывая текст. – Только другой язык. И неизвестная мне графика. Но ничего, окончания и префиксы просматриваются, знаки препинания угадываются, структура проста. Дайте мне десять минут, и я, как и любой на моем месте лингвистический гений, прочту этот текст.
– Вот и хорошо, – заключил Удалов. – А я побегу колбасу порежу и пиво открою.
Удалов приготовил пищу, Минцу тоже дали бутерброд, и через десять минут расшифровка была закончена, ибо Минц использовал в своей работе опыт Шампольона – Кнорозова и других великолепных мастеров, специалистов по клинописи и письменности майя.
– Внимание, – сказал Минц. – Если вы заинтересованы, я прочту перевод космического послания. Оно не лишено интереса. – Минц тихо хихикнул. – Сначала надпись на цилиндре: «Вскрыть через четыре миллиарда лет».
– Чего? – спросил Ложкин.
– За точность перевода ручаюсь.
– Тогда зря мы это сделали, – заметил Удалов. – Они надеялись, а мы нарушили.
– Мне столько не прожить, – возразил Ложкин. – Поэтому раскаиваться нечего. Кроме того, мы сначала вскрыли, а потом уже прочли запрещение.
– А теперь текст, – напомнил Минц. – «Дорогие жители планеты, название которой еще не придумано…»
– Как так? – удивился Ложкин. – Наша планета уже называется.
– И это в космосе многим известно, – поддержал его Удалов.
Минц переждал возражения и продолжал:
– «Сегодня минуло четыре миллиарда лет с того дня, как автоматический корабль-сеялка с нашей родной планеты Прекрупицан совершил незаметный, но принципиальный шаг в вашей эволюции. Будучи адептами теории и практики панспермии, мы рассылаем во все концы Галактики корабли, груженные примитивной формой жизни – водорослями.
Попадая на ненаселенную планету, они развиваются, так как являются простейшими и неприхотливыми живыми существами. Через много миллионов лет они дадут начало более сложным существам, затем появятся динозавры и мастодонты, и, наконец, наступит тот счастливый в жизни любой планеты день, когда обезьяночеловек возьмет в лапы палку и начнет произносить отдельные слова. Затем он построит себе дом и изобретет радио. Знайте же, что вы, наши отдаленные во времени-пространстве родственники по эволюции, благодаря изобретению радио поймали сигнал нашей капсулы, захороненной четыре миллиарда лет назад на берегу необитаемого и пустынного озера, потому что мы засеяли его воду примитивными водорослями. Мы не оставляем нашего обратного адреса – срок слишком велик. Мы подарили вашей планете жизнь и создали вас совершенно бескорыстно. Если вы нашли капсулу и прочли послание – значит, наша цель достигнута. Скажите нам спасибо. Счастливой эволюции, друзья!»
– Вот и всё, – закончил Минц, не скрывая некоторой грусти. – Они немного опоздали.
– Я же говорил, что они разумные, – сказал Удалов.
11 никакой враждебности.
Удалов верил в космическую дружбу, и записка в цилиндре лишь укрепила его в этой уверенности.
Микроскопические водоросли плавали по озеру, и их ели караси. Но Ложкин вдруг закручинился…
– Ты чего? – спросил Удалов. – Чем недоволен? Адреса нету? Адрес мы узнаем. Слетаем к ним, вместе посмеемся.
– Я не об адресе. Я думаю, может, поискать еще одну капсулу?
– Какую еще?
– Ну, ту самую, которую кто-то оставил на Земле четыре миллиарда лет назад.
Ретрогенетика
Славный майский день завершился небольшой образцово-показательной грозой с несколькими яркими молниями, жестяным нестрашным громом, пятиминутным ливнем и приятной свежестью в воздухе, напоенном запахом сирени. Районный центр Великий Гусляр нежился в этой свежести и запахах. Пенсионер Николай Ложкин вышел на курчавый от молодой зелени, чистый и даже кокетливый по весне двор с большой книгой в руках. По двору гулял плотный лысый мужчина – профессор Лев Христофорович Минц, который приехал в тихий Гусляр для поправки здоровья, подорванного напряженной научной деятельностью. Николай Ложкин любил побеседовать с профессором на умственные темы, даже порой поспорить, так как сам считал себя знатоком природы.
– Чем увлекаетесь? – спросил профессор. – Что за книгу вы так любовно прижимаете к груди?
– Увлекся антропологией, – сказал Ложкин. – Интересуюсь проблемой происхождения человека от обезьяны.
– Ну и как, что-нибудь новенькое?
– Боюсь, что наука в тупике, – пожаловался Ложкин. – Сколько всего откопали, а до главного не докопались: как, где и когда обезьяна превратилась в человека.
– Да, момент этот уловить трудно, – согласился Лев Христофорович. – Может быть, его и не было?
– Должен быть, – убежденно ответил Ложкин. – Не могло не быть такого момента. Ведь что получается? Выкопают где-нибудь в Индонезии или Африке отдельный доисторический зуб и гадают: человек его обронил или обезьяна. Один скажет: человек. И назовет этого человека, скажем, древнеантропом. А другой поглядит на тот же зуб и отвечает: «Нет, это зуб обезьяний, и принадлежал он, конечно, древнепитеку». Казалось бы, какая разница – никто не знает! А разница в принципе!
Минц наклонил умную лысую голову, скрестил руки на тугом, обтянутом пиджаком животе и спросил строго:
– И что же вы предлагаете?
– Ума не приложу, – сознался Ложкин. – Надо бы туда заглянуть. Но как? Ведь путешествие во времени вроде бы невозможно.
– Совершенная чепуха, – ответил Минц. – Я пытался сконструировать машину времени, забрался во вчерашний день и там остался.
– Не может быть! – воскликнул Ложкин. – Так и не вернулись?
– Так и не вернулся, – сказал Минц.
– А как же я вас наблюдаю?
– Ошибка зрения. Что для вас сегодня, для меня вчерашний день, – загадочно ответил Минц.
– Значит, никакой надежды?
Профессор глубоко задумался и ничего не ответил.
Дня через три профессор встретил Ложкина на улице.
– Послушайте, Ложкин, – сказал он. – Я вам очень благодарен.
– За что? – удивился Ложкин.
– За грандиозную идею.
– Что же, – ответил Ложкин, который не страдал излишней скромностью. – Пользуйтесь, мне не жалко.
– Вы открыли новое направление в биологии!
– Какое же? – поинтересовался Ложкин.
– Вы открыли генетику наоборот.
– Поясните, – потребовал Ложкин ученым голосом.
– Помните нашу беседу о недостающем звене в происхождении человека?
– Как же не помнить.
– И ваше желание заглянуть во мглу веков, чтобы отыскать момент превращения обезьяны в человека?
– Помню.
– Тогда я задумался: что такое жизнь на Земле? И сам себе ответил: непрерывная цепь генетических изменений. Вот среди амеб появился счастливый мутант, он быстрее других плавал в первобытном океане, или глотка у него была шире. От него пошло прожорливое и шустрое потомство. Встретился внук этой амебы с жутко хищной амебихой – вот и еще шаг в эволюции. И так далее, вплоть до человека. Улавливаете связь времен?
– Улавливаю, – ответил Ложкин и добавил: – В беседе со мной нет нужды прибегать к упрощениям.
– Хорошо. Мы, люди, активно вмешиваемся в этот процесс. Мы подглядели, как это делает природа, и продолжаем за нее скрещивание, отбор, создаем новые сорта пшеницы, продолжаем эволюцию собственными руками.
– Продолжаем, – согласился Ложкин. – Хочу на досуге вывести быстрорастущий забор.
– Молодец. Всегда у вас свежая идея. Так вот, после беседы с вами я задумался: а всегда ли правильно мы следуем за природой? Природа слепа. Она знает лишь один путь – вперед, независимо от того, хорош он или плох.
– Путь вперед всегда прогрессивен, – заметил Ложкин.
– Тонкое наблюдение. А если нарушить порядок? Если все перевернуть? Вы сказали: как бы увидеть недостающее звено? Отвечаю: распутать цепь наследственности. Прокрутить эволюцию наоборот. Углубляясь в историю, добраться до ее истоков.
– Нам и без этого дел хватает, – возразил Ложкин.
– А перспективы? – спросил профессор, наклонив голову и прищурившись.
– Это не перспективы, а ретроспективы, – сказал Ложкин.
– Великолепно! – воскликнул Минц. – Чем пользуется генетика? Скрещиванием и отбором. Нашу с вами новую науку мы назовем ретрогенетикой. Ретрогенетика будет пользоваться раскрещиванием, открещиванием и разбором. Генетика будет выводить новую породу овец, которой еще нет, а ретрогенетика – ту породу, которой уже нет. И ученым не надо будет копаться в земле. Заказал палеонтолог в лаборатории: выведите мне первого неандертальца, хочу поглядеть, как он выглядел. Ему отвечают: будет сделано.
– Слабое место, – заявил Ложкин.
– Слабое место? У меня?
– Ваш неандерталец жил миллион лет назад. Вы что же, собираетесь миллион лет ждать, пока его снова выведете?
– Слушайте, Ложкин. Если бы мы отдавались на милость природе, то сорта пшеницы, которые колосятся на колхозных полях, вывелись бы сами по себе через миллион лет. А может, и не вывелись бы, потому что природе они не нужны.
– Ну, не миллион лет, так тысячу, – не сдавался Ложкин. – Пока ваш неандерталец родится да еще своих предков народит.
– Нет, нет и еще раз нет, – сказал профессор. – Зачем же нам реализовывать все поколения? В каждой клетке закодирована ее история. Все будет, дорогой друг, на молекулярном уровне, как учит академик Энгельгардт.
– Ну ладно, выведете вы, что было раньше. А что дальше? Какая польза от этого народному хозяйству?
Ответ на свой вопрос Ложкин получил через три месяца, когда пожелтели липы в городском саду и дети вернулись из пионерских лагерей.
Лев Христофорович стоял у ворот и чего-то ждал, когда Ложкин, возвращаясь из магазина с кефиром, увидел его.
– Как успехи? – поинтересовался он. – Когда увидим живого неандертальца?
– Мы его не увидим, – отрезал профессор. Он осунулся за последние недели: видно, много было умственной работы. – Есть более важные проблемы.
– Какие же?
– Вы знакомы с Иваном Сидоровичем Хатой?
– Не приходилось, – сказал Ложкин.
– Достойный человек, заведующий фермой нашего пригородного хозяйства «Гуслярец». Зоотехник, смелый, рисковый. Большой души человек.
Тут в ворота въехал газик, из которого выскочил шустрый очкастый человечек большой души.
– Поехали? – предложил он, поздоровавшись.
– С нами Ложкин, – сказал Минц. – Представитель общественности. Пора общественность знакомить.
– Не рано ли? – обеспокоился Хата. – Спугнут.
– Нам ли опасаться гласности? – спросил Минц.
После короткого путешествия газик достиг животноводческой фермы. Рядом с коровником стоял новый высокий сарай.
– Ну что же, заходите, только халат наденьте.
Хата выдал Ложкину и Минцу халаты и сам тоже облачился. Ложкин ощутил покалывание в желудке и приготовился увидеть что-нибудь необычное. Может, даже страшное. Но ничего страшного не увидел.
Под потолком горело несколько ярких ламп, освещая кучку мохнатых животных, жевавших сено в дальнем углу.
Ложкин присмотрелся. Животные были странными, таких ему раньше видеть не приходилось. Они были покрыты длинной рыжей шерстью, носы у них были длинные, ноги толстые, как столбы. При виде вошедших людей животные перестали жевать и уставились на них маленькими черными глазками. И вдруг захрюкали, заревели и со всех ног бросились навстречу Хате и Минцу, чуть не сшибли их, ластились, неуклюже прыгали, а профессор начал доставать из карманов халата куски сахара и угощать животных.
– Что за звери? – спросил Ложкин, отошедший к стенке, подальше от суматохи. – Почему не знаю?
– Не догадались? – удивился Хата. – Мамонтята. Каждому ясно.
– Мне не ясно, – сказал Ложкин, отступая перед мамонтенком, который тянул к нему недоразвитый хоботок, требуя угощения. – Где бивни, где хоботы? Почему мелкий размер?
– Все будет, – успокоил Ложкина Минц, оттаскивая мамонтенка за короткий хвостик, чтобы не приставал к гостю.
– Все с возрастом отрастет. Ваше удивление мне понятно, потому что вам не приходилось еще сталкиваться с юными представителями этого славного рода.
– Я и со старыми не сталкивался, – возразил Ложкин. – И прожил, не жалуюсь. Откуда вы их откопали?
– Неужели не догадались? Они же выведены методом ретрогенетики – раскрещиванием и разбором. Из слона мы получили предка слонов и мамонтов, близкого к мастодонтам. Потом пошли обратно и вывели мамонта.
– Так быстро?
– На молекулярном уровне, Ложкин, на молекулярном уровне. Под электронным микроскопом. Методом раскрещивания, открещивания и разбора. И вы понимаете теперь, почему я отказался от соблазнительной идеи отыскать недостающее звено, а занялся мамонтами?
– Не понимаю, – сказал Ложкин.
– Вы, товарищ, видно, далеки от проблем животноводства, – вмешался Иван Хата. – Ни черта не понимаете, а критикуете. Нам мамонт совершенно необходим. Для нашей природной зоны.
– Жили без мамонта и прожили бы еще, – упорствовал Ложкин.
– Эх, товарищ Ложкин. – В голосе Хаты звучало сострадание. – Вы когда-нибудь думали, что мы имеем с мамонта?
– Не думал. Не было у меня мамонта.
– С мамонта мы имеем шерсть. С мамонта мы имеем питательное мясо, калорийное молоко и даже мамонтовую кость.
– Но главное, – воскликнул Минц, – бесстойловое содержание! Круглый год на открытом воздухе, ни тебе утепленных коровников, ни специальной пищи. А подумайте о труднодоступных районах Крайнего Севера: мамонт там – незаменимое транспортное средство для геологов и изыскателей.
Прошло еще три месяца.
Однажды к дому шестнадцать по Пушкинской, где проживал Лев Христофорович, подъехала сизая «Волга», из которой вышел скромный на вид человек средних лет, в дубленке. Он вынул изо рта трубку, поправил массивные очки, снисходительно оглядел непритязательный двор, и его взгляд остановился на Ксении Удаловой, которая развешивала белье.
– Скажите, гражданка, если меня не ввели в заблуждение.
– Вы корреспондент будете? – спросила Ксения.
– Вот именно. Из Москвы. А как вы догадались?
– А чего не догадаться, – ответила Ксения. – Восемнадцатый за неделю. Пройдите на первый этаж, дверь открыта. Лев Христофорович отдыхает.
Поднимаясь по скрипучей лестнице в скромную обитель великого профессора, журналист бормотал: «Шарлатанство. Ясно, шарлатанство. Вводят в заблуждение общественность…»
– Заходите, – откликнулся на стук профессор Минц.
Он в тот момент отдыхал, а именно: читал «Химию и жизнь», слушал последние известия по радио, смотрел хоккей по телевизору, гладил брюки и думал.
– Из Москвы. Журналист, – сказал гость, протягивая удостоверение. – Это вы тут мамонтов разводите?
Журналист произнес это таким тоном, словно подразумевал: «Это вы водите за нос общественность?»
– И мамонтов, – скромно ответил профессор, прислушиваясь к сообщениям из Канберры и радуясь мастерству лучшего в сезоне хоккеиста.
– С помощью… – журналист извлек из замшевого кармана записную книжку, – ретро, простите, генетики?
Доверчивый Минц не уловил иронии в голосе журналиста.
– Именно так, – подтвердил он и набрал из стакана в рот воды, чтобы обрызгать брюки.
– И есть результаты?
Минц провел раскаленным утюгом по складке, поднялось облако пара.
– С этим надо что-то делать, – сказал Минц. Он имел в виду брюки и ситуацию в Австралии.
– И все-таки, – настаивал журналист. – Можно взглянуть на ваших мамонтов?
– А почему бы и нет? Они в поле пасутся. Добывают корм из-под снега.
– Ясно. А еще каких-нибудь животных вы можете вывести?
– Будете проходить мимо речки, – сказал Минц, – поглядите в полынью. Там бронтозавры. Думаем потом отправить их в Среднюю Азию для расчистки ирригационных сооружений.
В этот момент в окно постучала длинным, усеянным острыми зубами клювом образина. Крылья у образины были перепончатые, как у летучей мыши. Образина гаркнула так, что зазвенели стекла и форточка сама собой открылась.
– Не может быть! – воскликнул журналист, отступая к стене. – Это что такое? Мамонт?
– Мамонт? Нет, это Фомка. Фомка – птеродактиль. Когда вырастет, размахнет свои крылья на восемь метров.
Минц отыскал под столом пакет с тресковым филе, подошел к форточке и бросил пакет в разинутый клюв образине. Птеродактиль подхватил пакет и заглотнул, не разворачивая.
– Зачем вам птеродактиль? – спросил журналист. – Только людей пугать.
Он был уже не так скептически настроен, как в первый момент.
– Как зачем? Птеродактили нам позарез нужны. Из их крыльев мы будем делать плащи-болонья, парашюты, зонтики, наконец. К тому же научим их пасти овец и охранять стада от волков.
– От волков? Ну да, конечно… – Журналист прекратил расспросы и вскоре удалился.
«Возможно, это до определенной степени и не шарлатанство, – думал он, спускаясь по лестнице к своей машине, – но по большому счету это все-таки шарлатанство».
Весь день до обеда корреспондент ездил по городу, издали наблюдал за играми молодых мамонтов, недовольно морщился, когда на него падала тень пролетающего птеродактиля, и вздрагивал, заслышав рев пещерного медвежонка.
– Нет, не шарлатанство, – повторял он упрямо. – Но кое в чем хуже, чем шарлатанство.
Весной в журнале, где состоял тот корреспондент, появилась статья под суровым заглавием:
ПЛОДЫ ЛЕГКОМЫСЛИЯ
Нет смысла передавать опасения и измышления гостя. Он предупреждал, что новые звери нарушат и без того неустойчивый экологический баланс, что пещерные медведи и мамонты представляют опасность для детей и взрослых. А в заключение журналист развернул страшную картину перспектив ретрогенетики:
«Безответственность периферийного ученого и пошедших у него на поводу практических работников гуслярского животноводства заставляет меня бить тревогу. Эксперимент, не проверенный на мелких и безобидных тварях (жуках, кроликах и т. д.), наверняка приведет к плачевным результатам. Где гарантия того, что мамонты не взбесятся и не потопчут зеленые насаждения? Что они не убегут в леса? Где гарантия того, что бронтозавры не выползут на берег и не отправятся на поиски новых водоемов? Представьте себе этих рептилий, ползущих по улицам, сносящих столбы и киоски. Я убежден, что птеродактили, вместо того чтобы пасти овец и жертвовать крыльями на изготовление зонтиков, начнут охотиться на домашнюю птицу, а может быть, на тех же овец. И все кончится тем, что на ликвидацию последствий непродуманного эксперимента придется мобилизовать трудящихся и тратить народные средства…»
Статья попалась на глаза профессору Минцу лишь летом.
Читая ее, профессор лукаво улыбался, а потом захватил журнал с собой на открытие межрайонной выставки. Центром выставки, как и следовало предполагать, был павильон «Ретрогенетика». Именно сюда спешили люди со всех сторон, из других городов, областей и государств. Пробившись сквозь интернациональную толпу к павильону, Лев Христофорович оказался у вольера, где гуляли мамонты.
Было жарко, поэтому мамонты были коротко острижены и казались поджарыми, словно собаки породы эрдельтерьер. У некоторых уже прорезались бивни. Птеродактили сидели у них на спинах и выклевывали паразитов. В круглом бассейне посреди павильона плавали два бронтозавра. Время от времени они тяжело поднимались на задние лапы и, прижимая передние к блестящей груди, выпрашивали у зрителей плюшки. У кого из зрителей не было плюшки, кидали пятаки.
Здесь, между вольером и бассейном, Минц увидел Ложкина и Хату и прочел друзьям скептическую статью.
Смеялись не только люди. Булькали от хохота бронтозавры, трубили мамонты, а один птеродактиль так расхохотался, что не мог закрыть пасть, пока не прибежал служитель и не стукнул весельчаку как следует деревянным молотком по нижней челюсти.
– Неужели, – сказал профессор, когда все отсмеялись, – этот наивный человек полагает, что мы стали бы выводить вымерших чудовищ, если бы не привили им генетически любви и уважения к человеку?
– Никогда, – отрезал Ложкин. – Ни в коем случае.
Птеродактиль, все еще вздрагивая от смеха, стуча когтями по полу, подошел к профессору, и тот угостил его конфетой. Маленькие дети по очереди катались верхом на мамонтах, подложив под попки подушечки, чтобы не колола остриженная жесткая шерсть. Бронтозавры собирали со дна бассейна монетки и честно передавали их служителям. В стороне скулил пещерный медведь, потому что его с утра никто не приласкал.
…В тот день столичного журналиста, неудачливого пророка, до полусмерти искусала его домашняя сиамская кошка.
Сильнее зубра и слона
– Вам письмо, Мишенька, – прошелестела редакционная секретарша, беленькое пушистое существо с детским точным прозвищем Курочка.
Миша Стендаль поморщился. У него сидел пенсионер с жалобой, шел солидный разговор о водопроводе, пенсионер величал Мишеньку по отчеству, так что обращение Курочки было неуместным.
– Положите на стол, Антонина Панфиловна, – сказал Миша.
Курочка вспыхнула от такого афронта и обиженно уцокала каблучками из комнаты. Миша вздохнул и обратился к пенсионеру:
– Продолжайте, я слушаю.
А сам покосился на письмо. Письмо было личное. «Гор. Великий Гусляр. Редакция газеты «Гуслярское знамя». Тов. Стендалю М. А.».
Но главное – обратный адрес. Стендаль даже перестал слушать пенсионера, только поддакивал и ждал момента, когда можно будет письмо вскрыть. Обратный адрес был такой: «Гуслярский район, Заболоцкое лесничество. Зайке Терентию Артуровичу».
Терентий Зайка был старым знакомым Стендаля, представителем семейства талантливых изобретателей. Месяца три назад Зайка приезжал в город на самоходной русской печи своего изобретения, и тогда Стендаль написал о нем яркий очерк, который был перепечатан в сокращенном виде в областной газете.
Стендаль давно просился к Зайкам в гости, ждал приглашения. И вот письмо.
Наконец пенсионер ушел. Стендаль сразу потянулся к письму, вскрыл его и прочел следующее: «Здравствуй, дорогой друг Михаил Бальзак!» Слово «Бальзак» было аккуратно зачеркнуто, и поверх написано: «Стендаль». Терентий вечно забывал, с каким великим писателем Миша однофамилец, – рассеянность, простительная для самородка.
«Пишет тебе Терентий Зайка, если вы меня не забыли. Жизнь у нас тихая, природа начинает оживать после зимней спячки, хотя до весны еще не близко. Зимний период для нашей семьи выдался занятый. Надо подготовиться к лету, к борьбе с лесными пожарами, вредными насекомыми и туристами, подкармливаем диких животных, ведем текущие дела и немало времени отдаем научной работе. Как вы знаете, Миша, наш батя Артур Иванович, мой брат Василий и лично я склонны к размышлениям. Раза два приезжали корреспонденты, жаль, что тебя с ними не было, но мы с чужими людьми держим себя сдержанно, потому что некоторые из них гоняются за сенсацией. Печка наша на ходу, не жалуемся. Последние три месяца мы посвятили биологии. Кое-чего добились. Если тебе интересно, приезжай к нам в субботу или воскресенье, буду ждать тебя с нетерпением, адрес ты знаешь.
Остаюсь преданный тебе друг Терентий».
От Гусляра до Заболотья полтора часа на автобусе, а оттуда до кордона по проселку час пешком, если не будет попутки.
Когда Стендаль, одурев от долгой езды и духоты, выбрался из автобуса, его ждали.
Стоял хороший, яркий, морозный, искристый мартовский день. Солнце светило по крышам, бросало сиреневые тени от голых деревьев на серебристый снег, посреди площади стояла большая беленая – на снегу не сразу различишь – русская печь. В печке трепетал огонь, из трубы тянулся прозрачный дымок, рядом с печкой стоял Терентий Зайка собственной персоной, в темном костюме, при галстуке, в блестящих ботинках.
– Эй! – обрадовался корреспондент. – Терентий! Какими судьбами? Не простудись!
– Здравствуйте, Миша, – ответил Терентий. – А я за вами.
По площади шли люди, бежали дети, никто не обращал внимания на русскую печь, на которой приехал Терентий. В округе привыкли к чудачествам Заек, но уважали за талант и добрый нрав.
В истории человечества встречаются гениальные изобретатели. Порой они имеют обыкновение уединяться для того, чтобы готовить гибель всему живому, или сходят с ума от одиночества. Совсем иное дело Зайки. Эта дружная семья состоит из Артура Ивановича, его сыновей Василия и Терентия, а также из Васиной жены Клавдии. В обыденной жизни эта семья ничем не отличается от окружающих. Василий и Терентий окончили в Заболотье среднюю школу, отслужили в армии, работают, учатся заочно в лесотехническим институте. Василий в этом году защищает диплом. Артуру Ивановичу не пришлось получить высшего образования – война помешала. Однако он начитан, способен к иностранным языкам. В лесной глуши выучил английский, французский, японский, хинди, санскрит, латынь и некоторые другие. Полиглотство Артура Ивановича не пустое, оно направлено на чтение журналов и научной литературы. Василий и Терентий – верные помощники отцу и мастера золотые руки. В силу того что они работают коллективом, Зайкам удалось сделать некоторые изобретения, которые не по зубам целым научно-исследовательским институтам как у нас, так и за рубежом. Клава в этом коллективе служит здоровой оппозицией, критическим центром. Если она признала новую работу, работе открывается широкая дорога. Если забраковала, лучше сменить тему.
Есть в деятельности Заек и недостаток – мало кто с ней знаком. Виной тому излишняя скромность. Они даже порой заблуждаются, полагая: если даже что-то изобрели, все равно в больших городах это давно известно.
Терентий принял у гостя из рук тяжелую сумку с гостинцами и покачал головой:
– Зря вы себя так утруждали, Миша.
Стендаль забрался на лежанку, укутал ноги тулупом, Терентий подбросил в печку дровишек. Печка немного приподнялась на воздушной подушке, накренилась, сильнее потянуло дымом. Терентий сидел спереди, свесив ноги и управляя изящно вырезанными из дерева рычагами.
Печка шла мягко, километров сорок, не больше, ели покачивали темными лапами, белки выбегали на дорогу, приветствовали лесника взмахами хвостов.
– Ой! – воскликнул Стендаль. – Погляди.
На краю дороги стоял медведь оранжевого цвета. Медведь сложил на животе лапы и мычал, покачивая головой.
– Что, красиво? – спросил Терентий, притормаживая.
– Красиво? Да медведь-то оранжевый.
– Ясное дело, оранжевый, я не дальтоник, вижу.
Терентий метнул в медведя бубликом, тот подхватил подарок и удалился в лес.
– Мы преследовали две цели, – сказал Терентий, прибавляя скорость. – Во-первых, контроль над крупными хищниками. Его издали видно, хочешь – наблюдай, хочешь – контролируй численность.
– А вторая цель?
Оранжевая точка мелькнула в просвете между стволов и исчезла.
– Вторая цель – создание новых мехов. Ты еще увидишь – у нас два зеленых волка бегают.
– Это великолепно! – воскликнул Стендаль. – И цвет крепко держится?
– Цвет натуральный. Другого не держим. А вот насчет великолепно или нет, у нас разногласия.
– Почему же?
– А потому что медведю тоже питаться надо. На одних ягодах не проживешь, а он теперь в лесу как светофор. Вот и пришлось ему обратиться за помощью к людям. Подкармливаем. Или вот взять, к примеру, зеленых волков.
И тут Стендаль увидел, что по дороге, низко опустив головы и вытянув в струнку хвосты, вслед за печкой несутся два зеленых волка. Зрелище было почище, чем оранжевый медведь.
– Вот они!
– Они, это точно. Не бойся, они не кусаются. Они обедать торопятся.
И в самом деле, волки обогнали печку и пронеслись дальше.
– Летом такому волку раздолье – маскировка в лучших традициях. А зимой он – как пальма на снегу. Тоже пришлось взять на снабжение.
За такой беседой и коротали дорогу.
– А ты чего, Терентий, без пальто, в одном костюме? – спросил Стендаль. – Тоже изобретение?
И уже догадывался: или в синий костюм Терентия вживлены электрические нитки, или, может, вокруг него лежит силовое поле.
– С детства, – ответил Терентий, – имеем обыкновение обливаться холодной водой. Батя нас всегда в строгости держал. Вася, тот раньше в проруби регулярно купался. Теперь Клава возражает.
– Ясно, – сказал Стендаль с некоторым разочарованием. Очень уж сложно сплеталось в Зайках научное, передовое с обыденным.
Печка въехала в открытые ворота.
– Вы уж простите за нескромность, отведайте нашего, домашнего, – сказал Артур Иванович, приглашая гостя за стол. Стол был уставлен снедью.
Миловидная Клава в широких джинсах и белой, расшитой большими цветами куртке навыпуск смущенно зарделась, когда Стендаль похвалил пищу – телятину в кляре, артишоки, малиновый мусс, протертый луковый суп и другие неприхотливые достижения домашней кулинарии.
– А ты, Клавочка, не стесняйся, – сказал Василий, очень похожий на младшего брата, такой же золотоволосый, тонкий и аккуратный. – Гость воздает тебе должное. Чего уж стесняться.
После сладкого Клава подала мужчинам кофе.
– Сами выращиваем кофе, – объяснил Терентий. – В теплицах, на гидропонике. Жаль, ты рано приехал, ананасы еще не поспели. К апрелю первые пойдут.
– А мы ему в город пошлем, – пообещал Артур Иванович. – Пусть побалуется витаминами.
– Большое спасибо, – сказал Стендаль.
Он наслаждался уютом и гостеприимством Заек. От камина тянуло теплом, под ногами лежали разноцветные экспериментальные шкуры диких животных. В душе жило сладкое томительное ощущение грядущих чудес.
Артур Иванович, словно угадав мысли Стендаля, произнес:
– Мы о вас, Миша, простите за прямоту, наслышаны от Тереши. Он очень тепло отзывается.
– Ну что вы!
– И вот решили мы показать вам наши последние опыты, а вы уж сами думайте, что достойно опубликования на страницах прессы, а с чем еще надо погодить.
– Я готов! – Стендаль вскочил с мягкого кресла, готовый к действиям.
Зайки вывели Стендаля на голубой заснеженный двор. Уже вечерело. Примораживало. Солнце спустилось к вершинам елей.
За высокой проволочной сеткой виднелось несколько темных холмиков.
– Ну вот, – сказал Артур Иванович. – Полагаем, простите, что это может вас заинтересовать. Поди сюда, баловница.
Один из холмиков зашевелился, и из него вытянулась вверх длинная шея с клювом на конце. Открылись стеклянные глупые глаза, страус поднялся на ноги и медленно, словно делал большое одолжение, подошел к загородке. Вид страуса был несколько необычен, ибо он казался одетым в толстую шубу – такие у него были длинные перья или шерсть, даже ноги были укутаны. В мороз он чувствовал себя легко и вольно, не подумаешь, что тропическое существо.
Артур Иванович угостил страуса конфетой, и тот вежливо взял ее сквозь сетку.
– Другие не встают, – сказал Артур Иванович, показывая на остальные холмики, из которых выросли длинные шеи и клювы повернулись к людям. – Другие на яйцах сидят. Это наше главное достижение. Что морозоустойчивые – куда ни шло, но что яйца на снегу научились высиживать – большое достижение. С пингвинами скрещивали. Внешний вид и размеры страуса, а повадки пингвиньи.
Стендаль смело сунул руку в загон, потрепал птицу по клюву и чуть не лишился пальца.
– Осторожнее, – укорил его Василий. – Он чужих не признает. Неукротимая птица.
– Значит, Миша, – подытожил Артур Иванович, – работаем мы в двух основных направлениях. Первое направление ты видал – это разноцветные животные. Вторая задача, которую решаем, – продолжал Артур Иванович, – приближение некоторых тропических животных, даже, простите за выражение, экзотических, к нашим условиям.
– Замечательно! – воскликнул Стендаль. – Вы разрешите написать об этом в нашей газете?
– Пиши, милый, – сказал Артур Иванович. – Пиши. Поможешь преодолеть трудности по внедрению в жизнь.
Они пересекли двор и пошли по просеке.
– А теперь, если хочешь, покажем тебе один незавершенный опыт, – предложил Артур Иванович. – Не для публикации, а для интереса.
Просека кончилась, упершись в поляну. Там находился загон, обнесенный толстыми бревнами.
Посреди загона стоял зубр, какого Стендалю не приходилось видеть даже в зоопарке. Ростом он превосходил Стендаля, в длину достигал трех метров, морда у него была тупая и безжалостная. Первобытное чудовище. Но, правда, натурального цвета. Стендаль, хоть и не трус, отступил на шаг от загородки.
– Внушает почтение? – спросил Терентий. – Вельзевулом зовут.
Вельзевул оглядел присутствующих маленькими злыми глазками и вдруг без предупреждения наклонил голову и бросился на людей. Бревна, из которых была сложена изгородь, содрогнулись от страшного удара, и по всему лесу прокатился жуткий гул. С деревьев посыпался снег, взлетели испуганно вороны. Зубр отошел на несколько шагов назад, чтобы возобновить нападение.
– Дикая сила, – сказал уважительно Артур Иванович. Он был здесь самый маленький, даже ниже и легче Клавочки, но единственный не отпрянул назад, когда зубр штурмовал бревенчатую преграду.
– Клава, ты готова?
– Готова.
– Смотри, осторожнее, – сказал Василий. Он был серьезен.
Что-то будет, понял Стендаль.
Клава подошла к изгороди, оперлась рукой о бревно и легко перелетела в загон.
– Стойте! – вырвалось у Стендаля.
Но никто не поддержал его.
Зубр медленно повел головой в сторону Клавы, пытаясь уразуметь своим маленьким мозгом, кто посмел нарушить его уединение.
– Ты, Миша, не беспокойся, мы не изверги, – улыбнулся Терентий. – Мы Клаву любим.
– Обратите внимание, пресса, – сказал Артур Иванович. – Это зрелище, простите за беспокойство, достойно внимания.
Клава спокойно ждала, пока зубр приблизится к ней. А тот сначала отступил для разгона и начал рыть снег копытом.
И вдруг с глухим ревом бросился на Клаву.
Та стояла прямо, дубленка распахнулась, шапочка чуть сбилась набок.
«Беги», – беззвучно шептал Стендаль.
Но Клавочка и не думала бежать. Она дотронулась кончиками пальцев до рогов несущегося Вельзевула, и все дальнейшее произошло так быстро, что Стендалю захотелось закричать, как при наблюдении хоккейного матча по телевизору: «Еще раз покажите! В замедленном темпе!»
Потому что Клава, взявшись за рога зубра, не только остановила эту махину, но и умудрилась неуловимым движением повалить зубра в снег.
И когда Стендаль опомнился, Клава уже стояла над тушей и придерживала ладошкой голову своего противника.
– Отпустить? – крикнула Клава.
– Отпусти, чего животное унижать, – откликнулся Артур Иванович. – И сюда беги, а то спохватится.
– Я быстро. – Клава отпустила зубра и легко побежала к изгороди. Зубр и не думал подниматься, он лежал, моргал глазками и переживал. Словно бандит, которому дал достойный отпор маленький ребенок.
Клавдия уже стояла рядом с мужчинами.
– И что ты думаешь, Миша, по этому поводу? – спросил Терентий.
– Ничего не думаю, – сознался Миша. – Она что, какое-то место знает, чтобы его выключить?
Клава весело засмеялась. Она приблизилась к журналисту, дотронулась тонкими пальчиками до его груди, и в тот же момент Стендаль понял, что поднимается в воздух. Земля находилась где-то далеко внизу и притом была наклонена. Там же, внизу, всей семьей стояли Зайки и, задрав головы, улыбались. А Клава держала Стендаля над головой на одной руке, и это не составляло для нее никаких трудностей, потому что она при этом спросила гостя:
– А скажите, Миша, это правда, что в гуслярском универмаге японские складные зонтики давали?
– Простите, я не в курсе, – откликнулся сверху Стендаль, хотя положение, в котором он находился, не склоняло к беседе о японских зонтиках.
– Отпусти его, Клава, – попросил Артур Иванович. – Он уже убедился. А то наука превращается в дешевые шутки.
Клава осторожно поставила Стендаля на снег.
– Пошли домой, – предложила она. – Надо мне отдохнуть.
Зубр медленно поднимался на ноги, отворачиваясь от унизивших его людей.
– Клава, иди вперед с Васей, – сказал Артур Иванович. – Ты помнишь, где глюкоза лежит?
– Сейчас, одну секундочку, – ответила молодая женщина, – надо еще одно дело сделать, а то всё руки не доходят.
Она свернула с дороги к вылезающему из чащи клыкастому пню в три обхвата.
– Осторожно, шубку не замарай, – предупредил ее Артур Иванович.
Клава легонько пошатала пень, как хирург пробует больной зуб, прежде чем взяться за него щипцами. Пень громко заскрипел.
– Ты его туда, в сторону положи, – сказал Василий. – Я его потом распилю.
Клава рванула пень, оглушительно взвыли рвущиеся корни, и откатила громаду, куда велел Василий.
– А теперь пошли, – сказала она, запахивая дубленку.
Василий с Клавой покинули гостя. Остальные вернулись в горницу к камину.
– Как тебе, Миша, достижения Клавы? – спросил Терентий.
– Я с нетерпением жду объяснений! – ответил Стендаль, прихлебывая из кружки квас, чтобы остудить свои чувства.
– Проще простого, – сказал Терентий. – Надо только задуматься. А мы, Зайки, очень даже любим задумываться.
Артур Иванович согласно кивнул.
– Вот ты задумывался, по какому принципу работают мышцы?
– Ну, сокращаются. И расслабляются.
– Это не принцип, – вздохнул Терентий. – А принцип у них – как у любого двигателя: сжигают топливо, выделяют энергию, совершают работу.
– Ну, разумеется, – согласился Миша.
– То-то, что не разумеется. Вот ты можешь, например, поднять двадцать килограммов.
– Больше, – утвердительно возразил Миша.
– А спортсмен может сто или даже двести. Для этого он такую массу мускулов на себе наращивает – смотреть страшно. И все чтобы жалких двести килограммов поднять. Очень неразумно мы устроены.
– Здесь, Тереша, прости за вмешательство, ты не прав, – блеснул голубыми глазами Артур Иванович. – Устроены мы разумно, только ограничитель стоит на нашей машине. Чтобы топлива на подольше хватило. Умный человек пятьдесят килограммов на спину взвалит и весь день топает. А топливо в мышцах себе горит, идет гликолиз, хранится актомиозин. Подробностей тебе говорить не будем, все равно, прости за недоверие, не поймешь.
– Не пойму, – покорно согласился Стендаль.
– А если нам нужно все топливо сразу истратить, костер зажечь? Ведь мышцы на это способны. Их волокна такой крепости и эластичности, что ты, Стендаль, прости, не представляешь. Может, помнишь, в школе опыты делали: лягушачью лапку электротоком раздразни, она целую гирю поднимет. Так вот, представь себе, что мы ограничитель сняли, подбросили в мышцу креатинфосфат. И пускай все топливо в мышцах сгорит за десять минут, зато результат достойный.
– А потом что? – спросил Стендаль. – Ведь природа жестоко наказывает тех, кто пренебрегает ее законами.
– Смотри, как правильно рассуждает! – обрадовался Терентий.
– А ты не злоупотребляй, – сказал Артур Иванович. – Сделал свое дело, сразу в постельку, прими компенсацию и следуй режиму. Что же это за изобретение, если во вред человеку? И пока мы не изобретем способа быстро в человеке потерянную энергию восстанавливать, мы наше средство в народ не пустим, не опасайся.
– А когда опыты закончите? – спросил Стендаль деловито.
Ему уже виделась статья, которая прославит его в журналистском мире.
– Не спеши. Может, еще год работать будем. А то получится опасное для окружающих баловство.
– Как жаль, что я не взял фотоаппарат!
– Еще успеешь.
Стендаль не слушал. Он уже представлял себе, какие возможности откроются перед людьми. Ведь если в мозгу у человека тоже есть мышцы, можно будет за минуту придумать то, над чем бьешься месяцами и впустую. Правда, эту мысль он высказывать вслух не стал, потому что не был уверен, есть ли в мозгу мускулы.
– И когда, вы думаете, можно будет об этих опытах написать?
– В конце лета приедешь, поговорим. А что, про мех и страусов для газеты не подойдет?
Стендалю даже стыдно стало, словно он опорочил другие, тоже важные открытия.
– Я и не думал так. Я обязательно напишу о ваших замечательных достижениях.
Но проблема мышечного ограничителя настолько захватила воображение журналиста, что он с трудом мог думать о чем-либо ином.
Автобус приехал в Гусляр в двенадцатом часу ночи. Он остановился на площади, и немногочисленные пассажиры вышли на скрипучий снег. Стендаль поежился от крепкого морозца, поднял воротник и поспешил домой.
Славный выдался день. День больших открытий и встреч с интересными людьми. Пройдет месяц, может, два. Зайки пришлют, как договорились, условленную телеграмму, и Стендаль сразу опубликует в газете статью об антиограничителе. Первым из всех журналистов мира. Таковы преимущества дружбы с великими изобретателями. А пока надо написать очерк о домашнем хозяйстве лесников. И там будет светлый образ отважной и работящей Клавы, такой простой и такой привлекательной женщины…
Жильцы
Грубин изобретал объемный телевизор.
В свое время он создал обыкновенный, потом собрал цветной, когда их еще не продавали в магазинах. Тот, цветной, показывал во всем великолепии красок любую черно-белую программу.
А теперь ему хотелось создать объемный. В любом случае это дело недалекого будущего, лет через десять – пятнадцать такой можно будет приобрести в кредит в любом специализированном магазине. Так чего же ждать?
Полгода Грубин трудился. Все свободные деньги он тратил на транзисторы, провода и кристаллы, соседи трижды жаловались в милицию – дышать невозможно из-за постоянных утечек инертных газов, спать трудно из-за ночных взрывов, к тому же часто перегорают пробки. Грубин оправдывался, спорил, сопротивлялся, но не уступал.
Профессор Минц, сам значительный ученый, зашел как-то к Грубину и сказал:
– Саша, я специально проглядел всю доступную литературу. На нынешнем уровне науки эта проблема практически неразрешима.
Минц стоял посреди комнаты, по пояс скрытый отвергнутыми моделями, схемами, поломанными деталями, инструментами, изоляционными материалами. Грубин отмахивался паяльником и возражал:
– Кто-то должен изобрести первым. Вы уперлись в невозможность и верите в нее. Я не верю и изобрету.
– Дело ваше, – вздохнул профессор Минц. – Я все-таки оставлю вам последние журналы по этому вопросу. Посмотрите на досуге. Куда положить?
– Куда хотите. Вряд ли я буду их читать. Вы думаете, что Галилей читал в журналах статьи о том, что Земля не вертится?
– Тогда не было журналов. Но я полагаю, что он был широким и любознательным ученым.
– Нет, не читал, – не слушая профессора, продолжал Грубин. – Он с детства знал, что Земля не вертится. Ему хотелось доказать обратное.
Минц все-таки оставил журналы. Он полагал, что Грубин кокетничает. Пахло паленой изоляцией.
Вечером того же дня Грубин демонстрировал частичные успехи соседу и другу Корнелию Удалову. Изображение на экране двоилось и было нечетким. Но порой казалось, что часть экрана заметно вспучивается, выгибаясь в комнату. Тогда Удалов говорил:
– Гляди, объем!
– Вижу, – отвечал Грубин. – Значит, в принципе достижимо. Главное – не читать тех самых статей.
Беда была в том, что объемной могла становиться, к примеру, рука диктора, или галстук, или, наконец, один из этажей дома. За счет выпуклости в экране образовывалась впадина. Электронные трубки не выдерживали и лопались.
– Одолжи сотню, – попросил Грубин. – Я на мели.
– Ты же знаешь, – огорчился Удалов, – Ксения уже прячет от меня деньги.
Но опыты продолжались. В начале ноября Грубин позвал Удалова поглядеть на очередное достижение. Диктор, читавший последние известия, наполовину вылез из экрана. Тут он прервал речь и оглянулся по сторонам, словно понял, что попал в другую комнату. Удалов приблизился к экрану и заглянул сбоку. Нос диктора был вне телевизора.
– Саша, – сказал Удалов, – какая же это объемность? Он в самом деле наружу вылез.
– А ты чего хотел?
– Должно только казаться.
– Вот тебе и кажется.
– Да ты встань на мое место, погляди!
– Чего глядеть? Уж нагляделся. Настоящая объемность должна быть со всех сторон.
Тут раздался взрыв, и трубка разлетелась на куски. Никто не пострадал. Удалов ушел ужинать.
Окончательная победа пришла к Грубину вечером в пятницу, когда не перед кем было похвастаться. Все ушли в кино.
Грубин включил первую программу. Показывали балет. Видно было, как далеко вглубь уходит сцена, как оттуда набегают на Грубина балерины. Одна с разбегу выскочила за рамку, но, видно, сообразила, что падает со сцены, ухватилась за край и перемахнула обратно.
Эпизод с балериной так взволновал Грубина, что он выключил телевизор и задумался. Ведь он мечтал о полной объемности изображения и добился своего. Но возник побочный эффект: для тех, кто был внутри телевизора, комната Грубина тоже казалась реальным миром. Балерина побывала вне экрана, но смогла вернуться.
Надо бы пойти к Минцу посоветоваться, какова физическая основа этого явления. Но Минц все поставит под сомнение, привлечет авторитеты и в результате докажет, что этого быть не может.
Значит, надо убедиться самому.
Грубин положил перед экраном подушку, чтобы чего не случилось, и снова включил телевизор.
Балет кончился. Показывали цирк. Элегантная дрессировщица в блестящем наряде ходила в глубине экрана и погоняла палочкой крупных животных – тигра, льва и медведя. Животные прыгали с тумбы на тумбу, рычали и становились на задние лапы. Дрессировщица никак не подходила к краю экрана, звери тоже оставались вдали. Грубин опечалился – дрессировщица ему понравилась. На мгновение ему пригрезилась судьба Пигмалиона, который изваял скульптуру и полюбил ее. Если бы дрессировщица вышла из телевизора, она бы осталась на некоторое время здесь, и Грубин узнал бы, как ее зовут. За грезами он упустил момент, когда дрессировщицу начали снимать другой камерой и она оказалась к Грубину спиной.
Лев надвигался на женщину, а она, отступая, как бы манила зверя за собой. Грубин потянулся к телевизору, чтобы выключить его. Он был согласен на дрессировщицу, но не терпел дома львов. Но выключить телевизор он не успел: в тот момент, когда его рука прикоснулась к кнопке, дрессировщица оступилась, споткнулась о край экрана, и лев, почуяв ее мгновенную слабость, прыгнул, скотина, на свою повелительницу. Дрессировщица сделала еще один быстрый шаг назад, конечно, не удержалась, с высоты рухнула на подушку у экрана, а за ней стрелой вылетел лев. И тут же трубка лопнула, посыпались осколки стекла, в телевизоре что-то зашипело, шипение передалось на громоздкую приставку, занимавшую чуть не половину комнаты, послышался треск, и стало темно – перегорели пробки.
Грубин ощупью выбрался из комнаты и, взяв в привычном месте свечу и спички, полез чинить пробки. Хорошо, что никого нет дома. Еще вчера Ксения Удалова предупреждала: «Пережжешь еще раз, Саша, добьюсь, что тебя выселят из дома, жизни не пожалею на это доброе дело».
Взбираясь на стремянку, Грубин краем уха прислушивался к тому, что происходит в его комнате. Разумеется, он понимал, что вся история с объемным изображением – кажущееся явление, но все равно встречаться со львом не хотелось.
Свет загорелся. Грубин не спеша слез со стремянки, потушил свечу и с минуту постоял перед своей дверью.
– Ну, – сказал он сам себе, – пошел, изобретатель.
Он приоткрыл дверь на сантиметр. Внутри было тихо и пусто. Как и следовало ожидать. Ни девушки, ни льва. Грубин подошел к телевизору и опечалился, потому что для продолжения опытов придется покупать новую трубку, а денег нет и занять не у кого.
Подушка перед экраном была завалена осколками трубки. Чем-то эти осколки напомнили Грубину новогоднюю елку. Он подумал, что на подушке придется спать, потому взялся за угол ее, чтобы стряхнуть осколки на пол, но тут его взгляд упал на нечто цветное. Грубин приподнял крупный осколок и увидел, что на подушке лежит дрессировщица – без чувств, ростом с цыпленка. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Ведь на экране все фигурки очень маленькие, и естественные человеческие размеры – плод воображения зрителей, а если телевизионное изображение выпадает из экрана, то оно должно быть меньше экрана.
Осознав это, Грубин оглянулся в поисках льва. Хоть лев был размером с крысу, по характеру он остается львом. Льва не было видно.
Дрессировщица лежала на подушке, очень похожая на настоящую. Грубину захотелось снова включить телевизор и поглядеть, осталась ли дрессировщица на арене, или тигр с медведем бегают без присмотра?
Грубин осторожно потрогал дрессировщицу пальцем, чтобы понять, пройдет ли палец насквозь или нет. Палец не прошел. На ощупь дрессировщица была теплой и упругой. От прикосновения она открыла глаза. Глаза были темные.
– Ну, не ожидал, – сказал ей Грубин с некоторой укоризной.
И в самом деле он ожидал иного. Если уж объемность оказалась такой реальной, лучше бы дрессировщица была ростом побольше.
Дрессировщица показалась Грубину совсем молоденькой. Даже странно, что в таком возрасте ее доверили хищникам.
– Ну, что мне с тобой делать? – спросил Грубин.
Девушка открыла рот, но никаких звуков не получилось.
Девушка заплакала, но беззвучно, словно звук выключили. В дверь постучали.
– Кто? – спросил Грубин.
Вместо ответа раздался крик.
Грубин обернулся. Удалов с побелевшими от ужаса глазами стоял в дверях, приподняв ногу, в которую вцепилось небольшое желтое животное.
– Не бойся, – сказал Грубин, – это лев.
Дрессировщица рыдала, а Грубин думал, как бы ей объяснить, что все обойдется. Вдруг она иностранка, гастролирует у нас? А вдруг начнется международный скандал?
– Какой еще лев? – возмущался Удалов, размахивая ногой, чтобы стряхнуть хищника. Хищник отлетел по дуге в сторону и исчез в груде бракованных транзисторов. – Ты чего крыс развел? Ты представляешь, если Ксения узнает?
– А ты ей не говори.
– Нельзя. Она все равно узнает. Я конспиратор никакой. Чего там у тебя?
Удалов подошел к Грубину и заглянул ему через плечо.
– Мама родная! – сказал он. – Куклами занялся!
В этот момент дрессировщица приподнялась на локте и попыталась сесть. Если встречу со львом Удалов еще пережил, то при виде ожившей дрессировщицы силы оставили его. Он опустил голову и тихо пошел вон из комнаты. Грубину бы его остановить, объяснить научность феномена, но мысли его были столь встревожены, что ухода друга он не заметил.
– Что же произошло? – спросил Грубин у дрессировщицы. – Пожалуй, тут нет ничего удивительного. Ведь все живое состоит из электронов. И ты из электронов. Так что мы с тобой в чем-то одинаковые. Только ты кажешься, а я настоящий.
Дрессировщица обратила к Грубину умоляющий взор и протянула тоненькие ручки.
– Просишь, чтобы вернул в телевизор? – спросил Грубин.
Дрессировщица закивала.
– Прости, но в настоящий момент у меня нет средств, чтобы приобрести новый кинескоп. Кроме того, боюсь, что есть повреждения в приставке. Придется потерпеть. Ты есть хочешь? А пить будешь? Значит, эти функции у тебя отсутствуют? Придется тебе пока отдыхать.
Грубин отыскал старую коробку из-под ботинок, положил в нее тряпочку и на всякий случай поставил блюдце с водой.
– Ложись, – сказал он. – Утро вечера мудренее.
Он перенес дрессировщицу в коробку и добавил:
– Если ты стесняешься, то я свет погашу.
Дрессировщица, конечно, ничего не ответила. Грубин подошел к шкафу, распахнул его и стал думать, что бы завтра продать – новый костюм или плащ? Решил, что все-таки продаст костюм, завернул его в бумагу. Потом заглянул в коробку. Дрессировщица не спала.
– Ну что ты будешь делать! – сказал Грубин. – Женщина есть женщина. Я на твоем месте давно бы спал.
Ночью Грубин проснулся от ужаса. Что-то шуршало неподалеку. Он вспомнил, что по комнате бродит взбешенный лев. Для Грубина он не опасен, а для девушки – страшный хищник.
Грубин вскочил и босиком пробежал к выключателю. Если девушку растерзали, то она, немая, не могла даже позвать на помощь.
Зрелище, представшее его глазам, успокоило и даже развеселило. Дрессировщица, не раздеваясь, спала на тряпочке, положив головку на живот льву. Видно, в темноте лев отыскал свою хозяйку. И правильно, лев-то ручной, только на чужих кидается.
Утром, пока гости из телевизора еще спали, Грубин сбегал, продал одному человеку костюм за полцены, дождался открытия универмага, купил кинескоп, кое-что перекусить и вернулся домой.
Дом жил субботней утренней жизнью. Профессор Минц сидел у окна, читал журнал, Ксения Удалова выбивала во дворе ковер, юный Гаврилов гулял по двору с транзисторным приемником наперевес, в коридоре Грубину встретилась какая-то кошка. Он сначала принял ее за льва, а потом встревожился: как бы кошка не пронюхала, что у него за жильцы.
С жильцами ничего плохого не произошло. Они проснулись, сидели в коробке, дрессировщица заплетала львиную гриву в косички, а при виде Грубина вскочила и стала делать руками выразительные движения, которые Грубин истолковал так: «Ну сколько это может продолжаться? Вы оторвали меня от близких и любимой работы, утащили в разгар представления. Будьте любезны вернуть меня в коллектив!»
– Сейчас, – ответил Грубин. – Примем меры. Не беспокойся. А ты ведь даже не представляешь, какое значение для мировой науки имеет твое существование…
Этого дрессировщица, как человек искусства, конечно, не поняла.
К вечеру Грубину удалось наладить телевизор. Дрессировщица ничего не пила, не ела. Лев тоже не требовал пищи.
Пора включать. Зажужжали лампы, включились печатные схемы, задрожали стрелки могучей телеприставки, и на экране возникла надпись: «Публицистическая студия «Дискуссионный клуб».
Тут же показали строительный пейзаж, уставленный башенными кранами, а на переднем плане стоял молодой человек с микрофоном в руке, который рассказывал зрителям о непорядках на этом строительстве. У ног молодого человека крутила поземка, подмораживало. Грубин хотел было, не тратя времени даром, отнести жильцов к экрану, но замешкался, потому что дрессировщица и лев были без теплой одежды. Пока он думал, как поступить, раздался грохот. Грубин увидел выражение ужаса на лице дрессировщицы. Он обернулся к экрану. Поздно…
Кинескоп снова лопнул, телевизор вышел из строя, и виной тому был молодой человек, выпавший из телевизора. Все еще сжимая в пальцах микрофон, он сидел на столе и стряхивал с себя мелкие осколки стекла.
– Этого еще не хватало! – в отчаянии воскликнул Грубин.
Когда Грубин пересаживал молодого человека в коробку из-под ботинок, тот отчаянно сопротивлялся и даже умудрился цапнуть Грубина за палец. Видно, находился в шоке, не соображал, что происходит. А звуков, как и девушка, не издавал.
При виде новенького лев замотал гривой, выражая недовольство. Зареванной девушке пришлось удерживать льва обеими руками, а молодой человек, не обращая на остальных жильцов внимания, принялся вылезать из коробки. Пришлось его отсадить в пустой ящик из-под гвоздей. Молодой человек принялся метаться по ящику и колотить в стенку кулачками.
Грубин совсем опечалился. Он попал в финансовую, научную и моральную пропасть. Придется обратиться за советом и помощью к профессору Минцу.
Стоило прийти к такому решению, как дверь в комнату распахнулась и на пороге возник сам профессор Минц, словно отчаянные мысли Грубина проникли сквозь стену.
– Здравствуйте, голубчик, – сказал профессор, протискиваясь к центру комнаты. – Говорят, здесь у вас чудеса.
– С Удаловым разговаривали?
– Что же делать, если вы таитесь. Говорят, что разводите желтых крыс и живых кукол. Так что же произошло?
– Сами поглядите. – Грубин, поддерживая профессора под локоть, подвел его к коробке из-под ботинок.
При виде огромной лысой головы профессора дрессировщица метнулась ко льву, словно ища защиты. Минц замер над коробкой, легонько почесывая кончик носа.
– Откуда? – спросил он наконец.
– Из телевизора, – признался Грубин. – Переборщил я с объемностью. Вот и стали вываливаться.
– А, фантомы, – успокоился профессор. – А я уж испугался, что вы начали опыты по минимализации живых людей.
– Как вам сказать… – возразил Грубин. – Что-то есть в них от живых людей. Даже переживают.
– Любопытно. Но давайте отвлечемся от эмоций.
Профессор протянул руку, чтобы взять дрессировщицу и рассмотреть ее поближе. Лев приподнялся на задние лапы и попытался прикрыть собой девушку.
– Очень любопытно, – повторил профессор, отбросив льва в угол коробки и умело подхватив дрессировщицу двумя пальцами. – Полное впечатление реальности…
– Вы ей не повредите? – спросил Грубин.
– Зачем же вредить? Я вижу, вы загипнотизированы функциональностью этих изображений и опускаетесь на уровень темного Удалова.
– Они же проявляют чувства.
– А чем питаются?
– Ничем.
– Вот видите! Вы, голубчик, оказались в положении зрителя перед телевизором, который верит приключениям, имеющим место на экране. А это всего-навсего сценарий и операторское мастерство.
– А вдруг это она и есть?
– Не понял.
– Та, что выступала. А вдруг она сюда переместилась?
– Простите, Саша, но с такими мистическими настроениями вам лучше науку бросить. Наука не терпит сантиментов. Идите в поэты, воспевайте фей и русалок, начните верить в привидения и астрологию.
В голосе профессора звучал металл. Для него наука была богом, семьей, возлюбленной, родной матерью – всем. Колебания он рассматривал как предательство.
– Этот голографический фантом я забираю с собой, – сказал Минц. – У вас еще есть?
– Есть еще один, – ответил Грубин. – В том ящике сидит.
– Добудьте еще несколько образцов. Мы должны оперировать не случайными находками, а широким ассортиментом экземпляров.
Дрессировщицу он все еще держал двумя пальцами.
– Вот вам деньги. На три кинескопа. Потом рассчитаетесь. Наука требует жертв. Кстати, загляните потом ко мне, возьмите аргентинский сборник. Там статья Рудольфа Перейры о возможной фантомизации при стереоэффектах. Оттуда сможете многое почерпнуть в теоретическом плане. И еще одно: как только пустите установку, вызовите меня.
От двери Минц обернулся и добавил:
– Я рад за вас, коллега. Вы сделали большое дело. Учиться надо.
Дрессировщица простирала к Грубину ручки. Дверь за профессором захлопнулась. Грубин заглянул в коробку. Лев в отчаянии лежал на дне, положив голову на лапы.
– Нет! – крикнул Грубин, бросаясь за профессором. Он налетел на стол, ушиб колено, опрокинул на пол стопку печатных схем. – Стойте!
Спина профессора была уже в конце коридора.
– Что такое?
– Пускай она пока у меня побудет.
– Вы о ком?
– Пускай девушка у меня побудет. Лев очень переживает.
– Какой еще лев?
– Отдайте, пожалуйста.
– Саша, я поражен, – сказал Минц. – Из вас никогда не получится настоящего экспериментатора. Вы даете чувствам обмануть себя.
Грубин подошел к профессору и протянул ладонь.
– Ах вот что, – насупился профессор. – Ясно. Держите свое сокровище.
Профессор передал девушку Грубину и развел руками.
– Простите, – сказал он сурово. – Я не сразу понял. Но должен вас заверить, что у меня и в мыслях не было примазываться к чужой работе и славе. Так что ваши опасения беспочвенны.
Высказавшись, профессор сердито потопал по коридору, к лестнице.
– Лев Христофорович! – крикнул вслед Грубин. – Вы не так поняли!
– Еще как понял! Не впервые сталкиваюсь с такими настроениями в научных кругах. Деньги можете пока не возвращать. Я не мстителен.
Ступеньки взвизгнули под тяжелыми шагами профессора.
– Эх, – махнул свободной рукой Грубин. – Как вам объяснишь!
Словно муха пробежала по ладони: дрессировщица, сидя там, неловко повернулась и задела его каблучком. «Ну что ж, – подумал Грубин, – настоящего ученого из меня не выйдет. А жаль».
Грубин возвратил дрессировщицу в коробку и сказал:
– Пойду за новым кинескопом. Учти, если не получится, придется тебе остаться тут навсегда. Средства у нас кончились.
Лев прыгал по коробке, как котенок, радовался встрече.
Грубин вернулся через час, склоняясь под тяжестью трех кинескопов. Первым делом он проверил, как себя чувствуют жильцы. В коробке было мирно, а вот журналист исчез. Исхитрился вылезти из ящика. Вот незадача. Сейчас бы работать, каждая секунда на счету, а надо искать беглеца. А то станет жертвой какой-нибудь котики.
– Что делать? – спросил Грубин дрессировщицу. Как старый знакомый, он рассчитывал на сочувствие.
Дрессировщица вскочила, не понимая, что еще стряслось.
– Пропал твой напарник, – объяснил Грубин. – Сбежал. Где искать – ума не приложу.
Дрессировщица задумалась, а потом показала на льва.
– Предлагаешь использовать? Умница! А то мне без помощников час пришлось бы потратить – видишь, какой здесь беспорядок? Как бы только лев его не покалечил.
Грубин выпустил жильцов из коробки, а сам принялся за работу.
Для дрессировщицы со львом комната казалась минимум городской свалкой в несколько гектаров. Они медленно пробирались сквозь завалы, и порой Грубин терял их из виду. Минут через десять Грубин настолько увлекся любимым делом, что забыл о жильцах. Прошло еще полчаса, прежде чем он спохватился: где же они? Он вскочил, принялся крутиться, осторожно переступая, чтобы не наступить на них невзначай.
Увидел он жильцов в необычном месте. Они сидели в ряд на грубинском галстуке, забытом под столом. Втроем. Дрессировщица увидела в вышине встревоженное лицо Грубина и помахала ему, утешая: продолжай, мол, трудиться, мы уж как-нибудь без тебя разберемся.
Грубин вернулся к установке. Но бывает же так: нужно спешить, а работа не клеится. До позднего вечера бился Грубин. Даже не поел.
Для жильцов время тянулось еще медленнее. Они забрались в коробку – все-таки свой угол, – о чем-то переговаривались знаками. Порой молодой человек принимался взволнованно ходить из угла в угол, а лев поворачивал голову ему вслед.
Наступила ночь. Грубин не ложился. Ему казалось, что жильцы побледнели. Их электронная структура в любой момент могла отказать – и погибнут люди. Ничего не оставалось, как работать и надеяться.
В половине пятого Грубин не выдержал, свалился на кровать, а когда очнулся, уже наступило воскресенье. Три часа коту под хвост! Он метнулся к коробке, как мать к колыбельке больного младенца. Жильцы спали – лев посередке, люди по бокам, прижавшись к зверю.
При виде этой картинки Грубин смахнул набежавшую слезу. Притащил махровое полотенце, накрыл спящих и обернулся к машине.
– Нет, – прошептал он, – ты покоришься!
Он стиснул зубы и схватил отвертку, словно винтовку. И через час сопротивление телевизора было сломлено. Начали разгораться лампы, дрогнули стрелки приборов, и знакомый гул наполнил помещение.
Главное теперь – не упустить момент. Грубин был как сапер, который ошибается лишь раз. Если кто-то еще вывалится из экрана или перегорит трубка – лучше пулю в лоб.
По экрану пошли цветные полосы. Грубин бросился к коробке, подхватил ее – и обратно к телевизору. От сотрясения жильцы проснулись и хлопали глазами от ужаса и непонимания.
– Держитесь, ребята! – воскликнул Грубин. – Сейчас или никогда!
На просветлевшем экране обозначилась группа поющих детей. Спиной к экрану стоял дирижер. Он находился в опасной близости от рамы, и поэтому, выхватывая из коробки пленников и бросая их без церемоний внутрь, Грубин не спускал с дирижера глаз.
Жильцы так и не поняли, что же произошло. Один за другим они оказались внутри телевизора – дрессировщица, молодой человек и лев. Дети, увидев льва, бросились врассыпную, дирижер отпрыгнул, и хорошо еще, что Грубин его подстраховал – подхватил на лету и кинул обратно… Продолжения этой драматической сцены Грубин не увидел. Раздался страшный треск. На всей улице вылетели пробки, в комнате зазвенели стекла и распространились горелые запахи…
